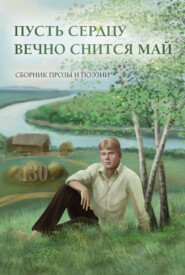По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наше Рождество. Рассказы, очерки, воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего-таки, будет! только вот тятька беспременно заругает.
– За что?
– А я еще утрось из дому убег, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор… то есть с утра с раннего, – прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: – «На заре ты ее не буди…»
– Кто тебя научил этой песне?
– А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.
– Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?
– А то нет? сказано: с утра раннего… неужто ж пропустить экой праздник!
– А дома у вас разве нет елки?
– Какая елка! У нас и хлеба поди нет… чем еще разговеемся завтра!
Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в tapis francs[3 - Притоны (франц)] и запанибрата разговаривал с шуринерами. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.
– Хочешь ко мне пойти? – спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.
– Я тебе пряников дам, – продолжаю я.
– Мне что пряники! – говорит он, – я, пожалуй, и вино пью.
Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.
– Что ж, я и вина дам, – говорю я.
Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.
Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.
– Это еще кого привели? – сердито ворчит он.
Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.
– Есть у нас пряники, Гриша? – спрашиваю я.
– Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! – говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: «Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!»
– Ну, нет ли хоть яблок, винограду? – говорю я, несколько смущенный.
– Этому-то слюняю я винограду дам? – восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.
Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением – не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.
– Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! – говорит Гриша, – а то еще винограду выдумали!
– Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, – говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.
– Да и вина уж кстати подай, холоп! – прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.
– Ах ты мозглец ты этакой! – кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, – ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!
Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.
– Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, – говорю я, возвышая голос.
– Ну, что же! – отвечает Гриша, – пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!
Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.
– Дай ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!
Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.
Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.
– Ишь шельмец какой! – замечает Гриша.
Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: «Ишь постреленок!», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.
– Что ж ты не берешь яблок? – спрашиваю я.
– На что мне?.. Разве сестрам взять?
– А много у тебя сестер?
– А кто их знает? я не считал…
– Ишь пострел! – отзывается Гриша.
– Как же они теперь праздник встречают?
– Спят, чай… Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо…
– Ну, а велики ли у тебя сестры?
– Одна есть большая, а другие – мелюзга.
– И мать у вас есть?
– Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает… больно уж он ноне зашибаться зачал – это, пожалуй, и не ладно уж будет!
– За что ж он ее бьет?
– За что бьет! пришла – не так, и ушла – не так! вот и бьет!
– За что?
– А я еще утрось из дому убег, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор… то есть с утра с раннего, – прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: – «На заре ты ее не буди…»
– Кто тебя научил этой песне?
– А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.
– Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?
– А то нет? сказано: с утра раннего… неужто ж пропустить экой праздник!
– А дома у вас разве нет елки?
– Какая елка! У нас и хлеба поди нет… чем еще разговеемся завтра!
Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в tapis francs[3 - Притоны (франц)] и запанибрата разговаривал с шуринерами. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.
– Хочешь ко мне пойти? – спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.
– Я тебе пряников дам, – продолжаю я.
– Мне что пряники! – говорит он, – я, пожалуй, и вино пью.
Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.
– Что ж, я и вина дам, – говорю я.
Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.
Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.
– Это еще кого привели? – сердито ворчит он.
Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.
– Есть у нас пряники, Гриша? – спрашиваю я.
– Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! – говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: «Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!»
– Ну, нет ли хоть яблок, винограду? – говорю я, несколько смущенный.
– Этому-то слюняю я винограду дам? – восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.
Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением – не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.
– Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! – говорит Гриша, – а то еще винограду выдумали!
– Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, – говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.
– Да и вина уж кстати подай, холоп! – прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.
– Ах ты мозглец ты этакой! – кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, – ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!
Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.
– Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, – говорю я, возвышая голос.
– Ну, что же! – отвечает Гриша, – пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!
Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.
– Дай ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!
Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.
Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.
– Ишь шельмец какой! – замечает Гриша.
Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: «Ишь постреленок!», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.
– Что ж ты не берешь яблок? – спрашиваю я.
– На что мне?.. Разве сестрам взять?
– А много у тебя сестер?
– А кто их знает? я не считал…
– Ишь пострел! – отзывается Гриша.
– Как же они теперь праздник встречают?
– Спят, чай… Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо…
– Ну, а велики ли у тебя сестры?
– Одна есть большая, а другие – мелюзга.
– И мать у вас есть?
– Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает… больно уж он ноне зашибаться зачал – это, пожалуй, и не ладно уж будет!
– За что ж он ее бьет?
– За что бьет! пришла – не так, и ушла – не так! вот и бьет!