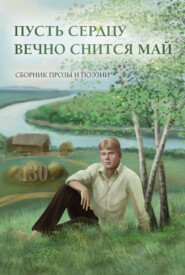По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
#Летовнутри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И нельзя вам Русский Дух сломать,
Пока может женщина-водитель
Волка в поле голыми руками взять.
«Решили мыши…»
Решили мыши
Жить на крыше.
В подвале холодно и сыро,
А с крыши видно
Другие крыши,
Сиянье окон
Ночного мира.
Не знали мыши,
Что и на крыше
Всё так же
Холодно и сыро,
А в холод зимний
Не станут мыши
Смотреть на окна
Ночного мира.
Решили мыши
В подвал вернуться
И жить как прежде
И в дождь, и в холод.
Собрав пожитки, вернулись мыши,
И был мышиный путь недолог.
Прошли недели,
Узнали мыши:
Не все решили
Назад вернуться,
Остались двое.
Они мечтали
К ночному миру
Чуть прикоснуться.
Им будет лучше вдвоём на крыше,
Они не будут сидеть в подвале.
Им очень нужно
Смотреть на крыши
Другого мира,
Ночные дали.
Ольга Вологодская
Лето всегда было любимым временем года. Может быть, оттого, что появилась на свет в августе тринадцатого в Вологодской области, а выросла в Костромской, где лето так коротко. С 1988 г. живёт в Крыму, и уже давным-давно все времена года хороши и долгожданны. Но всё же лето всегда особенно. В одном (взрослом) живут тихие тёплые ночи, пение цикад, прохладные горные фёны. В другом лете из детства (которое всегда рядом) аромат луговых трав, терпкий привкус черёмухи, тёмные и всегда студёные воды лесных речушек и небо, которое видишь только в детстве и не замечаешь, становясь взрослым.
Вкус июньского дня
В Крыму летом дождя не бывает много. Его всегда в самый раз.
Меня встречает хозяйка домика на горе. Она несёт в полусогнутой руке запрятанное за синеватым прочным стеклом пронизанное июньскими травами парное молоко. Я бережно подхватываю небрежно протянутый дар, после чего мы с хозяйкой домика перебрасываемся парой фраз о том, какой хороший и щедрый был дождь, и как вовремя, и что, возможно, после него пойдут грибы, и что цепь у бедолажного пса слишком коротка и некому с ним гулять и собирать те грибы, а бедолажный Дик тем временем почти полностью поместился в десятилитровой железной кастрюле, жадно вылизывая остатки коровьего корма. Скорее всего, это пшеничные отруби, перемешанные с водой. Вздохнув ещё пару раз над горемыкой Диком, я разворачиваюсь в тягучей грязи, пристающей ещё сильнее, хотя куда сильнее, она и так уже упитанно облепила сиреневые резиновые сапоги, отчего походка моя отнюдь не грациозна. Густая глина так и норовит подловить на неосторожном шаге, чтобы не только сапоги оказались смазаны коричневым маслом. Но я не поддаюсь на её хитрости и уверенно продвигаюсь к покрытой надёжным гравием дороге. Вдоль неё стоят новёхонькие электрические столбы с невидимыми в сумеречном воздухе проводами, с которых задиристо возвещает всему миру о своём счастье маленький скворец. Вся его крохотная фигурка, чёрная, идеально отточенная от кончика хвоста до острого, как игла, клюва, вся она устремлена к небу. Опущенный к земле веером хвост мягко переходит в округлое, похожее на восьмёрку туловище, и наконец та самая игла, точно направленная в небо, и из этой тоненькой иглы, восьмёрки, веера, всей этой тёмной стремнины несётся ввысь благодарственный псалом: трель за трелью, а ноты всё выше, выше, выше, после которых следуют затейливые всплески и радостные приветствия:
– Спасибо, тр-р-рель, спа-с-сибо за т-трель, спа-сси-бо н-не-бу за дд-ень, спа-ссибо за радосс-тный д-де-ннь!
И я смотрю уже вовсе не на птицу, а в распахнутое небесное окно, из которого слушают, слушают благодарного певца. Я прижимаю к себе тёплое стекло и иду дальше по щебнистой сползающей вниз дороге, над которой склонились колючие коромысла шиповника, увенчанные поверху юными розовыми цветками. В их чашечках перекатываются крупные дождинки, и от этого колючие коромысла опускаются ещё ниже. Мой взгляд плавно скользит к кронам деревьев, погрузившимся в сырые дремучие мысли, я всматриваюсь в закруглённые отяжелевшие очертания осин, чья тягучая зелень замерла в ожидании прохладной ночи, а затем передо мной возникает белая вуаль. Она окутала Заколдованную гору, по которой можно бродить часами и не отыскать выхода, даже если ты находишься в полусотне метров от нашего села. Вуаль эта не чисто белоснежна – она подобна молоку, сильно разбавленному водой, если плеснуть его на стекло. И сейчас вся Заколдованная гора растаяла в этом разбавленном молоке. Мир вокруг меня в один миг треснул и разделился надвое. Там – нечто несуществующее, Заколдованная растворившаяся гора, окутанная зыбкой белёсой приманкой. Некто невидимый мне сообщает – я не подвластен тебе, я твоя химера, меня нет. Я отворачиваюсь, не в силах справиться с этой иллюзией и проникнуть сквозь завесу таинственного мифа. Мой взор устремляется к небу. Мне гораздо понятнее его бесконечное поле, укутанное серо-сиреневыми сплошными рядами пузатых мешков-облаков. Мешки наполнены чем-то лёгким, возможно чистым кислородом, или водородом или гелием, смотря, что там у них сейчас в моде. Они стелются, толкаются, ползут друг за другом, нависают всё ниже и ниже. У них нет границ, им подвластно всё небо. Небо, в котором всегда есть открытое и никем надолго не занятое пространство, куда неожиданно врывается позолоченный закат. Серые мешки в замешательстве. Невидимые руки матросов тянут морские узлы, отпускают канаты, и вот – посреди серого моря мешков-облаков, под золотом солнца – вздымается алый парус – дерзко и неудержимо. Я улыбаюсь ему. У него свой путь, у меня свой.
Направляюсь мимо пышного конского щавеля, что ещё вчера снисходительно поглядывал на меня сверху, а сегодня склонил густые соцветия в низком бархатном поклоне.
Тут моя дорога заканчивается. Я открываю калитку, затем закрываю её на узенький затвор, прохожу едва виднеющейся садовой дорожкой мимо дышащего прохладой цветника и вхожу в дом. Ставлю драгоценный сосуд на стол, открываю крышку, из-под которой вырывается на волю собранный за день дождь, сочная сладость созревшей лесной земляники, чистота полевых ромашек и лёгкий вздох полыни, а ещё – благодарственная песнь небу. Всё это выливается в огромную кружку, на боку которой примостилась пара васильков. Я распахиваю окно, усаживаюсь на широкий подоконник и медленно выпиваю прожитый миром июньский день.
Полчаса июльского счастья
– Билетов нет! – два простых слова от громкой невидимой при моём росте тётеньки означают одно – последний автобус в наше село этим июльским днём будет трястись три с половиной часа без нас – без меня и моей мамы, которая в панике подхватывает меня на руки и пытается пропихнуть мою голову, увенчанную синими бантами, в узенькое отверстие. Я от ужаса зажмуриваю глаза, чтобы не видеть громкую тётеньку. Но шантаж не срабатывает:
– Сказала, билетов нет. Следующего пропустите.
Очередь сочувственно вздыхает, возмущается и легонько подталкивает нас подальше от окошка. Я благополучно опускаюсь на положенный мне в моём шестилетнем возрасте рост. Мама тем временем тянет одной рукой меня, а другой тяжёлый чемодан к выходу. Я знаю, что случится дальше. Мы поедем на выезд из круглого города. Иначе его не назвали бы так. Город начинается со слова шар, а значит, он круглый. На выезде круглого города мама выставит меня, как щит, перед собой возле двух столбиков, к которым приколочена узкая, когда-то, возможно, белая доска. Сейчас она серая и усыпана мелкими лепёшками грязи. Я ещё не умею читать, но знаю, что на ней написано. Пять жирных букв, перечёркнутых косой красной линией, читать следует так: Шарья?. Зачем перечёркивать город красной линией, я не понимаю. Ответ от мамы, что здесь заканчивается Шарья, меня вводит в ещё более загадочное состояние. Потому что с обратной, более белой стороны, на которой и грязи поменьше, Шарью перечеркнуть красной линией позабыли.
Пока может женщина-водитель
Волка в поле голыми руками взять.
«Решили мыши…»
Решили мыши
Жить на крыше.
В подвале холодно и сыро,
А с крыши видно
Другие крыши,
Сиянье окон
Ночного мира.
Не знали мыши,
Что и на крыше
Всё так же
Холодно и сыро,
А в холод зимний
Не станут мыши
Смотреть на окна
Ночного мира.
Решили мыши
В подвал вернуться
И жить как прежде
И в дождь, и в холод.
Собрав пожитки, вернулись мыши,
И был мышиный путь недолог.
Прошли недели,
Узнали мыши:
Не все решили
Назад вернуться,
Остались двое.
Они мечтали
К ночному миру
Чуть прикоснуться.
Им будет лучше вдвоём на крыше,
Они не будут сидеть в подвале.
Им очень нужно
Смотреть на крыши
Другого мира,
Ночные дали.
Ольга Вологодская
Лето всегда было любимым временем года. Может быть, оттого, что появилась на свет в августе тринадцатого в Вологодской области, а выросла в Костромской, где лето так коротко. С 1988 г. живёт в Крыму, и уже давным-давно все времена года хороши и долгожданны. Но всё же лето всегда особенно. В одном (взрослом) живут тихие тёплые ночи, пение цикад, прохладные горные фёны. В другом лете из детства (которое всегда рядом) аромат луговых трав, терпкий привкус черёмухи, тёмные и всегда студёные воды лесных речушек и небо, которое видишь только в детстве и не замечаешь, становясь взрослым.
Вкус июньского дня
В Крыму летом дождя не бывает много. Его всегда в самый раз.
Меня встречает хозяйка домика на горе. Она несёт в полусогнутой руке запрятанное за синеватым прочным стеклом пронизанное июньскими травами парное молоко. Я бережно подхватываю небрежно протянутый дар, после чего мы с хозяйкой домика перебрасываемся парой фраз о том, какой хороший и щедрый был дождь, и как вовремя, и что, возможно, после него пойдут грибы, и что цепь у бедолажного пса слишком коротка и некому с ним гулять и собирать те грибы, а бедолажный Дик тем временем почти полностью поместился в десятилитровой железной кастрюле, жадно вылизывая остатки коровьего корма. Скорее всего, это пшеничные отруби, перемешанные с водой. Вздохнув ещё пару раз над горемыкой Диком, я разворачиваюсь в тягучей грязи, пристающей ещё сильнее, хотя куда сильнее, она и так уже упитанно облепила сиреневые резиновые сапоги, отчего походка моя отнюдь не грациозна. Густая глина так и норовит подловить на неосторожном шаге, чтобы не только сапоги оказались смазаны коричневым маслом. Но я не поддаюсь на её хитрости и уверенно продвигаюсь к покрытой надёжным гравием дороге. Вдоль неё стоят новёхонькие электрические столбы с невидимыми в сумеречном воздухе проводами, с которых задиристо возвещает всему миру о своём счастье маленький скворец. Вся его крохотная фигурка, чёрная, идеально отточенная от кончика хвоста до острого, как игла, клюва, вся она устремлена к небу. Опущенный к земле веером хвост мягко переходит в округлое, похожее на восьмёрку туловище, и наконец та самая игла, точно направленная в небо, и из этой тоненькой иглы, восьмёрки, веера, всей этой тёмной стремнины несётся ввысь благодарственный псалом: трель за трелью, а ноты всё выше, выше, выше, после которых следуют затейливые всплески и радостные приветствия:
– Спасибо, тр-р-рель, спа-с-сибо за т-трель, спа-сси-бо н-не-бу за дд-ень, спа-ссибо за радосс-тный д-де-ннь!
И я смотрю уже вовсе не на птицу, а в распахнутое небесное окно, из которого слушают, слушают благодарного певца. Я прижимаю к себе тёплое стекло и иду дальше по щебнистой сползающей вниз дороге, над которой склонились колючие коромысла шиповника, увенчанные поверху юными розовыми цветками. В их чашечках перекатываются крупные дождинки, и от этого колючие коромысла опускаются ещё ниже. Мой взгляд плавно скользит к кронам деревьев, погрузившимся в сырые дремучие мысли, я всматриваюсь в закруглённые отяжелевшие очертания осин, чья тягучая зелень замерла в ожидании прохладной ночи, а затем передо мной возникает белая вуаль. Она окутала Заколдованную гору, по которой можно бродить часами и не отыскать выхода, даже если ты находишься в полусотне метров от нашего села. Вуаль эта не чисто белоснежна – она подобна молоку, сильно разбавленному водой, если плеснуть его на стекло. И сейчас вся Заколдованная гора растаяла в этом разбавленном молоке. Мир вокруг меня в один миг треснул и разделился надвое. Там – нечто несуществующее, Заколдованная растворившаяся гора, окутанная зыбкой белёсой приманкой. Некто невидимый мне сообщает – я не подвластен тебе, я твоя химера, меня нет. Я отворачиваюсь, не в силах справиться с этой иллюзией и проникнуть сквозь завесу таинственного мифа. Мой взор устремляется к небу. Мне гораздо понятнее его бесконечное поле, укутанное серо-сиреневыми сплошными рядами пузатых мешков-облаков. Мешки наполнены чем-то лёгким, возможно чистым кислородом, или водородом или гелием, смотря, что там у них сейчас в моде. Они стелются, толкаются, ползут друг за другом, нависают всё ниже и ниже. У них нет границ, им подвластно всё небо. Небо, в котором всегда есть открытое и никем надолго не занятое пространство, куда неожиданно врывается позолоченный закат. Серые мешки в замешательстве. Невидимые руки матросов тянут морские узлы, отпускают канаты, и вот – посреди серого моря мешков-облаков, под золотом солнца – вздымается алый парус – дерзко и неудержимо. Я улыбаюсь ему. У него свой путь, у меня свой.
Направляюсь мимо пышного конского щавеля, что ещё вчера снисходительно поглядывал на меня сверху, а сегодня склонил густые соцветия в низком бархатном поклоне.
Тут моя дорога заканчивается. Я открываю калитку, затем закрываю её на узенький затвор, прохожу едва виднеющейся садовой дорожкой мимо дышащего прохладой цветника и вхожу в дом. Ставлю драгоценный сосуд на стол, открываю крышку, из-под которой вырывается на волю собранный за день дождь, сочная сладость созревшей лесной земляники, чистота полевых ромашек и лёгкий вздох полыни, а ещё – благодарственная песнь небу. Всё это выливается в огромную кружку, на боку которой примостилась пара васильков. Я распахиваю окно, усаживаюсь на широкий подоконник и медленно выпиваю прожитый миром июньский день.
Полчаса июльского счастья
– Билетов нет! – два простых слова от громкой невидимой при моём росте тётеньки означают одно – последний автобус в наше село этим июльским днём будет трястись три с половиной часа без нас – без меня и моей мамы, которая в панике подхватывает меня на руки и пытается пропихнуть мою голову, увенчанную синими бантами, в узенькое отверстие. Я от ужаса зажмуриваю глаза, чтобы не видеть громкую тётеньку. Но шантаж не срабатывает:
– Сказала, билетов нет. Следующего пропустите.
Очередь сочувственно вздыхает, возмущается и легонько подталкивает нас подальше от окошка. Я благополучно опускаюсь на положенный мне в моём шестилетнем возрасте рост. Мама тем временем тянет одной рукой меня, а другой тяжёлый чемодан к выходу. Я знаю, что случится дальше. Мы поедем на выезд из круглого города. Иначе его не назвали бы так. Город начинается со слова шар, а значит, он круглый. На выезде круглого города мама выставит меня, как щит, перед собой возле двух столбиков, к которым приколочена узкая, когда-то, возможно, белая доска. Сейчас она серая и усыпана мелкими лепёшками грязи. Я ещё не умею читать, но знаю, что на ней написано. Пять жирных букв, перечёркнутых косой красной линией, читать следует так: Шарья?. Зачем перечёркивать город красной линией, я не понимаю. Ответ от мамы, что здесь заканчивается Шарья, меня вводит в ещё более загадочное состояние. Потому что с обратной, более белой стороны, на которой и грязи поменьше, Шарью перечеркнуть красной линией позабыли.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: