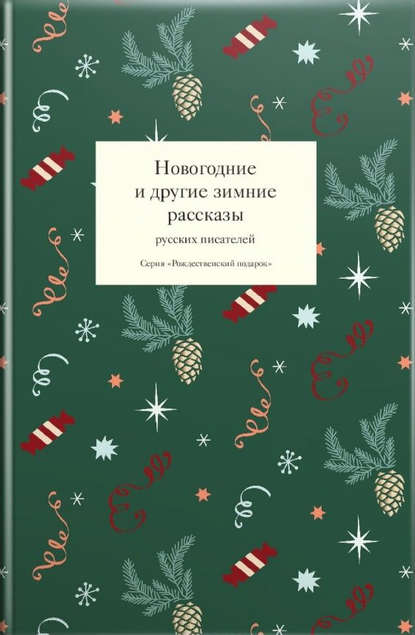По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как, батюшка? – спросила трепещущая от страха при мужниных словах княгиня.
– Так же, сударыня! Вот наш зять, люби его и жалуй.
С этим словом он сложил руки своей дочери и адъютанта и, сжав их вместе, сказал:
– Поцелуй ее теперь в губы, а не в ногу: это приличней нашему брату воину.
Слезы, восклицания благодарности, коленопреклонения и все везде описанные изъяснения радостного восторга заставили плакать не одну бригадиршу. Княгиня, видя, что уж нечего делать, принуждена была радоваться, когда самовластный во многих случаях супруг ей сказал:
– Что же ты не обнимаешь зятя? Разве бы тебе приятнее было, чтобы она, открывшись в любви к одному человеку, вышла за другого с тем, чтоб его обманывать, или, узнав, что ему известна страсть ее, стыдиться, а может быть, презирать мужа, который взял ее не по склонности, из одного приданого, и быть вечной страдалицей? Чем он тебе не нравится? Он не чиновен, но кто помешает ему дослужиться до чинов? Он беден, да мы за себя и за него богаты. Род его честный и благородный, а главное то, что он ей мил и мне люб: впрочем, не мы его искали, не он хитростью или силой вошел в наше семейство, – Бог его нам дал; а от Него, как сама знаешь, всякое деяние благо, всяк дар совершен. Ну, дети, да благословит вас Бог!
– Да благословит вас Бог! – примолвила княгиня…
И чрез несколько дней была празднуема нечаянная свадьба моего прадеда.
1834
Нестор Кукольник (1809–1868)
Леночка, или Новый, 1746 год
I
– Батюшки-светы! Олександро Сергеич! Ты ли это?..
– Безотменно я, сам, своею персоною и с прикладом сынишки…
– Неужели у тебя такой большой сын?
– Ростом, да не летами. Подросток, недоросль; всего-то ему двадцать третий годок пошел… привез в резиденцию. Хочу ему тут амплуа отыскать. Да теперь трудненько будет. Милостивцев моих протекторов нет… Об них, чай, официально нигде и не разговаривают…
– Полноте, Олександро Сергеич! Что ты это! Служил при Бироне! Ну, служил, велика беда. Все тогда сервису искали у герцога… Ты ведь в политичных его маневрах тейльнаму (участия) никакого не принимал…
– Какой тейльнам! Я, как только смекнул про семеновские прожекты,[17 - Семеновские прожекты – подготовка дворцового переворота, совершенного в 1741 г. гвардией, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна.] на параде с коня повалился и будто у меня большая маладия[18 - Маладия (фр. maladie) – болезнь, недомогание.] приключилась; так и пролежал во всю суматоху. Да что ты станешь чинить, когда моему малёру[19 - Малёр (фр. malheur) – несчастье, беда.] не поверили и учали следствие производить. Я догадался, чего им хочется; в отставку – и дня не задержали, абшид гонорабельный[20 - Абшид гонорабельный – почетная отставка.] прислали и паспорт на выезд от Татищева. Я опять догадался, скорее в деревню спрятался. Ты, Иван Иваныч, милитерного[21 - Милитерный (фр. militaire) – воинский.] нрава и обычая не знаешь; ты живописных дел мастер, а мы-то в чине поручика гвардии по всем дворцам ходили, всякое видели! Того и жди, подслушают, к Петру Ивановичу спровадят. Не о том теперь речь. Остановился я на почтовом дворе. Оно все-таки и почтовый двор, а все кабаком пахнет. Да и оставаться же там надолго непрезентабельно; и еще в какой грустный комераж[22 - Комераж (фр. commerage) – пересуд, сплетни.] попадешь. Не знаешь ли квартеры, ранга к достатку моему конвенабельной…[23 - Конвенабельный (фр. convenable) – приличный, надлежащий, соответствующий.]
– И весьма знаю. У Ивана Ивановича Вешнякова.
– У тебя?
– У меня! И к тому же я теперь коллежскую асессорию имею, так и не стыдно будет…
– Поздравляю, душевно поздравляю… Ну а принципал твой, фон Растреллий?
– И он повышен. Уже теперь не фон, а де Растрелли.
– Вот как! Из немцев в французы…
– Перестаньте, Олександро Сергеевич! Переезжайте лучше ко мне, так наболтаемся еще вдоволь…
– Быть по-твоему. Все равно кому платить; а где же ты живешь?
– На самом юру… Изволишь видеть, за этим плацем на речке Мойке дома разбросаны; тут живут и коллежские, и статские советники, да и сам Его Превосходительство господин Шаргородский тут резиденцию имеет. Тут все равно что в Миллионной или в Морской. Конечно, на Невской першпективе или в другом месте можно за алтын жить, да ведь и я с тебя дорого не возьму. Тут все одна богатель, самая знатная чиновность живет. А дом мой – вон с зеленой крышей и с красными трубами…
– Ошибиться трудно. Ну, так и бери же ты моего сынишку, а я отправлюсь на почтовый двор. Прощай!
– До плезиру вас видеть!
Александр Сергеевич пошел к Миллионной, а Вешняков с подростком к куче домов, которые занимали весь квадрат между Мойкой, Невским проспектом и площадью. Тут было немало улиц и переулков; этот квадрат походил на немецкий городок вроде Вольмара. Строения большею частью деревянные; но чистота отделки и светлые окна свидетельствовали о достатке и значении жильцов. Вешняков постучался в калитку, залаяла собака, ключ щелкнул, и высокая женщина отворила калитку.
– Никого не было? – спросил Вешняков по-итальянски.
– Были, были: и синьор Валерьяни,[24 - Валерьяни Джузеппе (1708–1761) – придворный декоратор и перспективный живописец, работал для дворцов Зимнего и др.] и Каравакк,[25 - Каравакк Луи (1684–1754) – художник, мастер портрета, одна из значительных фигур русско-французских художественных связей «века Просвещения».] и Мартелли,[26 - Мартелли Александр – мастер росписи по штукатурке, лепной работе, литью.] и Перизиното,[27 - Перизиното (Перезинотти) Антонио (1708/1710–1778) – итальянский живописец декораций и перспективных видов. Приглашен в Россию в 1742 г., состоял придворным театральным живописцем в Санкт-Петербурге.] и Соловьев…[28 - Вероятно, имеется в виду Д. Соловьев, декоратор-монументалист.]
– Бог с теми; а жаль, что Соловьев не обождал. Он, верно, приходил от Ивана Ивановича за портретом. Франческа, пойдем; присядь; я напишу руку с твоей, и портрет готов.
Франческа проворчала что-то и повиновалась. В мастерской стояло немало образов, изготовляемых для дворцовых церквей, картонов, портретов, эскизов. Глаза юноши разбежались; мастерская показалась ему волшебной храминой… он не обращал уже внимания на хозяина, а тот, между тем, усадил Франческу, взял у стены и поставил на мольберт женский портрет и принялся за кисть и палитру.
– Важная барыня! – сказал Вешняков, глядя на портрет. – Кому-то достанется? Графу или нашему? Уж эти двое всех других отопрут… Видишь, шельмовка, как улыбается: улыбку-то я поймал.
– Боже мой! – вскрикнул юноша пронзительным голосом и схватил себя за голову обеими руками. Франческа также вскрикнула и вскочила с перепуга. Вешняков едва не уронил кисти…
– Что с тобой? – спросил живописец.
Но юноша стоял как вкопанный, устремив пылающие взоры на портрет. Вешняков улыбнулся.
– Что, небось, прошибло. Да, брат, не у таких, как ты, дух захватывало от этой барышни. При дворе красавиц больше сотни, а эта первая. Разве только одна с нею поспорит; да и на ту только кланяются, а глядят на эту… Кто-то приехал… Погляди, Франческа!..
Франческа вышла. Вешняков продолжал восхвалять оригинал своего портрета, исчислял всех, очарованных ее прелестью; не кончил он своего панегирика, потому что в комнату вбежала, впорхнула молодая девушка; то была она, оригинал портрета. Взглянув на юношу, она остановилась, вспыхнула, едва внятно прошептала:
– Боже мой! Сережа! – И замешательство исчезло, оставив на бархатных ланитах яркий след, легкий румянец, который еще более возвысил ее дивную красоту.
– Ах, мосье Вешняков! Я забыла в карете своей веер! Потрудитесь послать…
– Сейчас, матушка Елена Николаевна, сейчас душком сбегаю…
Вешняков ушел. Сережа смотрел на Елену Николаевну, и глубокое изумление было написано на прекрасном лице его. Она любовалась замешательством юноши весьма недолго.
– Сережа!..
– Леночка!..
– Тс! Ни слова! Мы не знакомы. Мы никогда не видали друг друга. Ты погибнешь, если узнают…
– Мне все равно.
– Пожалей меня, Сережа! Умоляю тебя!..
– Вот он, вот, матушка Елена Николаевна, вот ваш веерок, у барыни… – кричал Вешняков, отворяя двери, в которые вошла толстая, распудренная, разукрашенная мушками старуха лет шестидесяти. Она была одета в дорогое платье из толстой шелковой материи, поверх которого был накинут бархатный полушубок на собольем меху. На голове шапочка меховая же из черных лисиц; под полушубком, который никогда не застегивался, потому что его и застегнуть нельзя было, вилась широкая орденская лента; под ногами стучали золотые подковки. Странное смешение костюмов двух веков придавало строгому лицу барыни неприятную важность. Дородность делала движения ее медленными. Едва вдвинулась она в мастерскую, как Елена очень искусно поставила ей стул, спиной к Сереже. Вешняков все кланялся весьма низменно и подавал Сереже знаки, чтобы он вышел; но Сережа не видел Вешнякова, не видел старухи и даже Елены Николаевны: голова его упала на грудь, горе неисходное терзало его сердце; он ненавидел свет, себя, Елену. Он страдал местью. Проект за проектом перебегали в пылком воображении… Он то горел, то леденел, и Бог знает, чем бы кончилась вся эта сцена, если бы старушка не завела разговора, поглотившего внимание юноши…
– Так же, сударыня! Вот наш зять, люби его и жалуй.
С этим словом он сложил руки своей дочери и адъютанта и, сжав их вместе, сказал:
– Поцелуй ее теперь в губы, а не в ногу: это приличней нашему брату воину.
Слезы, восклицания благодарности, коленопреклонения и все везде описанные изъяснения радостного восторга заставили плакать не одну бригадиршу. Княгиня, видя, что уж нечего делать, принуждена была радоваться, когда самовластный во многих случаях супруг ей сказал:
– Что же ты не обнимаешь зятя? Разве бы тебе приятнее было, чтобы она, открывшись в любви к одному человеку, вышла за другого с тем, чтоб его обманывать, или, узнав, что ему известна страсть ее, стыдиться, а может быть, презирать мужа, который взял ее не по склонности, из одного приданого, и быть вечной страдалицей? Чем он тебе не нравится? Он не чиновен, но кто помешает ему дослужиться до чинов? Он беден, да мы за себя и за него богаты. Род его честный и благородный, а главное то, что он ей мил и мне люб: впрочем, не мы его искали, не он хитростью или силой вошел в наше семейство, – Бог его нам дал; а от Него, как сама знаешь, всякое деяние благо, всяк дар совершен. Ну, дети, да благословит вас Бог!
– Да благословит вас Бог! – примолвила княгиня…
И чрез несколько дней была празднуема нечаянная свадьба моего прадеда.
1834
Нестор Кукольник (1809–1868)
Леночка, или Новый, 1746 год
I
– Батюшки-светы! Олександро Сергеич! Ты ли это?..
– Безотменно я, сам, своею персоною и с прикладом сынишки…
– Неужели у тебя такой большой сын?
– Ростом, да не летами. Подросток, недоросль; всего-то ему двадцать третий годок пошел… привез в резиденцию. Хочу ему тут амплуа отыскать. Да теперь трудненько будет. Милостивцев моих протекторов нет… Об них, чай, официально нигде и не разговаривают…
– Полноте, Олександро Сергеич! Что ты это! Служил при Бироне! Ну, служил, велика беда. Все тогда сервису искали у герцога… Ты ведь в политичных его маневрах тейльнаму (участия) никакого не принимал…
– Какой тейльнам! Я, как только смекнул про семеновские прожекты,[17 - Семеновские прожекты – подготовка дворцового переворота, совершенного в 1741 г. гвардией, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна.] на параде с коня повалился и будто у меня большая маладия[18 - Маладия (фр. maladie) – болезнь, недомогание.] приключилась; так и пролежал во всю суматоху. Да что ты станешь чинить, когда моему малёру[19 - Малёр (фр. malheur) – несчастье, беда.] не поверили и учали следствие производить. Я догадался, чего им хочется; в отставку – и дня не задержали, абшид гонорабельный[20 - Абшид гонорабельный – почетная отставка.] прислали и паспорт на выезд от Татищева. Я опять догадался, скорее в деревню спрятался. Ты, Иван Иваныч, милитерного[21 - Милитерный (фр. militaire) – воинский.] нрава и обычая не знаешь; ты живописных дел мастер, а мы-то в чине поручика гвардии по всем дворцам ходили, всякое видели! Того и жди, подслушают, к Петру Ивановичу спровадят. Не о том теперь речь. Остановился я на почтовом дворе. Оно все-таки и почтовый двор, а все кабаком пахнет. Да и оставаться же там надолго непрезентабельно; и еще в какой грустный комераж[22 - Комераж (фр. commerage) – пересуд, сплетни.] попадешь. Не знаешь ли квартеры, ранга к достатку моему конвенабельной…[23 - Конвенабельный (фр. convenable) – приличный, надлежащий, соответствующий.]
– И весьма знаю. У Ивана Ивановича Вешнякова.
– У тебя?
– У меня! И к тому же я теперь коллежскую асессорию имею, так и не стыдно будет…
– Поздравляю, душевно поздравляю… Ну а принципал твой, фон Растреллий?
– И он повышен. Уже теперь не фон, а де Растрелли.
– Вот как! Из немцев в французы…
– Перестаньте, Олександро Сергеевич! Переезжайте лучше ко мне, так наболтаемся еще вдоволь…
– Быть по-твоему. Все равно кому платить; а где же ты живешь?
– На самом юру… Изволишь видеть, за этим плацем на речке Мойке дома разбросаны; тут живут и коллежские, и статские советники, да и сам Его Превосходительство господин Шаргородский тут резиденцию имеет. Тут все равно что в Миллионной или в Морской. Конечно, на Невской першпективе или в другом месте можно за алтын жить, да ведь и я с тебя дорого не возьму. Тут все одна богатель, самая знатная чиновность живет. А дом мой – вон с зеленой крышей и с красными трубами…
– Ошибиться трудно. Ну, так и бери же ты моего сынишку, а я отправлюсь на почтовый двор. Прощай!
– До плезиру вас видеть!
Александр Сергеевич пошел к Миллионной, а Вешняков с подростком к куче домов, которые занимали весь квадрат между Мойкой, Невским проспектом и площадью. Тут было немало улиц и переулков; этот квадрат походил на немецкий городок вроде Вольмара. Строения большею частью деревянные; но чистота отделки и светлые окна свидетельствовали о достатке и значении жильцов. Вешняков постучался в калитку, залаяла собака, ключ щелкнул, и высокая женщина отворила калитку.
– Никого не было? – спросил Вешняков по-итальянски.
– Были, были: и синьор Валерьяни,[24 - Валерьяни Джузеппе (1708–1761) – придворный декоратор и перспективный живописец, работал для дворцов Зимнего и др.] и Каравакк,[25 - Каравакк Луи (1684–1754) – художник, мастер портрета, одна из значительных фигур русско-французских художественных связей «века Просвещения».] и Мартелли,[26 - Мартелли Александр – мастер росписи по штукатурке, лепной работе, литью.] и Перизиното,[27 - Перизиното (Перезинотти) Антонио (1708/1710–1778) – итальянский живописец декораций и перспективных видов. Приглашен в Россию в 1742 г., состоял придворным театральным живописцем в Санкт-Петербурге.] и Соловьев…[28 - Вероятно, имеется в виду Д. Соловьев, декоратор-монументалист.]
– Бог с теми; а жаль, что Соловьев не обождал. Он, верно, приходил от Ивана Ивановича за портретом. Франческа, пойдем; присядь; я напишу руку с твоей, и портрет готов.
Франческа проворчала что-то и повиновалась. В мастерской стояло немало образов, изготовляемых для дворцовых церквей, картонов, портретов, эскизов. Глаза юноши разбежались; мастерская показалась ему волшебной храминой… он не обращал уже внимания на хозяина, а тот, между тем, усадил Франческу, взял у стены и поставил на мольберт женский портрет и принялся за кисть и палитру.
– Важная барыня! – сказал Вешняков, глядя на портрет. – Кому-то достанется? Графу или нашему? Уж эти двое всех других отопрут… Видишь, шельмовка, как улыбается: улыбку-то я поймал.
– Боже мой! – вскрикнул юноша пронзительным голосом и схватил себя за голову обеими руками. Франческа также вскрикнула и вскочила с перепуга. Вешняков едва не уронил кисти…
– Что с тобой? – спросил живописец.
Но юноша стоял как вкопанный, устремив пылающие взоры на портрет. Вешняков улыбнулся.
– Что, небось, прошибло. Да, брат, не у таких, как ты, дух захватывало от этой барышни. При дворе красавиц больше сотни, а эта первая. Разве только одна с нею поспорит; да и на ту только кланяются, а глядят на эту… Кто-то приехал… Погляди, Франческа!..
Франческа вышла. Вешняков продолжал восхвалять оригинал своего портрета, исчислял всех, очарованных ее прелестью; не кончил он своего панегирика, потому что в комнату вбежала, впорхнула молодая девушка; то была она, оригинал портрета. Взглянув на юношу, она остановилась, вспыхнула, едва внятно прошептала:
– Боже мой! Сережа! – И замешательство исчезло, оставив на бархатных ланитах яркий след, легкий румянец, который еще более возвысил ее дивную красоту.
– Ах, мосье Вешняков! Я забыла в карете своей веер! Потрудитесь послать…
– Сейчас, матушка Елена Николаевна, сейчас душком сбегаю…
Вешняков ушел. Сережа смотрел на Елену Николаевну, и глубокое изумление было написано на прекрасном лице его. Она любовалась замешательством юноши весьма недолго.
– Сережа!..
– Леночка!..
– Тс! Ни слова! Мы не знакомы. Мы никогда не видали друг друга. Ты погибнешь, если узнают…
– Мне все равно.
– Пожалей меня, Сережа! Умоляю тебя!..
– Вот он, вот, матушка Елена Николаевна, вот ваш веерок, у барыни… – кричал Вешняков, отворяя двери, в которые вошла толстая, распудренная, разукрашенная мушками старуха лет шестидесяти. Она была одета в дорогое платье из толстой шелковой материи, поверх которого был накинут бархатный полушубок на собольем меху. На голове шапочка меховая же из черных лисиц; под полушубком, который никогда не застегивался, потому что его и застегнуть нельзя было, вилась широкая орденская лента; под ногами стучали золотые подковки. Странное смешение костюмов двух веков придавало строгому лицу барыни неприятную важность. Дородность делала движения ее медленными. Едва вдвинулась она в мастерскую, как Елена очень искусно поставила ей стул, спиной к Сереже. Вешняков все кланялся весьма низменно и подавал Сереже знаки, чтобы он вышел; но Сережа не видел Вешнякова, не видел старухи и даже Елены Николаевны: голова его упала на грудь, горе неисходное терзало его сердце; он ненавидел свет, себя, Елену. Он страдал местью. Проект за проектом перебегали в пылком воображении… Он то горел, то леденел, и Бог знает, чем бы кончилась вся эта сцена, если бы старушка не завела разговора, поглотившего внимание юноши…