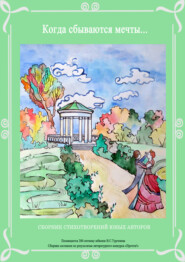По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские истории с неожиданным финалом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долевский стремительно подал руку жене и повлек ее в кабинет.
– Вот в чем я приехал домой! – кричал он. – Вот в чем…
Говоря это, он искал глазами на полу чужой шубы и шляпы, но они уже исчезли.
– Я ничего не вижу здесь, кроме ковра, – возразила жена. – Ужели вы хотите меня уверить, что вы ехали со мною, завернувшись в этот ковер? Но я сейчас обнаружу всю нелепость ваших странных, фантастических выдумок.
Тут Долевская позвонила.
– Принеси сюда, – сказала она вошедшему слуге, – ту шубу и шляпу, в которых барин приехал нынешнею ночью из маскарада.
Через минуту слуга исполнил ее приказание.
– Где ты взял это? – закричал Долевский. – Сказывай, кто тебе отдал мою шубу и шляпу, которых искал я целый час у подъезда?
– Вы сами изволили отдать мне их в передней на руки, когда воротились из маскарада.
– Прочь с глаз моих, негодяй! – заревел Долевский. – Я теперь вижу, что целый дом против меня в заговоре, я теперь понимаю, что здесь все против меня сооружено и подкуплено!
И кем же? Моею женою! Вот награда за мое ребяческое доверие!
– Жаль мне вас, – начала Анна Петровна, – никогда я не ожидала, чтоб вы могли унизиться до таких бесполезных и смешных изворотов! Прошу вас об одном: позвольте мне вас оставить… – Тут Долевская горько зарыдала.
– Да объясните же мне, наконец, эту загадку, – сказал Долевский.
– Вам очень хорошо известно, что вы приехали домой вместе со мною, в своей шубе и шляпе, вот в этой маске и в этом домино с красной ленточкой, тайну которой узнала я от служанки. Вы очень хорошо помните, как нарушили мой сон, явясь неожиданно в моей спальне, как погасили мою лампаду…
Тут Долевский уже потерял совершенно рассудок. Бессмысленно глядел он на капуцин и маску, топал ногами, рвал на себе волосы, вопил, проклинал себя. Он заставил Долевскую несколько раз повторить рассказ о случившемся и, убедясь наконец, что она говорит без обмана, впал в мучительное подозрение, что какой-нибудь злодей воспользовался его отсутствием и нарядился в его одежду. Он признавал в этом кару Провидения за свои шалости, в которых громко и подробно теперь каялся.
– Прости меня, Анна, – повторял Долевский на другой день утром, целуя руки своей жены, – я всегда любил тебя, а теперь люблю более, нежели когда-нибудь. Я хочу загладить свои прежние проступки: на этой же неделе оставим столицу, чтоб избежать толков и сплетен, которых я предвижу целую бездну. Уедем на полгода в нашу подмосковную деревню, предав совершенному забвению всех капуцинов и других маскарадных оборотней. Докажем им, что они, намереваясь окончательно разрушить наше семейное счастье, утвердили его навеки.
И Долевские оставили Петербург.
1850
Михаил Авдеев (1821–1876)
Огненный змей
По поднебесью летит он, злодей, шаром огненным, по земле рассыпается горючим огнем, во тереме красной девицы становится молодым молодцем несказанной красоты. Сушит, знобит он красну девицу до истомы…
Сказания русского народе[6 - Неточный пересказ народного поверья, изложенного во втором томе «Сказаний русского народа», собранных И. Сахаровым. Поверье, распространенное в Тульской губернии: «Всякий видит, как огненный змей летает по воздуху и горит огнем неугасимым, а не всякий знает, что он как скоро спустится в трубу, то очутится в избе молодцем несказанной красоты. Не любя – полюбишь, не хваля – похвалишь… Без змея красна девица сидит во тоске, во кручине, без него не глядит на Божий свет; без него она сушит, сушит себя».].
На днях по некоторым литературным обстоятельствам я должен был принимать живейшее участие во всех петербургских увеселениях. И я принимал это участие. Я бывал в опере, балете, цирке, русском и французском театрах.
Я был на балах и маскарадах и даже собирался на минеральные воды к Излеру[7 - Иван Иванович Излер (Иоганн Люциус; 1810–1877) – владелец заведения искусственных минеральных вод (также известный как «сад Излера») в Петербурге.], но, по счастью, узнал, что там еще не веселятся, а только собираются веселиться. Я ужасно веселился со всеми моими петербургскими читателями и имел еще большее удовольствие рассказывать о наших веселостях читателям иногородним, и вскоре мне предстоит опять подобное удовольствие: я опять заживу полной жизнью всех петербургских веселостей, опять театры, балы, маскарады и все, что к тому времени Петербург придумает веселого.
Как видите, мы, писатели, живем иногда чрезвычайно весело. Нам стоит только веселиться да среди веселостей наблюдать разные стороны частной и общественной жизни и потом более или менее искусно рассказывать свои замечания, сдабривая их красным словцом фантазии. Но с некоторыми из нас бывает следующего рода неприятность. Во всех народных преданиях есть одно поверье, оно говорит, что люди, одаренные властью над нечистой силой, должны беспрерывно задавать ей работу. Как скоро она кончит одну и вы не успеете ей задать другую, нечистая сила из вашей рабы делается госпожою, берет над вами власть и распоряжается вами очень неприятно. Точно то же делает с нами иногда наш выездной конек – воображение.
Я, например, хотел бы немножко отдохнуть между двумя периодами веселостей, я бы хотел посидеть дома, тихо переваривая сладкие воспоминания прошлых удовольствий и предвкушая сладость будущих. «Я б хотел забыться и заснуть!»[8 - Строка из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841).] Но вдруг… Ба! Мое воображение возмутилось. Оно говорит, что ему скучна вся эта масса веселостей, что ему надоели наши театры, балы и маскарады, что ему не хочется смотреть на наше светское общество, что ему мало этой скудной пищи, которую дают ему наши ровные, гладкие и приличные отношения, наши тихие, не проглядывающие наружу да, кажется, и не забивающиеся в глубину чувства, что ему тесно прогуливаться и по Петербургу, где оно витает, и по провинции, где я неоднократно заставлял его копошиться, что ему хочется другой жизни, жизни, связанной не этикетом, а преданиями, жизни, в которой заботятся не об угождении той или другой почтенной заслуженной личности, а какому-нибудь живущему где-то за печкой домовому, что ему нужна обстановка леса, покрытого инеем, степи, занесенной снегом, клеушка, загороженного тычинками[9 - Клеушка, загороженного тычинками — маленький хлев, обнесенный частоколом.], а не города с многоэтажными домами над рекой с берегами из гранита, что ему надоели шармеровские[10 - Шармер Е.Ф. – известный петербургский портной, у которого одевался Ф.М. Достоевский.] фраки, пропитанные духами, газ и ленты наших прелестных женщин с волосами, зачесанными назад a la Margo, и что ему хочется освежить себя в душной избе с тараканами и лучиной, подышать поэзией нагольного тулупа и вымытой тряпицы.
Что за дикая фантазия! А между тем она мчит меня, мчит из Петербурга, и когда же? – в самом начале нашего сезона, мчит по железной дороге… нет, мимо, и быстрее паровозов, в губернский город – мой милый губернский город[11 - По окончании в 1842 году петербургского Института путей сообщения Авдеев был направлен на службу в Нижний Новгород, где провел несколько лет.], где я так весело скучал… нет, еще мимо! Вот мы спустились на Волгу, на зимний тракт, вот мы несемся по ней, своротили, поднялись на нагорный берег, вот большая дорога, уставленная рядами заиндевевших берез, по ней дальше, глубже в Русь, вот и торный проселок, на котором еще виден след Григоровича[12 - Подразумевается роман Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» (1852).]… Воображение! Нас опять укорят в подражании! Нет, дальше, еще дальше мчит оно меня! Вот проселок, занесенный снегом, едва протоптанный, по нем, по нем мы мчимся десятки верст, не встречая жилья… мы заблудились, кажется… нас занесет бураном, и я замерзну вместе с тобою… Но вот в стороне блеснул где-то огонек, где-то тявкнула собака, вот петух запел где-то здесь близко, мы наткнулись на что-то… Ба! Это, кажется, жилье! И мы остановились…
У! Какая глушь!
Темно. На небе нет ни туч, ни звезд. Сквозь серую тьму ночи едва видна какая-то густая и ровная полоса… Что это – стена? Нет, это должен быть бор – слышите, как шумит он! А кругом снег и снег, и только ветер разгуливает по нем, шелестя и наметая сугробы. Но вот в одном месте какой-то перевал, а за ним, обозналась темными очертаниями, ряды избушек, окутанные соломой, как будто только что приподнялись из-под снега и не успели еще стряхнуть белый и толстый слой его, который лежал мягкою подушкою на крышах и оборванными клочьями висел на тычинах изгородей и узорчатой резьбе навесов.
На улицах ни души, и только из одного или двух маленьких окон слабый свет вырывался туманным снопом к земле и, дойдя до нее, дрожа, расстилался по снегу. Что это? Засиделась ли какая-нибудь припугнутая свекровью молодка над пряжей, или хлопотунья-хозяйка обозналась временем и встала спозаранку? Который-то час? Но здесь нет часов! Здесь и не знают часов, а знают полдень и полночь, утро и вечер, рассвет и сумерки, и показывает здесь время в ясный день солнце, в глухую ночь петух кричит его, и петух этот «хоть не человек, а свое дело знает и баб научает».
Да где ж мы? Далеко ли мы от Петербурга, наконец? И это совершенно неизвестно, здесь даже не знают, есть ли город Петербург или нет, и очень может быть, что мы здесь за полтораста лет до его основания. Да какой же здесь уездный или губернский город? Есть город, и в нем бывали даже некоторые мужики, и название есть этому городу, а губернский он или уездный – Бог его знает! И губерния ли тут или воеводство – этого тоже утвердительно сказать не могут!
Боже мой! Да где же это мы? Какой здесь век, какой здесь год? Это тоже неизвестно, Бог его знает, какой век, старики свой доживают, а малые начинают… а год – год тяжелый: греча плохо родилась, озими повылегли… да этого и ждать надо, потому что прошлой зимой Касьян именинник был, а когда Касьян бывает именинник, так это високос – известно, тяжелый год.
Да месяц какой идет – декабрь ли, январь или февраль? А Бог его ведает, месяц какой, а известно, что солнцеворот[13 - Солнцеворот — имеется и виду зимнее солнцестояние 12 декабря. (Здесь и далее даты по старому стилю.)] давно прошел, на Варвары[14 - День памяти св. Варвары (4 декабря).] зима мосты намостила, а на Савву[15 - День памяти св. Саввы (5 декабря).] гвозди заострила, до Петра-полукорма[16 - В день памяти св. Петра (16 января) крестьяне осматривали амбары, полагая, что зимнего корма осталось ровно половина.] еще не дошло, а уж об Васильев вечер – день прибыл на куриный шаг[17 - День памяти свт. Василия Великого (1 января). После Рождества (25 декабря) день прибавляется на 7 минут.] и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий[18 - День памяти св. Афанасия (18 января) бывает очень морозным. Существует поговорка: «Афанасий-ломонос – береги нос», у] не пришел, а потом будут Тимофеи-полузимники[19 - Тимофеевские морозы начинаются в день памяти св. Тимофея (22 января). Было принято считать, что на этот день приходится середина (половина) зимы.]…
Я ничего не понимаю! Да как у вас пишут вот в конце письма после покорнейшего слуги и прочее – год, месяц, число? Да у нас ничего не пишут, потому что и грамоте во всей деревне никто не знает…
О невежество! Какое ужасное невежество! А между тем странно: у этих людей есть свой календарь, и весьма верный календарь, и знают они, например, что от водокрещ до Евдокеи семь с половиной недель[20 - Водокрещи — праздник Крещения (6 января). Евдокея – день памяти св. Евдокеи-Капельницы (1 марта).], и Илья-пророк три часа приволок[21 - Поговорка, приуроченная ко дню св. Ильи-пророка (20 июля), когда световой день на три часа продолжительнее, чем во время равноденствия.], и во что Маккавеи[22 - День Маккавеи отмечается 1 августа; разговеньем 15 августа заканчивается Успенский пост.] – во то и разговенье, и знают они, сколько морозов было и сколько будет и как какой мороз называется[23 - Михайловские (с 8 ноября), введенские (с 21 ноября), Никольские (с 13 декабря), рождественские (с 25 декабря), крещенские (с 6 января), сретенские (со 2 февраля), власьевские (с 11 февраля) морозы.], и каждый день в году имеет для них свое значенье, и звезда падающая, и птица перелетающая говорят им непонятным для нас языком, и предания живут и передаются в их безграмотных устах, и духи злые и добрые витают вместе с ними с незапамятных времен, и есть у них доброе и грозное слово для этих духов, и есть чары непонятные, и есть зелья чародейные, и вся жизнь их идет мерным, стройным, неизменным течением, как шла она сотни лет назад, при их пращурах, как пройдет сотни лет вперед до их правнуков, будто какой-то неведомый дух обошел ее невесть когда! И бежит с тех пор хлопотно, торопливо вперед и вперед озабоченный мир кругом ее, а она стоит, глубоко погруженная в свои думы, и не видит остального мира, будто ждет, когда, свершив свой круговорот, он снова дойдет до нее и сольется с ней…
Какой странный, какой чудный мир!
На самом краю этого маленького мира, не значащегося на географических картах мира, но известного в околотке под именем сельца Ознобиха, далеко отделяясь от деревни, стоит избушка. Судя по наружности, она не принадлежит к крестьянским. И в самом деле, около нее видите занесенный снегом остов какого-то старинного каменного дома, от которого остались только стены, а за домом голые деревья сада, который за давностью лет обратился в лес и слился с ближним лесом. Избушка, видно, принадлежала прежде к службам этого дома и, ветхая, деревянная, по какому-то странному случаю пережила своего каменного господина и, как старый и верный слуга, одиноко сторожит его развалины.
Раз в зимний вечер далеко из открытого поля, которое расстилалось перед лесом и деревней, можно было видеть какие-то два светящиеся глаза: это был огонек, блестевший из маленьких окон избушки. Внутренность избы мало отличалась от обыкновенной крестьянской: та же большая печка в углу и перегородка, те же лавки по стенам, те же темные от времени и дыма стены. Только не было над входом низких и широких полатей, а вместо них на протянутых веревочках висели какие-то травы. Пучки этих же трав висели, привязанные к деревянным гвоздикам, по стенам и были их единственным украшением. В избушке не было видно крестьянской домовитости, не было кур, иногда клохчущих под печкой или лавкой, мало было домашнего скарба, в ней было чище, чем в крестьянских избах, но как-то пустее, нелюднее. Тихо было в избушке, только сверчок чирикал где-то в щели да какой-то глухой и неясный шепот слышался на печке, и шепот однозвучный и тихий, как шелест сухих листьев. В переднем углу перед деревянным столом в поставце стояла сухая дудка, налитая внутри салом: ее-то слабый огонек блестел в поле и едва обозначал темные углы избушки. Но он ясно освещал хорошенькую женскую фигуру.
Это была девушка лет шестнадцати. Судя по одежде, она принадлежала к крестьянам: на ней был синий пестрядинный сарафан с медными пуговками и белая холщовая рубаха. Темно-русые, гладко причесанные волосы окаймляли невысокий лоб и, перегнувшись за уши, падали густой косой до самой поясницы. Лицо девушки было немного худощаво, смугловато, но чрезвычайно красиво. Рот маленький и немного выгнутый, как стрелковый лук, прямой и небольшой нос, темно-карие, ясно очерченные глаза и брови тонкие и круто загнутые над внутренними углами глаз. Все это лицо, продолговатое и нежно законченное подбородком, несмотря на молодость, имело много выражения. Оно смотрело весело и открыто, на нем не лежало никакой особой мысли, но оно было как-то хорошо оттенено. Небольшой румянец смуглых щек, желтоватая белизна гладкого лба и бледно-молочный подбородок, едва видные темные волоски на висках и ясные глаза, даже маленькая, как у всех смуглых, тень под глазами – все это вместе делало лицо девушки чудесно освещенным, как это мы иногда видим на портретах новой итальянской живописи, освещенным и согретым так, что на нем, несмотря на неподвижность линий и непрозрачность кожи, можно по какому-то переливу теней ясно читать внутреннее настроение. Очерк молодого стана, еще несколько худощавого, можно было следить под складками свободной одежды. Стан этот был гибок, строен и, как молодое зерно колоса, только что наливался. Из широкого рукава рубахи виднелась тонкая молодая рука, и рука эта была мало огрублена суровой крестьянской работой: видно, немного несла она ее.
Девушка сидела у стола и торопливо шила. К однообразному крику сверчка, к странному и глухому шепоту, который слышался на печке, присоединялось частое ширканье нитки, сшивающей какие-то лоскутки. Девушка вся была погружена в работу, изредка она останавливалась, разглядывала шитье, немного сбоченив голову на ту или другую сторону, и тихо, без слов запевала какую-то песенку, потом опять принималась шить, умолкала, и тогда немного сдвинувшиеся брови и наморщенный лоб обозначали заботу, между тем как на губах отражалась какая-то веселая и светлая мысль.
Вдруг в запертое окно кто-то стукнул.
Девушка вздрогнула, закрыла свет рукой и стала всматриваться, но частый скрип женских шагов по снегу послышался вдоль внутренней стены, потом на крыльце – и дверь растворилась.
Густой пар холодного воздуха влетел в избушку, но дверь захлопнулась, пар исчез и, выступив из него, к столу подошла другая девушка. Пришедшая была невысокого роста, тоже молоденькая, но полненькая, яркий румянец от мороза сильно горел на ее щеках, вздернутый носик покраснел, и русые волосы, немного желтого отлива, слегка заиндевели, бойкое круглое и хорошенькое лицо ее выглядывало из красного платка, который покрывал голову и был завязан у полного подбородка, на плечи была накинута овчинная шубенка.
– Здорово, Васена! – сказала вполголоса вошедшая, целуясь с хозяйкой. – Я за тобой прибежала.
– А, это ты, Дуня! А что?
– Да девки собрались и уже пошли по деревне. Пойдем и мы, нам еще впервой ходить.
– Постой, вот я бабушке скажусь.
– А она дома? – спросила Дуня.
– Слышь!
Но в это время шепот замолк, и послышался дребезжащий голос:
– Вот в чем я приехал домой! – кричал он. – Вот в чем…
Говоря это, он искал глазами на полу чужой шубы и шляпы, но они уже исчезли.
– Я ничего не вижу здесь, кроме ковра, – возразила жена. – Ужели вы хотите меня уверить, что вы ехали со мною, завернувшись в этот ковер? Но я сейчас обнаружу всю нелепость ваших странных, фантастических выдумок.
Тут Долевская позвонила.
– Принеси сюда, – сказала она вошедшему слуге, – ту шубу и шляпу, в которых барин приехал нынешнею ночью из маскарада.
Через минуту слуга исполнил ее приказание.
– Где ты взял это? – закричал Долевский. – Сказывай, кто тебе отдал мою шубу и шляпу, которых искал я целый час у подъезда?
– Вы сами изволили отдать мне их в передней на руки, когда воротились из маскарада.
– Прочь с глаз моих, негодяй! – заревел Долевский. – Я теперь вижу, что целый дом против меня в заговоре, я теперь понимаю, что здесь все против меня сооружено и подкуплено!
И кем же? Моею женою! Вот награда за мое ребяческое доверие!
– Жаль мне вас, – начала Анна Петровна, – никогда я не ожидала, чтоб вы могли унизиться до таких бесполезных и смешных изворотов! Прошу вас об одном: позвольте мне вас оставить… – Тут Долевская горько зарыдала.
– Да объясните же мне, наконец, эту загадку, – сказал Долевский.
– Вам очень хорошо известно, что вы приехали домой вместе со мною, в своей шубе и шляпе, вот в этой маске и в этом домино с красной ленточкой, тайну которой узнала я от служанки. Вы очень хорошо помните, как нарушили мой сон, явясь неожиданно в моей спальне, как погасили мою лампаду…
Тут Долевский уже потерял совершенно рассудок. Бессмысленно глядел он на капуцин и маску, топал ногами, рвал на себе волосы, вопил, проклинал себя. Он заставил Долевскую несколько раз повторить рассказ о случившемся и, убедясь наконец, что она говорит без обмана, впал в мучительное подозрение, что какой-нибудь злодей воспользовался его отсутствием и нарядился в его одежду. Он признавал в этом кару Провидения за свои шалости, в которых громко и подробно теперь каялся.
– Прости меня, Анна, – повторял Долевский на другой день утром, целуя руки своей жены, – я всегда любил тебя, а теперь люблю более, нежели когда-нибудь. Я хочу загладить свои прежние проступки: на этой же неделе оставим столицу, чтоб избежать толков и сплетен, которых я предвижу целую бездну. Уедем на полгода в нашу подмосковную деревню, предав совершенному забвению всех капуцинов и других маскарадных оборотней. Докажем им, что они, намереваясь окончательно разрушить наше семейное счастье, утвердили его навеки.
И Долевские оставили Петербург.
1850
Михаил Авдеев (1821–1876)
Огненный змей
По поднебесью летит он, злодей, шаром огненным, по земле рассыпается горючим огнем, во тереме красной девицы становится молодым молодцем несказанной красоты. Сушит, знобит он красну девицу до истомы…
Сказания русского народе[6 - Неточный пересказ народного поверья, изложенного во втором томе «Сказаний русского народа», собранных И. Сахаровым. Поверье, распространенное в Тульской губернии: «Всякий видит, как огненный змей летает по воздуху и горит огнем неугасимым, а не всякий знает, что он как скоро спустится в трубу, то очутится в избе молодцем несказанной красоты. Не любя – полюбишь, не хваля – похвалишь… Без змея красна девица сидит во тоске, во кручине, без него не глядит на Божий свет; без него она сушит, сушит себя».].
На днях по некоторым литературным обстоятельствам я должен был принимать живейшее участие во всех петербургских увеселениях. И я принимал это участие. Я бывал в опере, балете, цирке, русском и французском театрах.
Я был на балах и маскарадах и даже собирался на минеральные воды к Излеру[7 - Иван Иванович Излер (Иоганн Люциус; 1810–1877) – владелец заведения искусственных минеральных вод (также известный как «сад Излера») в Петербурге.], но, по счастью, узнал, что там еще не веселятся, а только собираются веселиться. Я ужасно веселился со всеми моими петербургскими читателями и имел еще большее удовольствие рассказывать о наших веселостях читателям иногородним, и вскоре мне предстоит опять подобное удовольствие: я опять заживу полной жизнью всех петербургских веселостей, опять театры, балы, маскарады и все, что к тому времени Петербург придумает веселого.
Как видите, мы, писатели, живем иногда чрезвычайно весело. Нам стоит только веселиться да среди веселостей наблюдать разные стороны частной и общественной жизни и потом более или менее искусно рассказывать свои замечания, сдабривая их красным словцом фантазии. Но с некоторыми из нас бывает следующего рода неприятность. Во всех народных преданиях есть одно поверье, оно говорит, что люди, одаренные властью над нечистой силой, должны беспрерывно задавать ей работу. Как скоро она кончит одну и вы не успеете ей задать другую, нечистая сила из вашей рабы делается госпожою, берет над вами власть и распоряжается вами очень неприятно. Точно то же делает с нами иногда наш выездной конек – воображение.
Я, например, хотел бы немножко отдохнуть между двумя периодами веселостей, я бы хотел посидеть дома, тихо переваривая сладкие воспоминания прошлых удовольствий и предвкушая сладость будущих. «Я б хотел забыться и заснуть!»[8 - Строка из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841).] Но вдруг… Ба! Мое воображение возмутилось. Оно говорит, что ему скучна вся эта масса веселостей, что ему надоели наши театры, балы и маскарады, что ему не хочется смотреть на наше светское общество, что ему мало этой скудной пищи, которую дают ему наши ровные, гладкие и приличные отношения, наши тихие, не проглядывающие наружу да, кажется, и не забивающиеся в глубину чувства, что ему тесно прогуливаться и по Петербургу, где оно витает, и по провинции, где я неоднократно заставлял его копошиться, что ему хочется другой жизни, жизни, связанной не этикетом, а преданиями, жизни, в которой заботятся не об угождении той или другой почтенной заслуженной личности, а какому-нибудь живущему где-то за печкой домовому, что ему нужна обстановка леса, покрытого инеем, степи, занесенной снегом, клеушка, загороженного тычинками[9 - Клеушка, загороженного тычинками — маленький хлев, обнесенный частоколом.], а не города с многоэтажными домами над рекой с берегами из гранита, что ему надоели шармеровские[10 - Шармер Е.Ф. – известный петербургский портной, у которого одевался Ф.М. Достоевский.] фраки, пропитанные духами, газ и ленты наших прелестных женщин с волосами, зачесанными назад a la Margo, и что ему хочется освежить себя в душной избе с тараканами и лучиной, подышать поэзией нагольного тулупа и вымытой тряпицы.
Что за дикая фантазия! А между тем она мчит меня, мчит из Петербурга, и когда же? – в самом начале нашего сезона, мчит по железной дороге… нет, мимо, и быстрее паровозов, в губернский город – мой милый губернский город[11 - По окончании в 1842 году петербургского Института путей сообщения Авдеев был направлен на службу в Нижний Новгород, где провел несколько лет.], где я так весело скучал… нет, еще мимо! Вот мы спустились на Волгу, на зимний тракт, вот мы несемся по ней, своротили, поднялись на нагорный берег, вот большая дорога, уставленная рядами заиндевевших берез, по ней дальше, глубже в Русь, вот и торный проселок, на котором еще виден след Григоровича[12 - Подразумевается роман Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» (1852).]… Воображение! Нас опять укорят в подражании! Нет, дальше, еще дальше мчит оно меня! Вот проселок, занесенный снегом, едва протоптанный, по нем, по нем мы мчимся десятки верст, не встречая жилья… мы заблудились, кажется… нас занесет бураном, и я замерзну вместе с тобою… Но вот в стороне блеснул где-то огонек, где-то тявкнула собака, вот петух запел где-то здесь близко, мы наткнулись на что-то… Ба! Это, кажется, жилье! И мы остановились…
У! Какая глушь!
Темно. На небе нет ни туч, ни звезд. Сквозь серую тьму ночи едва видна какая-то густая и ровная полоса… Что это – стена? Нет, это должен быть бор – слышите, как шумит он! А кругом снег и снег, и только ветер разгуливает по нем, шелестя и наметая сугробы. Но вот в одном месте какой-то перевал, а за ним, обозналась темными очертаниями, ряды избушек, окутанные соломой, как будто только что приподнялись из-под снега и не успели еще стряхнуть белый и толстый слой его, который лежал мягкою подушкою на крышах и оборванными клочьями висел на тычинах изгородей и узорчатой резьбе навесов.
На улицах ни души, и только из одного или двух маленьких окон слабый свет вырывался туманным снопом к земле и, дойдя до нее, дрожа, расстилался по снегу. Что это? Засиделась ли какая-нибудь припугнутая свекровью молодка над пряжей, или хлопотунья-хозяйка обозналась временем и встала спозаранку? Который-то час? Но здесь нет часов! Здесь и не знают часов, а знают полдень и полночь, утро и вечер, рассвет и сумерки, и показывает здесь время в ясный день солнце, в глухую ночь петух кричит его, и петух этот «хоть не человек, а свое дело знает и баб научает».
Да где ж мы? Далеко ли мы от Петербурга, наконец? И это совершенно неизвестно, здесь даже не знают, есть ли город Петербург или нет, и очень может быть, что мы здесь за полтораста лет до его основания. Да какой же здесь уездный или губернский город? Есть город, и в нем бывали даже некоторые мужики, и название есть этому городу, а губернский он или уездный – Бог его знает! И губерния ли тут или воеводство – этого тоже утвердительно сказать не могут!
Боже мой! Да где же это мы? Какой здесь век, какой здесь год? Это тоже неизвестно, Бог его знает, какой век, старики свой доживают, а малые начинают… а год – год тяжелый: греча плохо родилась, озими повылегли… да этого и ждать надо, потому что прошлой зимой Касьян именинник был, а когда Касьян бывает именинник, так это високос – известно, тяжелый год.
Да месяц какой идет – декабрь ли, январь или февраль? А Бог его ведает, месяц какой, а известно, что солнцеворот[13 - Солнцеворот — имеется и виду зимнее солнцестояние 12 декабря. (Здесь и далее даты по старому стилю.)] давно прошел, на Варвары[14 - День памяти св. Варвары (4 декабря).] зима мосты намостила, а на Савву[15 - День памяти св. Саввы (5 декабря).] гвозди заострила, до Петра-полукорма[16 - В день памяти св. Петра (16 января) крестьяне осматривали амбары, полагая, что зимнего корма осталось ровно половина.] еще не дошло, а уж об Васильев вечер – день прибыл на куриный шаг[17 - День памяти свт. Василия Великого (1 января). После Рождества (25 декабря) день прибавляется на 7 минут.] и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий[18 - День памяти св. Афанасия (18 января) бывает очень морозным. Существует поговорка: «Афанасий-ломонос – береги нос», у] не пришел, а потом будут Тимофеи-полузимники[19 - Тимофеевские морозы начинаются в день памяти св. Тимофея (22 января). Было принято считать, что на этот день приходится середина (половина) зимы.]…
Я ничего не понимаю! Да как у вас пишут вот в конце письма после покорнейшего слуги и прочее – год, месяц, число? Да у нас ничего не пишут, потому что и грамоте во всей деревне никто не знает…
О невежество! Какое ужасное невежество! А между тем странно: у этих людей есть свой календарь, и весьма верный календарь, и знают они, например, что от водокрещ до Евдокеи семь с половиной недель[20 - Водокрещи — праздник Крещения (6 января). Евдокея – день памяти св. Евдокеи-Капельницы (1 марта).], и Илья-пророк три часа приволок[21 - Поговорка, приуроченная ко дню св. Ильи-пророка (20 июля), когда световой день на три часа продолжительнее, чем во время равноденствия.], и во что Маккавеи[22 - День Маккавеи отмечается 1 августа; разговеньем 15 августа заканчивается Успенский пост.] – во то и разговенье, и знают они, сколько морозов было и сколько будет и как какой мороз называется[23 - Михайловские (с 8 ноября), введенские (с 21 ноября), Никольские (с 13 декабря), рождественские (с 25 декабря), крещенские (с 6 января), сретенские (со 2 февраля), власьевские (с 11 февраля) морозы.], и каждый день в году имеет для них свое значенье, и звезда падающая, и птица перелетающая говорят им непонятным для нас языком, и предания живут и передаются в их безграмотных устах, и духи злые и добрые витают вместе с ними с незапамятных времен, и есть у них доброе и грозное слово для этих духов, и есть чары непонятные, и есть зелья чародейные, и вся жизнь их идет мерным, стройным, неизменным течением, как шла она сотни лет назад, при их пращурах, как пройдет сотни лет вперед до их правнуков, будто какой-то неведомый дух обошел ее невесть когда! И бежит с тех пор хлопотно, торопливо вперед и вперед озабоченный мир кругом ее, а она стоит, глубоко погруженная в свои думы, и не видит остального мира, будто ждет, когда, свершив свой круговорот, он снова дойдет до нее и сольется с ней…
Какой странный, какой чудный мир!
На самом краю этого маленького мира, не значащегося на географических картах мира, но известного в околотке под именем сельца Ознобиха, далеко отделяясь от деревни, стоит избушка. Судя по наружности, она не принадлежит к крестьянским. И в самом деле, около нее видите занесенный снегом остов какого-то старинного каменного дома, от которого остались только стены, а за домом голые деревья сада, который за давностью лет обратился в лес и слился с ближним лесом. Избушка, видно, принадлежала прежде к службам этого дома и, ветхая, деревянная, по какому-то странному случаю пережила своего каменного господина и, как старый и верный слуга, одиноко сторожит его развалины.
Раз в зимний вечер далеко из открытого поля, которое расстилалось перед лесом и деревней, можно было видеть какие-то два светящиеся глаза: это был огонек, блестевший из маленьких окон избушки. Внутренность избы мало отличалась от обыкновенной крестьянской: та же большая печка в углу и перегородка, те же лавки по стенам, те же темные от времени и дыма стены. Только не было над входом низких и широких полатей, а вместо них на протянутых веревочках висели какие-то травы. Пучки этих же трав висели, привязанные к деревянным гвоздикам, по стенам и были их единственным украшением. В избушке не было видно крестьянской домовитости, не было кур, иногда клохчущих под печкой или лавкой, мало было домашнего скарба, в ней было чище, чем в крестьянских избах, но как-то пустее, нелюднее. Тихо было в избушке, только сверчок чирикал где-то в щели да какой-то глухой и неясный шепот слышался на печке, и шепот однозвучный и тихий, как шелест сухих листьев. В переднем углу перед деревянным столом в поставце стояла сухая дудка, налитая внутри салом: ее-то слабый огонек блестел в поле и едва обозначал темные углы избушки. Но он ясно освещал хорошенькую женскую фигуру.
Это была девушка лет шестнадцати. Судя по одежде, она принадлежала к крестьянам: на ней был синий пестрядинный сарафан с медными пуговками и белая холщовая рубаха. Темно-русые, гладко причесанные волосы окаймляли невысокий лоб и, перегнувшись за уши, падали густой косой до самой поясницы. Лицо девушки было немного худощаво, смугловато, но чрезвычайно красиво. Рот маленький и немного выгнутый, как стрелковый лук, прямой и небольшой нос, темно-карие, ясно очерченные глаза и брови тонкие и круто загнутые над внутренними углами глаз. Все это лицо, продолговатое и нежно законченное подбородком, несмотря на молодость, имело много выражения. Оно смотрело весело и открыто, на нем не лежало никакой особой мысли, но оно было как-то хорошо оттенено. Небольшой румянец смуглых щек, желтоватая белизна гладкого лба и бледно-молочный подбородок, едва видные темные волоски на висках и ясные глаза, даже маленькая, как у всех смуглых, тень под глазами – все это вместе делало лицо девушки чудесно освещенным, как это мы иногда видим на портретах новой итальянской живописи, освещенным и согретым так, что на нем, несмотря на неподвижность линий и непрозрачность кожи, можно по какому-то переливу теней ясно читать внутреннее настроение. Очерк молодого стана, еще несколько худощавого, можно было следить под складками свободной одежды. Стан этот был гибок, строен и, как молодое зерно колоса, только что наливался. Из широкого рукава рубахи виднелась тонкая молодая рука, и рука эта была мало огрублена суровой крестьянской работой: видно, немного несла она ее.
Девушка сидела у стола и торопливо шила. К однообразному крику сверчка, к странному и глухому шепоту, который слышался на печке, присоединялось частое ширканье нитки, сшивающей какие-то лоскутки. Девушка вся была погружена в работу, изредка она останавливалась, разглядывала шитье, немного сбоченив голову на ту или другую сторону, и тихо, без слов запевала какую-то песенку, потом опять принималась шить, умолкала, и тогда немного сдвинувшиеся брови и наморщенный лоб обозначали заботу, между тем как на губах отражалась какая-то веселая и светлая мысль.
Вдруг в запертое окно кто-то стукнул.
Девушка вздрогнула, закрыла свет рукой и стала всматриваться, но частый скрип женских шагов по снегу послышался вдоль внутренней стены, потом на крыльце – и дверь растворилась.
Густой пар холодного воздуха влетел в избушку, но дверь захлопнулась, пар исчез и, выступив из него, к столу подошла другая девушка. Пришедшая была невысокого роста, тоже молоденькая, но полненькая, яркий румянец от мороза сильно горел на ее щеках, вздернутый носик покраснел, и русые волосы, немного желтого отлива, слегка заиндевели, бойкое круглое и хорошенькое лицо ее выглядывало из красного платка, который покрывал голову и был завязан у полного подбородка, на плечи была накинута овчинная шубенка.
– Здорово, Васена! – сказала вполголоса вошедшая, целуясь с хозяйкой. – Я за тобой прибежала.
– А, это ты, Дуня! А что?
– Да девки собрались и уже пошли по деревне. Пойдем и мы, нам еще впервой ходить.
– Постой, вот я бабушке скажусь.
– А она дома? – спросила Дуня.
– Слышь!
Но в это время шепот замолк, и послышался дребезжащий голос: