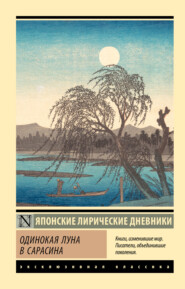По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские рассказы русских писателей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На этот раз операция переодеванья прошла благополучно.
– Сказать швейцару, чтоб запер парадный подъезд, – произнес Араратов, – никого не принимать; потушить везде огонь… Можешь идти; ты мне пока не нужен!.. – заключил он, проходя в кабинет.
Самые затейливые театральные превращения ничего решительно не значат перед тем, какое совершилось с камердинером, как только очутился он наедине; его круглое, гладко выбритое лицо, сохранявшее озабоченное, сосредоточенно деловитое выраженье, – проявило вдруг признаки самой необузданной радости. До настоящей минуты, он сокрушался мыслию, что придется по обыкновению ждать в уборной, пока барину вздумается лечь в постель, между тем как в это самое время, в нижнем этаже, в отведенном ему помещении, собираются теперь гости и трое его детей заперты в дальней комнате и мучительно томятся в ожидании елки. Камердинер и жена его так уже условились, чтобы до возвращения отца елка не зажигалась ни под каким видом. И вдруг так неожиданно: – «Ты мне пока не нужен!!..».
Он скоро-наскоро подбавил угля в камин, потушил свечи, убрал платье и кубарем сбежал по боковой лестнице.
II
– Ну, слава богу, – ждем не дождемся! – встретила его жена, – все уже собрались… тетушка Леоканида Захаровна также здесь… Скорей ступай!
– Сейчас, сейчас!.. – ответил он, подавляя одышку и суетливо входя в довольно просторную комнату, посреди которой, на столе, покрытом салфеткой, возвышалась убранная, но незажженная елка.
Несколько стульев вдоль стен заняты были сидевшими гостями; на почетном месте, посреди дивана, восседала тетушка Леоканида Захаровна, – кастелянша в доме графини Завадской, – дама величественного вида, в кружевном чепце и шали; рядом с нею приютился дядюшка Никанор Савельич, – совсем уже белый как лунь старец, – служивший тридцать пять лет старшим курьером в министерстве финансов. Перед ними на столике красовались тарелки с симметрически разложенными кусочками пастилы, финиками и яблоками. Такими же лакомствами пользовались остальные гости, – но уже с подноса, который любезно подставлял молодой лакей в белом галстухе, – тот самый, что с двумя курьерами встречал Араратова на верхней площадке лестницы.
Дверь соседней комнаты была заперта; за нею раздавались тоненькие детские голоса; они немедленно превратились в восторженные визги, как только в первой комнате послышался голос вошедшего камердинера.
После приветствий и неизбежных троекратных лобызаний в щеки тетушки и бакенбарды дяди, – приступлено было тотчас же к зажиганию елки. Один из гостей, известный весельчак и затейщик, предложил было произвести несколько ударов в медный таз, прежде чем распахнуть дверь, скрывавшую детей, – но предложение было отвергнуто; шум, – боже оборони! – мог быть услышан в кабинете барина! Обиженный несколько, весельчак ограничился тогда энергическим хлопаньем в ладоши, и быстро схватив со стола пару ложек, готовился барабанить ими по краю тарелки, – но и тут должен был остановиться: камердинер и жена его успели уже распахнуть дверь, из которой стремительно выбежали дети, – две хорошенькие девочки и мальчик-карапузик лет четырех, с большой круглой головой и глазами навыкате, – вылитый портрет отца. В противоположность сестрам, которые весело запрыгали вокруг елки, карапузик остановился с разинутым ртом и растопыренными коротенькими ручонками. Величайших трудов стоило отцу, чтобы заставить его поцеловать тетушку и дядю.
Во время этой церемонии весельчак подхватил двух девочек и начал было ходить с приплясом вокруг елки; но и это не совсем ему удалось: не успел он выкинуть двух коленцев, как одна из его подошв встретила обрезок яблочной кожицы, и он с грохотом покатился; девочки вскрикнули и отскочили в сторону; ближайшие лица не успели подхватить весельчака, как уже ноги его до половины туловища скрылись под столом с елкой, чудом каким-то сохранившей равновесие.
К счастью, все окончилось благополучно; весельчака поставили на ноги; он отряхнулся, подражая собаке, выскочившей из воды; новая эта выходка восстановила общую веселость. Почти в то же время показался молодой лакей с подносом, уснащенным чайными чашками, между которыми привлекательно круглился графинчик с ромом; за ним вошла хозяйка дома, с корзиной, наполненной печеньем.
Комната в скором времени представила оживленную картину: дети, наделенные игрушками и лакомствами, шумно играли в одной половине, между тем как в другой. – где уже к разогретому воздуху чувствительно примешивался запах рома, – шла одушевленная беседа, приправляемая взрывами хохота, всякий раз, когда весельчак изображал, как гуляет франт с тросточкой по Невскому проспекту, как на заре мычит корова, или рассказывал какой-нибудь анекдот игривого свойства.
III
В то время как в квартире камердинера всем было так привольно и весело, за стеною этого самого дома в соседнем переулке происходила сцена совсем другого рода.
При свете ближайшего фонаря легко было узнать ту самую женщину с детьми, которая час тому назад приставала к сановнику. Она стояла неподалеку от ворот его дома и то приближалась к ним, – причем всякий раз боязливо оглядывалась по сторонам, – то вдруг круто поворачивала назад и торопливо удалялась. Ее, очевидно, что-то сильно озабочивало; это выражалось между прочим ее невниманием к мальчику, который часто начинал плакать, жалуясь на холод; раза два она нетерпеливо даже дернула его за руку, стращая бросить одного на улице, если он хоть раз еще пискнет.
Такое расположение духа овладело ею не вдруг. В первую минуту, когда строгий барин сунул ей в ладонь бумажку, – она чуть не вскрикнула от радости; ей вдруг почему-то представилось, что барин, не досмотрев в сердцах, – подал ей трехрублевую ассигнацию; ее бросило в жар от неожиданного счастья; прежде чем в нем убедиться и из опасения, чтобы кто-нибудь не подсмотрел щедрой подачки, – она быстрыми шагами направилась в ближайший, более темный и тихий переулок; поравнявшись с первым фонарем, она обернулась спиною к тротуару и, делая вид, как будто поправляет ребенка, спавшего на груди, осторожно принялась развертывать ассигнацию; сердце ее билось в эту минуту очень сильно. Глаза ее, жадно следившие за движениями пальцев, раскрылись еще шире, когда, вместо ожидаемых трех рублей, увидела она бумажку, покрытую красноватыми и синими полосами…
Ей случалось видеть сторублевые ассигнации в то время, когда жила она в услужении у старого чиновника; но этому было уже десять лет назад. Выйдя вскоре после того замуж за портного, который напился в самый день свадьбы и с тех пор уже редко отрезвлялся, она не видала других денег кроме мелочи; – да и ту приходилось часто получать с прибавкою колотушек. Оставшись после смерти мужа с целой оравой детей (она не обманула Араратова; дома действительно было еще трое, из которых один лежал больной), – ей поневоле пришлось пробавляться подаянием; с детьми никто не соглашался взять ее в услужение.
Первою ее мыслью после того, как осмотрела она бумажку – было, что сердитый барин, должно быть, посмеялся над нею… «А ну как бумажка-то в самом деле настоящая, и барин дал ее только по ошибке?..» – пришло ей тотчас же в голову. Справиться об этом было очень легко: стоило зайти в первую встречную лавочку. Не сделав однако ж пяти шагов, она снова остановилась. Она подумала, что если деньги настоящие, – никто не поверит тому, как они ей достались; ее наверняка остановят, пошлют за полицией и Бог весть, что тогда будет, – не разделаешься! – «Нет, лучше уж убраться скорее домой на Выборгскую, в свой угол, дождаться завтрашнего дня, – продолжала она рассуждать сама с собою, – авось найдется добрый человек, не обманет, скажет правду, научит, где и как вернее разменять деньги…» Ей живо представилось все, что можно будет сделать: завтра же переедет она на другую квартиру, накормит детей, больного свезет к доктору, купит ребятишкам теплую одежонку; себе также надо кое-что приспособить: тулупчик совсем износился; вот также и обувь: валенки на ногах стали разваливаться. Но мечты эти не были продолжительны; они скоро сменились горьким сознанием, что и там, на Выборгской, произойдет то же самое: и там точно так же никто не поверит ее рассказу; начнутся расспросы, пересказы, – мало ли завистников чужому счастью! – толки, без сомнения, дойдут до городового, тот сейчас же поведет ее в квартал. Ее теперь уже, может быть, разыскивают; строгий барин, как увидал свою ошибку, наверное послал объявить об этом в полицию…
Простояв неподвижно несколько секунд, она бережно сложила бумажку, перенесла ее в левую руку, державшую ребенка, – и свободною рукой совершенно неожиданно несколько раз перекрестилась. Решившись, по-видимому, на что-то, она ускоренным шагом обогнула угол переулка, вышла на большую улицу и с озабоченным видом стала оглядывать дом с большим подъездом, в который вошел строгий барин.
С этой стороны фасад дома резко отличался от фасада соседних домов, служивших ему продолжением; почти из каждого окна выходил свет, местами весело мигали бесчисленные огоньки елок, за стеклами везде заметно было движение, отвечавшее оживлению тротуаров и улицы. Дом строгого барина, с его большими темными окнами, запертым подъездом, производил впечатление чего-то угрюмого, покинутого, бездушного. Нищая вернулась в переулок. Убедившись, что первые ворота за углом принадлежали темному дому, она в нерешительности остановилась перед ними. Дежурный дворник однако ж отсутствовал, и калитка была отперта. Нищая перекрестилась еще раз и вошла.
Двор был пуст, хотя и казался оживленнее фасада: в нижнем этаже резко выделялись три ярко освещенных окна; в одном из них зажженная елка бросала полосу света, проходившую по снегу через весь двор; за стеклами виднелись двигающиеся люди, слышались восклицания, по временам глухо раздавался хохот. Ближе выделялось еще несколько освещенных окон; лампа, привешенная к потолку, бросала яркий свет на белый длинный стол, и в полусвете, на задней стене, вытягивался ряд блестящих кастрюль.
При входе на двор нищая остановилась, услышав громкий говор нескольких голосов; он раздавался за небольшим окном, освещавшим снежную мостовую почти у ног женщины; не успела она осмотреться, как низенькая дверь подле окна отворилась – густой клуб пара взвился на воздух, – и вслед за тем, точно из земли, стал вырастать человек в шершавой бараньей шубе и такой же шапке.
– Ты зачем!?. Чего тебе?… – крикнул он, торопливо взбираясь на ступеньки, соединявшие низенькую дверь с мостовой.
– Батюшка… – начала было женщина.
– Вон! бесстыжие твои глаза! Вон ступай!!. – подхватил он, становясь перед нею и принимаясь размахивать руками.
– Постой, батюшка… дай слово сказать…
– Как же, стану я тебя слушать! Проваливай! Проваливай!!. Ты, пострел, чего заорал? – обратился он неожиданно к мальчику, который вдруг заплакал, припав к юбке матери.
Дворник готовился уже ухватить женщину за шиворот и вытолкать ее вон, – но в эту минуту маленькая дверь снова распахнулась, выпустив новый клуб пара, и на пороге ее показались два человека.
– Что тут? – спросил один из них.
– Батюшка! – торопливо заговорила нищая, делая шаг вперед, – послушай меня… Пришла я не за каким худым делом!.. Барин, который здесь живет… Да… Шла я так-то по улице, повстречался он мне, я попросила на хлеб… Он подал мне… подал, да, должно быть, обознался, – темно было, – дал мне бумажку в сотню рублей…
Оба человека, из коих один был в синей поддевке, надетой на красную рубашку, – поднялись по ступенькам и подошли к женщине.
– Ты, тетка, смотри не ври, – здесь врать не приходится; как раз угодишь – знаешь куда!.. Толком рассказывай, какая такая бумажка? Покажь ка ее…
– Покажу, батюшка, дай в комнату войти… Мальчик-то озяб больно… Боюсь я, барин ваш догадался, что обознался, в квартал дал знать…
– Ох врешь, тетка… Сдается мне, – врешь! – заметил второй мужик.
– Вестимо врет! – проворчала баранья шуба.
– Батюшки! верите вы святому кресту… Вот! – торопливо заговорила женщина, принимаясь креститься, – ныне праздник святой… возьму ли грех такой на душу… Я затем пришла к барину вашему, хочу деньги отдать…
– Что за притча!.. – проговорила поддевка, – надо быть, правду говорит… Пойдем, коли так… Ступай за мной!.. – добавил он, направляясь к кухне.
Там нашли они молодого лакея, который возился подле чашек, и еще поваренка. Человек в поддевке, оказавшийся старшим дворником, передал в коротких словах рассказ женщины и просил доложить о случившемся «генералову камердинеру».
Минуту спустя в кухню суетливо вошел знакомый камердинер; за ним выступала жена его; за ее плечами показались, с одной стороны: раскрасневшееся лицо весельчака, с другой – розовые банты на чепце тетушки; за ними мелькнуло еще несколько голов. Любопытство изображалось на всех лицах; задние гости не успели еще протискаться в кухню, как уже камердинер, недоверчиво поглядывая на нищую, приступил к расспросам.
Робко, запинаясь почти на каждом слове, она повторила свой рассказ, прерываемый возгласами удивленья и замечаниями присутствующих.
На приглашение камердинера показать бумажку, – она тотчас же согласилась, но ни за что не решалась выпустить ее из рук и крепко держалась за один из ее углов двумя пальцами.
– Отдам ее только самому барину, – только ему одному, – повторяла она, – может, тогда милость его будет – даст что-нибудь… У меня, батюшка, еще трое таких дома осталось… голодные сидят… – прибавила она глухим голосом.
– Делать нечего… – сказал камердинер, обратясь неожиданно к молодому лакею. – Ваня, подымитесь наверх; барин рассердится, но случай такой особенный… Доложите ему…
IV
Сановник Араратов давно между тем успел устроиться в своем кабинете. Он сидел в вольтеровских креслах перед камином с горевшими угольями.
Высокая лампа, прикрытая зеленым зонтиком и поставленная на край длинного письменного стола, позволяла читать, сидя в креслах и вытянув ноги к камину: она в то же время освещала ближнюю часть стола с разложенными аккуратно кипами бумаг. Все отличалось здесь изумительным порядком: ни один угол бумаги или книги не выступал против другого; самые карандаши, мельчайшие письменные принадлежности лежали правильными, симметрическими рядами с каждой стороны совершенно гладких столовых часов из черного мрамора, возвышавшихся против серебряной чернильницы строгого, прямолинейного характера. Множество бумаг было заложено в синие обертки с каллиграфически выведенными надписями: «к Докладу», – «к Решению», – «к Подписанию», и т. д.
Свет на столе и круг света от лампы на потолке, соединяясь с зеленоватым отражением зонтика, сообщали ближайшей части длинного кабинета мягкий полусвет, в котором обозначались по стенам сплошные шкапы с книгами; дальше, – от стола и камина до уборной, – свет постепенно ослабевал, тушевался сумерками и под конец превращался в глухой сумрак.
Вокруг было совершенно тихо: слышалось только, как иногда обваливался уголь в камине или раздавался жесткий шелест листа из официального доклада, который просматривал Араратов.
Доклад требовал, надо полагать, усиленного умственного напряжения; после каждой почти страницы Араратов отрывал глаза от бумаги, опускал голову на ладонь и задумывался. Одно время голова его как-то особенно долго не приподымалась, – даже глаза зажмурились…
– Сказать швейцару, чтоб запер парадный подъезд, – произнес Араратов, – никого не принимать; потушить везде огонь… Можешь идти; ты мне пока не нужен!.. – заключил он, проходя в кабинет.
Самые затейливые театральные превращения ничего решительно не значат перед тем, какое совершилось с камердинером, как только очутился он наедине; его круглое, гладко выбритое лицо, сохранявшее озабоченное, сосредоточенно деловитое выраженье, – проявило вдруг признаки самой необузданной радости. До настоящей минуты, он сокрушался мыслию, что придется по обыкновению ждать в уборной, пока барину вздумается лечь в постель, между тем как в это самое время, в нижнем этаже, в отведенном ему помещении, собираются теперь гости и трое его детей заперты в дальней комнате и мучительно томятся в ожидании елки. Камердинер и жена его так уже условились, чтобы до возвращения отца елка не зажигалась ни под каким видом. И вдруг так неожиданно: – «Ты мне пока не нужен!!..».
Он скоро-наскоро подбавил угля в камин, потушил свечи, убрал платье и кубарем сбежал по боковой лестнице.
II
– Ну, слава богу, – ждем не дождемся! – встретила его жена, – все уже собрались… тетушка Леоканида Захаровна также здесь… Скорей ступай!
– Сейчас, сейчас!.. – ответил он, подавляя одышку и суетливо входя в довольно просторную комнату, посреди которой, на столе, покрытом салфеткой, возвышалась убранная, но незажженная елка.
Несколько стульев вдоль стен заняты были сидевшими гостями; на почетном месте, посреди дивана, восседала тетушка Леоканида Захаровна, – кастелянша в доме графини Завадской, – дама величественного вида, в кружевном чепце и шали; рядом с нею приютился дядюшка Никанор Савельич, – совсем уже белый как лунь старец, – служивший тридцать пять лет старшим курьером в министерстве финансов. Перед ними на столике красовались тарелки с симметрически разложенными кусочками пастилы, финиками и яблоками. Такими же лакомствами пользовались остальные гости, – но уже с подноса, который любезно подставлял молодой лакей в белом галстухе, – тот самый, что с двумя курьерами встречал Араратова на верхней площадке лестницы.
Дверь соседней комнаты была заперта; за нею раздавались тоненькие детские голоса; они немедленно превратились в восторженные визги, как только в первой комнате послышался голос вошедшего камердинера.
После приветствий и неизбежных троекратных лобызаний в щеки тетушки и бакенбарды дяди, – приступлено было тотчас же к зажиганию елки. Один из гостей, известный весельчак и затейщик, предложил было произвести несколько ударов в медный таз, прежде чем распахнуть дверь, скрывавшую детей, – но предложение было отвергнуто; шум, – боже оборони! – мог быть услышан в кабинете барина! Обиженный несколько, весельчак ограничился тогда энергическим хлопаньем в ладоши, и быстро схватив со стола пару ложек, готовился барабанить ими по краю тарелки, – но и тут должен был остановиться: камердинер и жена его успели уже распахнуть дверь, из которой стремительно выбежали дети, – две хорошенькие девочки и мальчик-карапузик лет четырех, с большой круглой головой и глазами навыкате, – вылитый портрет отца. В противоположность сестрам, которые весело запрыгали вокруг елки, карапузик остановился с разинутым ртом и растопыренными коротенькими ручонками. Величайших трудов стоило отцу, чтобы заставить его поцеловать тетушку и дядю.
Во время этой церемонии весельчак подхватил двух девочек и начал было ходить с приплясом вокруг елки; но и это не совсем ему удалось: не успел он выкинуть двух коленцев, как одна из его подошв встретила обрезок яблочной кожицы, и он с грохотом покатился; девочки вскрикнули и отскочили в сторону; ближайшие лица не успели подхватить весельчака, как уже ноги его до половины туловища скрылись под столом с елкой, чудом каким-то сохранившей равновесие.
К счастью, все окончилось благополучно; весельчака поставили на ноги; он отряхнулся, подражая собаке, выскочившей из воды; новая эта выходка восстановила общую веселость. Почти в то же время показался молодой лакей с подносом, уснащенным чайными чашками, между которыми привлекательно круглился графинчик с ромом; за ним вошла хозяйка дома, с корзиной, наполненной печеньем.
Комната в скором времени представила оживленную картину: дети, наделенные игрушками и лакомствами, шумно играли в одной половине, между тем как в другой. – где уже к разогретому воздуху чувствительно примешивался запах рома, – шла одушевленная беседа, приправляемая взрывами хохота, всякий раз, когда весельчак изображал, как гуляет франт с тросточкой по Невскому проспекту, как на заре мычит корова, или рассказывал какой-нибудь анекдот игривого свойства.
III
В то время как в квартире камердинера всем было так привольно и весело, за стеною этого самого дома в соседнем переулке происходила сцена совсем другого рода.
При свете ближайшего фонаря легко было узнать ту самую женщину с детьми, которая час тому назад приставала к сановнику. Она стояла неподалеку от ворот его дома и то приближалась к ним, – причем всякий раз боязливо оглядывалась по сторонам, – то вдруг круто поворачивала назад и торопливо удалялась. Ее, очевидно, что-то сильно озабочивало; это выражалось между прочим ее невниманием к мальчику, который часто начинал плакать, жалуясь на холод; раза два она нетерпеливо даже дернула его за руку, стращая бросить одного на улице, если он хоть раз еще пискнет.
Такое расположение духа овладело ею не вдруг. В первую минуту, когда строгий барин сунул ей в ладонь бумажку, – она чуть не вскрикнула от радости; ей вдруг почему-то представилось, что барин, не досмотрев в сердцах, – подал ей трехрублевую ассигнацию; ее бросило в жар от неожиданного счастья; прежде чем в нем убедиться и из опасения, чтобы кто-нибудь не подсмотрел щедрой подачки, – она быстрыми шагами направилась в ближайший, более темный и тихий переулок; поравнявшись с первым фонарем, она обернулась спиною к тротуару и, делая вид, как будто поправляет ребенка, спавшего на груди, осторожно принялась развертывать ассигнацию; сердце ее билось в эту минуту очень сильно. Глаза ее, жадно следившие за движениями пальцев, раскрылись еще шире, когда, вместо ожидаемых трех рублей, увидела она бумажку, покрытую красноватыми и синими полосами…
Ей случалось видеть сторублевые ассигнации в то время, когда жила она в услужении у старого чиновника; но этому было уже десять лет назад. Выйдя вскоре после того замуж за портного, который напился в самый день свадьбы и с тех пор уже редко отрезвлялся, она не видала других денег кроме мелочи; – да и ту приходилось часто получать с прибавкою колотушек. Оставшись после смерти мужа с целой оравой детей (она не обманула Араратова; дома действительно было еще трое, из которых один лежал больной), – ей поневоле пришлось пробавляться подаянием; с детьми никто не соглашался взять ее в услужение.
Первою ее мыслью после того, как осмотрела она бумажку – было, что сердитый барин, должно быть, посмеялся над нею… «А ну как бумажка-то в самом деле настоящая, и барин дал ее только по ошибке?..» – пришло ей тотчас же в голову. Справиться об этом было очень легко: стоило зайти в первую встречную лавочку. Не сделав однако ж пяти шагов, она снова остановилась. Она подумала, что если деньги настоящие, – никто не поверит тому, как они ей достались; ее наверняка остановят, пошлют за полицией и Бог весть, что тогда будет, – не разделаешься! – «Нет, лучше уж убраться скорее домой на Выборгскую, в свой угол, дождаться завтрашнего дня, – продолжала она рассуждать сама с собою, – авось найдется добрый человек, не обманет, скажет правду, научит, где и как вернее разменять деньги…» Ей живо представилось все, что можно будет сделать: завтра же переедет она на другую квартиру, накормит детей, больного свезет к доктору, купит ребятишкам теплую одежонку; себе также надо кое-что приспособить: тулупчик совсем износился; вот также и обувь: валенки на ногах стали разваливаться. Но мечты эти не были продолжительны; они скоро сменились горьким сознанием, что и там, на Выборгской, произойдет то же самое: и там точно так же никто не поверит ее рассказу; начнутся расспросы, пересказы, – мало ли завистников чужому счастью! – толки, без сомнения, дойдут до городового, тот сейчас же поведет ее в квартал. Ее теперь уже, может быть, разыскивают; строгий барин, как увидал свою ошибку, наверное послал объявить об этом в полицию…
Простояв неподвижно несколько секунд, она бережно сложила бумажку, перенесла ее в левую руку, державшую ребенка, – и свободною рукой совершенно неожиданно несколько раз перекрестилась. Решившись, по-видимому, на что-то, она ускоренным шагом обогнула угол переулка, вышла на большую улицу и с озабоченным видом стала оглядывать дом с большим подъездом, в который вошел строгий барин.
С этой стороны фасад дома резко отличался от фасада соседних домов, служивших ему продолжением; почти из каждого окна выходил свет, местами весело мигали бесчисленные огоньки елок, за стеклами везде заметно было движение, отвечавшее оживлению тротуаров и улицы. Дом строгого барина, с его большими темными окнами, запертым подъездом, производил впечатление чего-то угрюмого, покинутого, бездушного. Нищая вернулась в переулок. Убедившись, что первые ворота за углом принадлежали темному дому, она в нерешительности остановилась перед ними. Дежурный дворник однако ж отсутствовал, и калитка была отперта. Нищая перекрестилась еще раз и вошла.
Двор был пуст, хотя и казался оживленнее фасада: в нижнем этаже резко выделялись три ярко освещенных окна; в одном из них зажженная елка бросала полосу света, проходившую по снегу через весь двор; за стеклами виднелись двигающиеся люди, слышались восклицания, по временам глухо раздавался хохот. Ближе выделялось еще несколько освещенных окон; лампа, привешенная к потолку, бросала яркий свет на белый длинный стол, и в полусвете, на задней стене, вытягивался ряд блестящих кастрюль.
При входе на двор нищая остановилась, услышав громкий говор нескольких голосов; он раздавался за небольшим окном, освещавшим снежную мостовую почти у ног женщины; не успела она осмотреться, как низенькая дверь подле окна отворилась – густой клуб пара взвился на воздух, – и вслед за тем, точно из земли, стал вырастать человек в шершавой бараньей шубе и такой же шапке.
– Ты зачем!?. Чего тебе?… – крикнул он, торопливо взбираясь на ступеньки, соединявшие низенькую дверь с мостовой.
– Батюшка… – начала было женщина.
– Вон! бесстыжие твои глаза! Вон ступай!!. – подхватил он, становясь перед нею и принимаясь размахивать руками.
– Постой, батюшка… дай слово сказать…
– Как же, стану я тебя слушать! Проваливай! Проваливай!!. Ты, пострел, чего заорал? – обратился он неожиданно к мальчику, который вдруг заплакал, припав к юбке матери.
Дворник готовился уже ухватить женщину за шиворот и вытолкать ее вон, – но в эту минуту маленькая дверь снова распахнулась, выпустив новый клуб пара, и на пороге ее показались два человека.
– Что тут? – спросил один из них.
– Батюшка! – торопливо заговорила нищая, делая шаг вперед, – послушай меня… Пришла я не за каким худым делом!.. Барин, который здесь живет… Да… Шла я так-то по улице, повстречался он мне, я попросила на хлеб… Он подал мне… подал, да, должно быть, обознался, – темно было, – дал мне бумажку в сотню рублей…
Оба человека, из коих один был в синей поддевке, надетой на красную рубашку, – поднялись по ступенькам и подошли к женщине.
– Ты, тетка, смотри не ври, – здесь врать не приходится; как раз угодишь – знаешь куда!.. Толком рассказывай, какая такая бумажка? Покажь ка ее…
– Покажу, батюшка, дай в комнату войти… Мальчик-то озяб больно… Боюсь я, барин ваш догадался, что обознался, в квартал дал знать…
– Ох врешь, тетка… Сдается мне, – врешь! – заметил второй мужик.
– Вестимо врет! – проворчала баранья шуба.
– Батюшки! верите вы святому кресту… Вот! – торопливо заговорила женщина, принимаясь креститься, – ныне праздник святой… возьму ли грех такой на душу… Я затем пришла к барину вашему, хочу деньги отдать…
– Что за притча!.. – проговорила поддевка, – надо быть, правду говорит… Пойдем, коли так… Ступай за мной!.. – добавил он, направляясь к кухне.
Там нашли они молодого лакея, который возился подле чашек, и еще поваренка. Человек в поддевке, оказавшийся старшим дворником, передал в коротких словах рассказ женщины и просил доложить о случившемся «генералову камердинеру».
Минуту спустя в кухню суетливо вошел знакомый камердинер; за ним выступала жена его; за ее плечами показались, с одной стороны: раскрасневшееся лицо весельчака, с другой – розовые банты на чепце тетушки; за ними мелькнуло еще несколько голов. Любопытство изображалось на всех лицах; задние гости не успели еще протискаться в кухню, как уже камердинер, недоверчиво поглядывая на нищую, приступил к расспросам.
Робко, запинаясь почти на каждом слове, она повторила свой рассказ, прерываемый возгласами удивленья и замечаниями присутствующих.
На приглашение камердинера показать бумажку, – она тотчас же согласилась, но ни за что не решалась выпустить ее из рук и крепко держалась за один из ее углов двумя пальцами.
– Отдам ее только самому барину, – только ему одному, – повторяла она, – может, тогда милость его будет – даст что-нибудь… У меня, батюшка, еще трое таких дома осталось… голодные сидят… – прибавила она глухим голосом.
– Делать нечего… – сказал камердинер, обратясь неожиданно к молодому лакею. – Ваня, подымитесь наверх; барин рассердится, но случай такой особенный… Доложите ему…
IV
Сановник Араратов давно между тем успел устроиться в своем кабинете. Он сидел в вольтеровских креслах перед камином с горевшими угольями.
Высокая лампа, прикрытая зеленым зонтиком и поставленная на край длинного письменного стола, позволяла читать, сидя в креслах и вытянув ноги к камину: она в то же время освещала ближнюю часть стола с разложенными аккуратно кипами бумаг. Все отличалось здесь изумительным порядком: ни один угол бумаги или книги не выступал против другого; самые карандаши, мельчайшие письменные принадлежности лежали правильными, симметрическими рядами с каждой стороны совершенно гладких столовых часов из черного мрамора, возвышавшихся против серебряной чернильницы строгого, прямолинейного характера. Множество бумаг было заложено в синие обертки с каллиграфически выведенными надписями: «к Докладу», – «к Решению», – «к Подписанию», и т. д.
Свет на столе и круг света от лампы на потолке, соединяясь с зеленоватым отражением зонтика, сообщали ближайшей части длинного кабинета мягкий полусвет, в котором обозначались по стенам сплошные шкапы с книгами; дальше, – от стола и камина до уборной, – свет постепенно ослабевал, тушевался сумерками и под конец превращался в глухой сумрак.
Вокруг было совершенно тихо: слышалось только, как иногда обваливался уголь в камине или раздавался жесткий шелест листа из официального доклада, который просматривал Араратов.
Доклад требовал, надо полагать, усиленного умственного напряжения; после каждой почти страницы Араратов отрывал глаза от бумаги, опускал голову на ладонь и задумывался. Одно время голова его как-то особенно долго не приподымалась, – даже глаза зажмурились…