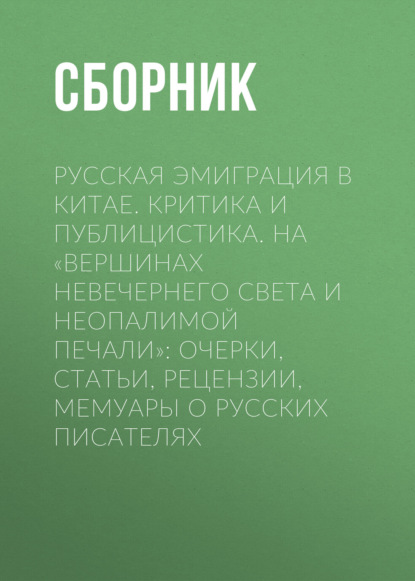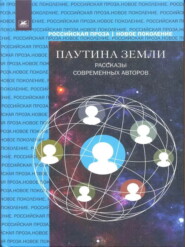По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В моей юности, еще заставшей пережитки отрицательной критики, нас важно учили высокомерному взгляду на Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Имена их, вошедшие в пословицу, были обращены в синонимы глупо добродушных «пошляков, вредных своею бесполезностью». Так, помню, и выразился один педагог. Возможно, что этакие глупости в иных школах и теперь еще вбиваются в отроческие мозги.
А между тем сколько ни старался Гоголь впоследствии сочинять, в контраст бесчисленным отрицательным типам своего творчества, типы утешительно положительные, ни в одном не удалось ему хотя бы на пядь приблизиться к старческой чете Товстогуба с Товстогубихой. А их создал он, молодой, еще без всякого учительного старания, но зато с живого наблюдения и – с какою любовью! Инстинктом учуял он в этих смиренных чудаках тепло и тихий свет положительного идеала, лелеемого ими неведомо для себя самих. И полно искреннею грустью надгробное слово Гоголя их миру, невозвратимо отошедшему в вечность. Грусти и зависти уже несчастливого потомка к недавним предкам, в малой и бессознательной мудрости своей знавшим, однако, секрет какого-то благого бытия на земле.
Но глубоких корней в первокультурном быту Гоголь не имел. Когда он пытается говорить образным языком стародавних дней, то бывает красноречив, но делается театральным и декламирует не как Гомер, а разве как Вергилий, вернее же – почти как псевдо-классик. Таковы, например, речи атаманов, боевые сцены, да и вообще героическая часть «Тараса Бульбы».
В комической выдумке и угадке Гоголь творец непревзойденный, да и едва ли превосходимый. Предшественников, равносильных ему, также немного может насчитать мировая литература. Пушкин, убеждая Гоголя взяться за «Мертвые души», указывал ему дорогу Сервантеса! В трагическом роде Гоголь менее удачлив, хотя его сильно тянуло к трагедии: роковая болезнь всех комиков, как писателей, так и актеров!
Идея трагедии в представлении Гоголя всегда связывалась с идеей прошедшего. Он романтически искал трагизма в глубоком пассатизме. Мыслить трагически для него значило мыслить о прошедших веках, рядить героев в стародавние костюмы, воскрешать угадкою нравы, деяния, мысли старины, унесшей в гробы, вместе с могучими интересными людьми, также и могучие интересные чувства.
В «Авторской Исповеди» Гоголь уверяет, будто у него «не было влечения к прошедшему». Но это лишь одно из обычных капризных противоречий его авторской самооценки. Как не было влечения к прошедшему в человеке, который считал себя призванным к исторической кафедре (правда, очень ошибаясь в том) и, неудачно побывав на ней, покинул ее с обидным чувством «непризнанного»? который собирался писать историю Малороссии и уже не только планировал ее, но и поторопился объявить в «Северной Пчеле» о предстоящем вскоре ее выходе?
Который насочинил в «Арабесках»
кучу статей о средних веках, критиковал Шлецера
, Миллера
и Гердера?
Обожал Вальтера Скотта, подражал ему в нескольких отрывках, начатых и брошенных повестей («Пленник»), и, наконец, осилил, двумя последовательными редакциями, превосходный, истинно вальтер-скоттовский роман – «Тарас Бульба»?
От «влечения к прошлому» Гоголю, по собственному его показанию, увело «желание быть писателем современным» и тем принести «пользу, более существенную». Но мечта Гоголя все-таки в прошедшем – и мало, что в прошедшем, – в романтике прошедшего. Здесь он стоит, хотя на малороссийской почве, но в тесной близости к Жуковскому и вместе с ним дружит с немецкой романтической школой. Излюбленной «пассеистской» грезой Гоголя стало «лыцарство», то есть «рыцарство» и, хотя его «лыцари» преувеличенно хлещут горилку и не весьма изысканны в речах и манерах, но, по существу, такие же точно условные рыцари, как воспетые Жуковским, Уландом
, Тиком
. И среди них, головою выше всех, «лыцарь из лыцарей» – Тарас Бульба с сыном Остапом.
«Тарас Бульба» считается лучшим русским историческим романом после «Капитанской дочки» Пушкина. Действительно, мастерское произведение большой драматической силы и поразительной живописности в пейзаже и жанре. Но исторически ли?
Нет. Ни по фактам, ни по духу, ни по идее. За исключением «Записок сумасшедшего», – удивительной попытки вообразить патологическое душевное состояние без наблюдения, силою только выдумки и угадки, – нигде Гоголь не дал большей воли этим своим дарам, чем в «Тарасе Бульбе».
С исторической точки зрения «Тарас Бульба» – творение, совершено произвольное. Романтически настроенному, как всегда в своих представлениях о Малороссии, – Гоголю захотелось воскресить Запорожье не изучением исторической правды, но ясновидением романтической мечты. Волшебством слова создал он галерею картин увлекательных, но фантастических, с полным пренебрежением к времени и пространству.
Хронология в особенности страдает. Люди и нравы переносятся из века в век. Южнорусская «жакерия» повествуется в высоких тонах «Энеиды». Еще один из первых критиков «Тараса Бульбы», историк-украинец Кулиш, верно заметил, что Гоголь на казацких атаманов «надел плащи героев Гомера»
. Было бы еще вернее, если бы он сказал – Вергилия.
Когда Гоголь писал комедию, трагедия выходила у него сама собой. Это есть не только в «Ревизоре» и «Мертвых душах», но даже в смехотворной «Женитьбе», даже в «Игроках». Но, когда он умышлял писать трагедию, то, должно быть, по самочувствию художника не вполне доверял себе, творя дело, не совсем привычное в области, не так прирожденно знакомой. Ему как будто все казалось, что производимое им трагическое впечатление ниже его намерений. Поэтому он – сказать актерским языком – спешил «нажимать педаль», разводя пары той своей «лирической силы», которою он так справедливо гордился и на чудотворность которой смело уповал.
– «Я думаю, – писал он впоследствии, оправдывая в «Авторской Исповеди» неудачу своих положительных типов, – что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе».
Но «сила смеха» была присуща Гоголю всегда и никогда не давала промаха. Сила же лирическая часто ему изменяла, и тогда он в насильственном вдохновении начинал «в холодном духе горячиться» и, все пришпоривая и пришпоривая себя, впадал в преувеличенный драматизм и даже в мелодраму. От этого недостатка не свободна ни одна из трагических выдумок и угадок Гоголя… «Тарас Бульба» обременен такою «экзажерацией»
и риторическою напряженностью до излишка.
Даже Белинский, при всей своей, можно сказать, слепой влюбленности в Гоголя, при всем восторге к «Тарасу Бульбе», все-таки отметил в нем декларативные пустоты. К числу их он отнес, может быть, с чрезмерной строгостью даже знаменитое «Слышу»! Тараса – на площади в Варшаве – в ответ воплю казнимого Остапа:
– Батько! Где ты? Слышишь ли все это?
Может потрясающий, но, в сущности говоря, мелодраматически условный. Хотя бы уже то: с чего бы Остапу в предсмертный час воззвать к отцу по-русски, по-московски, когда, наверное, раньше, во всю жизнь, ни отец, ни сын не сказали между собой ни одного русского слова? Это тем страннее, что за одну минуту пред тем Тарас одобряет богатырское терпение мучимого Остапа – как ему и естественно, по-украински:
– Добре, сынку, добре!
Другую богатырскую сцену казни – самого Тараса, замечательную по эпической энергии, Гоголь расхолодил внезапною публицистическою вставкою в предсмертный монолог, произносимый Тарасом в страшную минуту, когда «уже огонь захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву»:
– «Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»
Эта фраза из «передовой статьи», уместная в устах писателя-патриота тридцатых-сороковых годов XIX столетия, но совершенно невероятная для украинского казака двадцатых годов XVII, задолго до Богдана Хмельницкого, когда на Украине московская идея возобладала и над польскою, и над автономною. В эпоху Тараса Бульбы московская Русь, еще не оправившаяся после Смутного Времени, была в таком плачевном состоянии, что пророчески грозить русским царем дальним и близким народам едва ли пришло бы в голову гибнущему на костре украинскому атаману.
И при всем том этот «ирреальный» роман, счастливо переживший сто лет, невозможно читать без волнения и восхищения; и дети, и внуки наши еще почитают его. Столько художественного пафоса вложено в картинность «Тараса Бульбы», что его прямая неправда – близкая и внешняя – искупается и поглощается некою другою, косвенною правдою, таящеюся во внутренней глубине этой эпопеи.
Собственно говоря, «Тарас Бульба» – не повесть, не роман, а огромная «былина», исполинского протяжения украинская «думка», которую следовало бы слушать из уст слепого деда под звуки бандуры. Так к нему и надо относиться, да так и относится большинство читателей, воспринимающих «Бульбу» непосредственно, без исторической критики. Тарас Бульба такой же легендарный герой, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович русских «старинок», Зигфрид «Песни о Нибелунгах», Фритьоф и Геральд Гарфагар скандинавских саг. Столько же невероятен, как историческое лицо эпохи, которой он приписывается, и столько же верен, а потому увлекателен и любим, как собирательный героический тип – выразитель вечного духа своей народности.
Гоголь и черт. К столетию «Вия»
«Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное» – так поучал Гоголь свою поклонницу калужскую губернаторшу А. О. Россетти-Смирнову: «где страстность, там близки обаяния нечестивой любви»
. В страстной дружбе, в «распаленной любви» к нему С. Т. и К. С. Аксаковых Гоголь с неудовольствием отмечал «отсутствие разумной, неизменно-твердой любви во Христе, возвышающей человека». Родственную любовь он почитал «чувственной»
. Где страсти, там невладение собой, там скользкий путь поведения, там опасность падения. Рядом с экстазом святости – возможность экстаза в грехе. Да и не только рядом, но и самый экстаз святости часто переливается в экстаз греха.
Эту зыбкую лестницу Гоголь, сердцеведец и страстник, опытно знал и внушал своим «прихожанам и прихожанкам», когда они вдавались в чересчур ревностное богомольство (например, гр. А. П. Толстому)
. Но сам-то он был воплощением страстности, пылко алкавшей удовлетворения, вопреки разумной воле, удовлетворение воспрещавшей. И в борении с игрою страстности раскололась надвое его душа. И из глубокой расщелины расколотой души выструился демонический дуализм – красная нить, проходящая резким швом через творчество Гоголя.
Религиозный и богомольный Гоголь жарко звал на помощь против силы злой силу добрую, но ее энергия не успевала в нем за энергией злой и часто пасовала в борьбе с ней. Отсюда ужас Гоголя пред властностью зла, как в себе самом, так и – мрачно чудится ему – во всем зримом, живущем и чувствуемом мире.
Гоголь поверил в черта, как владыку, управляющего миром посредством пошлости, умения «показать все не в настоящем виде», отстранять человечество от благих светов Божественной Мысли кошмарами, исходящими из злого мрака бессмысленного часа. «Какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без толку, без смысла сложил вместе» («Невский проспект»).
По удачному выражению одного современного критика, Гоголь, – обманный реалист, по форме, а в существе символист и фантаст – «из всех впечатлений мира только черта принял не как символ, но как реальность, – непосредственно ощутил, как мы ощущаем холод от мороза»
. Черт – для Гоголя – величина почти что материальная. «Бейте эту скотину (черта) по морде!»
– рекомендует он С. Т. Аксакову. Аксентий Поприщин знает, не своим умом, а Гоголевым, – что «женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то – она любит одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет: она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него, выйдет»
. «Сплетни делаются чертом» – доказывает Гоголь А. О. Россети
. Поэта Языкова он убеждает громить стихами «врага рода человеческого». Предсмертное сожжение беловой рукописи «Мертвых душ» толкует внушением от злого духа.
«Как смеют предаваться какой-нибудь минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искуситель!» – вопиет Гоголь в письме к своему духовнику о. Матвею (21 апр. 1848 г.). Укоряя Константина Аксакова за резкий отзыв о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напоминает своему критику, что «есть дух обольщения, дух-искуситель, который не дремлет и который также хлопочет и около вас, как около меня»
.
Под впечатлением явно сказывающейся демономании самого Гоголя позднейшие критики мистического уклона (Мережковский) начали выискивать бесов даже под масками Чичикова и Хлестакова. Это – измышления, более или менее остроумные, но едва ли необходимые. «Тому не нужно (за чертом) далеко ходить, у кого черт за плечами», – сказал запорожец Пацюк кузнецу Вакуле («Ночь перед рождестивом»). Так точно – чрезмерное усердие искать у Гоголя потаенных и маскированных чертей, когда их – сколько угодно явных и откровенных.
Черти, ведьмы, колдуны, мертвецы участвуют – собственной персоной – в десяти из 22 художественных произведений Гоголя. И с какою подробностью, как зрительно и осязаемо они описаны! Гоголь на бесовском шабаше – свой. Чертовщина – для него – фамильярная реальность. Он изображает ее призрачное метание чуть ли не проще, чем жизнь обычную.
Против реализма житейского у Гоголя не редки погрешности. Покойный петербургский критик и юморист А. А. Измайлов собрал букет их в своих «Пятнах на солнце»
А между тем сколько ни старался Гоголь впоследствии сочинять, в контраст бесчисленным отрицательным типам своего творчества, типы утешительно положительные, ни в одном не удалось ему хотя бы на пядь приблизиться к старческой чете Товстогуба с Товстогубихой. А их создал он, молодой, еще без всякого учительного старания, но зато с живого наблюдения и – с какою любовью! Инстинктом учуял он в этих смиренных чудаках тепло и тихий свет положительного идеала, лелеемого ими неведомо для себя самих. И полно искреннею грустью надгробное слово Гоголя их миру, невозвратимо отошедшему в вечность. Грусти и зависти уже несчастливого потомка к недавним предкам, в малой и бессознательной мудрости своей знавшим, однако, секрет какого-то благого бытия на земле.
Но глубоких корней в первокультурном быту Гоголь не имел. Когда он пытается говорить образным языком стародавних дней, то бывает красноречив, но делается театральным и декламирует не как Гомер, а разве как Вергилий, вернее же – почти как псевдо-классик. Таковы, например, речи атаманов, боевые сцены, да и вообще героическая часть «Тараса Бульбы».
В комической выдумке и угадке Гоголь творец непревзойденный, да и едва ли превосходимый. Предшественников, равносильных ему, также немного может насчитать мировая литература. Пушкин, убеждая Гоголя взяться за «Мертвые души», указывал ему дорогу Сервантеса! В трагическом роде Гоголь менее удачлив, хотя его сильно тянуло к трагедии: роковая болезнь всех комиков, как писателей, так и актеров!
Идея трагедии в представлении Гоголя всегда связывалась с идеей прошедшего. Он романтически искал трагизма в глубоком пассатизме. Мыслить трагически для него значило мыслить о прошедших веках, рядить героев в стародавние костюмы, воскрешать угадкою нравы, деяния, мысли старины, унесшей в гробы, вместе с могучими интересными людьми, также и могучие интересные чувства.
В «Авторской Исповеди» Гоголь уверяет, будто у него «не было влечения к прошедшему». Но это лишь одно из обычных капризных противоречий его авторской самооценки. Как не было влечения к прошедшему в человеке, который считал себя призванным к исторической кафедре (правда, очень ошибаясь в том) и, неудачно побывав на ней, покинул ее с обидным чувством «непризнанного»? который собирался писать историю Малороссии и уже не только планировал ее, но и поторопился объявить в «Северной Пчеле» о предстоящем вскоре ее выходе?
Который насочинил в «Арабесках»
кучу статей о средних веках, критиковал Шлецера
, Миллера
и Гердера?
Обожал Вальтера Скотта, подражал ему в нескольких отрывках, начатых и брошенных повестей («Пленник»), и, наконец, осилил, двумя последовательными редакциями, превосходный, истинно вальтер-скоттовский роман – «Тарас Бульба»?
От «влечения к прошлому» Гоголю, по собственному его показанию, увело «желание быть писателем современным» и тем принести «пользу, более существенную». Но мечта Гоголя все-таки в прошедшем – и мало, что в прошедшем, – в романтике прошедшего. Здесь он стоит, хотя на малороссийской почве, но в тесной близости к Жуковскому и вместе с ним дружит с немецкой романтической школой. Излюбленной «пассеистской» грезой Гоголя стало «лыцарство», то есть «рыцарство» и, хотя его «лыцари» преувеличенно хлещут горилку и не весьма изысканны в речах и манерах, но, по существу, такие же точно условные рыцари, как воспетые Жуковским, Уландом
, Тиком
. И среди них, головою выше всех, «лыцарь из лыцарей» – Тарас Бульба с сыном Остапом.
«Тарас Бульба» считается лучшим русским историческим романом после «Капитанской дочки» Пушкина. Действительно, мастерское произведение большой драматической силы и поразительной живописности в пейзаже и жанре. Но исторически ли?
Нет. Ни по фактам, ни по духу, ни по идее. За исключением «Записок сумасшедшего», – удивительной попытки вообразить патологическое душевное состояние без наблюдения, силою только выдумки и угадки, – нигде Гоголь не дал большей воли этим своим дарам, чем в «Тарасе Бульбе».
С исторической точки зрения «Тарас Бульба» – творение, совершено произвольное. Романтически настроенному, как всегда в своих представлениях о Малороссии, – Гоголю захотелось воскресить Запорожье не изучением исторической правды, но ясновидением романтической мечты. Волшебством слова создал он галерею картин увлекательных, но фантастических, с полным пренебрежением к времени и пространству.
Хронология в особенности страдает. Люди и нравы переносятся из века в век. Южнорусская «жакерия» повествуется в высоких тонах «Энеиды». Еще один из первых критиков «Тараса Бульбы», историк-украинец Кулиш, верно заметил, что Гоголь на казацких атаманов «надел плащи героев Гомера»
. Было бы еще вернее, если бы он сказал – Вергилия.
Когда Гоголь писал комедию, трагедия выходила у него сама собой. Это есть не только в «Ревизоре» и «Мертвых душах», но даже в смехотворной «Женитьбе», даже в «Игроках». Но, когда он умышлял писать трагедию, то, должно быть, по самочувствию художника не вполне доверял себе, творя дело, не совсем привычное в области, не так прирожденно знакомой. Ему как будто все казалось, что производимое им трагическое впечатление ниже его намерений. Поэтому он – сказать актерским языком – спешил «нажимать педаль», разводя пары той своей «лирической силы», которою он так справедливо гордился и на чудотворность которой смело уповал.
– «Я думаю, – писал он впоследствии, оправдывая в «Авторской Исповеди» неудачу своих положительных типов, – что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе».
Но «сила смеха» была присуща Гоголю всегда и никогда не давала промаха. Сила же лирическая часто ему изменяла, и тогда он в насильственном вдохновении начинал «в холодном духе горячиться» и, все пришпоривая и пришпоривая себя, впадал в преувеличенный драматизм и даже в мелодраму. От этого недостатка не свободна ни одна из трагических выдумок и угадок Гоголя… «Тарас Бульба» обременен такою «экзажерацией»
и риторическою напряженностью до излишка.
Даже Белинский, при всей своей, можно сказать, слепой влюбленности в Гоголя, при всем восторге к «Тарасу Бульбе», все-таки отметил в нем декларативные пустоты. К числу их он отнес, может быть, с чрезмерной строгостью даже знаменитое «Слышу»! Тараса – на площади в Варшаве – в ответ воплю казнимого Остапа:
– Батько! Где ты? Слышишь ли все это?
Может потрясающий, но, в сущности говоря, мелодраматически условный. Хотя бы уже то: с чего бы Остапу в предсмертный час воззвать к отцу по-русски, по-московски, когда, наверное, раньше, во всю жизнь, ни отец, ни сын не сказали между собой ни одного русского слова? Это тем страннее, что за одну минуту пред тем Тарас одобряет богатырское терпение мучимого Остапа – как ему и естественно, по-украински:
– Добре, сынку, добре!
Другую богатырскую сцену казни – самого Тараса, замечательную по эпической энергии, Гоголь расхолодил внезапною публицистическою вставкою в предсмертный монолог, произносимый Тарасом в страшную минуту, когда «уже огонь захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву»:
– «Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»
Эта фраза из «передовой статьи», уместная в устах писателя-патриота тридцатых-сороковых годов XIX столетия, но совершенно невероятная для украинского казака двадцатых годов XVII, задолго до Богдана Хмельницкого, когда на Украине московская идея возобладала и над польскою, и над автономною. В эпоху Тараса Бульбы московская Русь, еще не оправившаяся после Смутного Времени, была в таком плачевном состоянии, что пророчески грозить русским царем дальним и близким народам едва ли пришло бы в голову гибнущему на костре украинскому атаману.
И при всем том этот «ирреальный» роман, счастливо переживший сто лет, невозможно читать без волнения и восхищения; и дети, и внуки наши еще почитают его. Столько художественного пафоса вложено в картинность «Тараса Бульбы», что его прямая неправда – близкая и внешняя – искупается и поглощается некою другою, косвенною правдою, таящеюся во внутренней глубине этой эпопеи.
Собственно говоря, «Тарас Бульба» – не повесть, не роман, а огромная «былина», исполинского протяжения украинская «думка», которую следовало бы слушать из уст слепого деда под звуки бандуры. Так к нему и надо относиться, да так и относится большинство читателей, воспринимающих «Бульбу» непосредственно, без исторической критики. Тарас Бульба такой же легендарный герой, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович русских «старинок», Зигфрид «Песни о Нибелунгах», Фритьоф и Геральд Гарфагар скандинавских саг. Столько же невероятен, как историческое лицо эпохи, которой он приписывается, и столько же верен, а потому увлекателен и любим, как собирательный героический тип – выразитель вечного духа своей народности.
Гоголь и черт. К столетию «Вия»
«Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное» – так поучал Гоголь свою поклонницу калужскую губернаторшу А. О. Россетти-Смирнову: «где страстность, там близки обаяния нечестивой любви»
. В страстной дружбе, в «распаленной любви» к нему С. Т. и К. С. Аксаковых Гоголь с неудовольствием отмечал «отсутствие разумной, неизменно-твердой любви во Христе, возвышающей человека». Родственную любовь он почитал «чувственной»
. Где страсти, там невладение собой, там скользкий путь поведения, там опасность падения. Рядом с экстазом святости – возможность экстаза в грехе. Да и не только рядом, но и самый экстаз святости часто переливается в экстаз греха.
Эту зыбкую лестницу Гоголь, сердцеведец и страстник, опытно знал и внушал своим «прихожанам и прихожанкам», когда они вдавались в чересчур ревностное богомольство (например, гр. А. П. Толстому)
. Но сам-то он был воплощением страстности, пылко алкавшей удовлетворения, вопреки разумной воле, удовлетворение воспрещавшей. И в борении с игрою страстности раскололась надвое его душа. И из глубокой расщелины расколотой души выструился демонический дуализм – красная нить, проходящая резким швом через творчество Гоголя.
Религиозный и богомольный Гоголь жарко звал на помощь против силы злой силу добрую, но ее энергия не успевала в нем за энергией злой и часто пасовала в борьбе с ней. Отсюда ужас Гоголя пред властностью зла, как в себе самом, так и – мрачно чудится ему – во всем зримом, живущем и чувствуемом мире.
Гоголь поверил в черта, как владыку, управляющего миром посредством пошлости, умения «показать все не в настоящем виде», отстранять человечество от благих светов Божественной Мысли кошмарами, исходящими из злого мрака бессмысленного часа. «Какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без толку, без смысла сложил вместе» («Невский проспект»).
По удачному выражению одного современного критика, Гоголь, – обманный реалист, по форме, а в существе символист и фантаст – «из всех впечатлений мира только черта принял не как символ, но как реальность, – непосредственно ощутил, как мы ощущаем холод от мороза»
. Черт – для Гоголя – величина почти что материальная. «Бейте эту скотину (черта) по морде!»
– рекомендует он С. Т. Аксакову. Аксентий Поприщин знает, не своим умом, а Гоголевым, – что «женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то – она любит одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет: она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него, выйдет»
. «Сплетни делаются чертом» – доказывает Гоголь А. О. Россети
. Поэта Языкова он убеждает громить стихами «врага рода человеческого». Предсмертное сожжение беловой рукописи «Мертвых душ» толкует внушением от злого духа.
«Как смеют предаваться какой-нибудь минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искуситель!» – вопиет Гоголь в письме к своему духовнику о. Матвею (21 апр. 1848 г.). Укоряя Константина Аксакова за резкий отзыв о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напоминает своему критику, что «есть дух обольщения, дух-искуситель, который не дремлет и который также хлопочет и около вас, как около меня»
.
Под впечатлением явно сказывающейся демономании самого Гоголя позднейшие критики мистического уклона (Мережковский) начали выискивать бесов даже под масками Чичикова и Хлестакова. Это – измышления, более или менее остроумные, но едва ли необходимые. «Тому не нужно (за чертом) далеко ходить, у кого черт за плечами», – сказал запорожец Пацюк кузнецу Вакуле («Ночь перед рождестивом»). Так точно – чрезмерное усердие искать у Гоголя потаенных и маскированных чертей, когда их – сколько угодно явных и откровенных.
Черти, ведьмы, колдуны, мертвецы участвуют – собственной персоной – в десяти из 22 художественных произведений Гоголя. И с какою подробностью, как зрительно и осязаемо они описаны! Гоголь на бесовском шабаше – свой. Чертовщина – для него – фамильярная реальность. Он изображает ее призрачное метание чуть ли не проще, чем жизнь обычную.
Против реализма житейского у Гоголя не редки погрешности. Покойный петербургский критик и юморист А. А. Измайлов собрал букет их в своих «Пятнах на солнце»