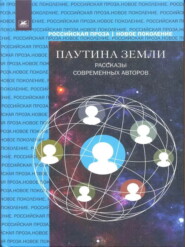По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Валентин Серов. Любимый сын, отец и друг : Воспоминания современников о жизни и творчестве выдающегося художника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тоша! да ведь он только вчера приехал, когда же ты мог его видеть?
Тоша, оторопев, замолчал, щеки залились густым румянцем.
– Да где же я его видел? где его видел? – шептал он тревожно и старался припомнить. Присутствующие, наконец, уверили его, что он Леви видел во сне. Но Тоша не унимался.
Долго спустя после этого недоразумения он мне сообщил, что явственно представлял себе Леви по моим рассказам, но когда он познакомился с ним самим, то убедился, что никогда его не видал.
Тихая, однообразная жизнь Мюльталя несколько всколыхнулась: кучка «цитристов» поселилась в нашей гостинице, и собирали они по вечерам непритязательную публику дешевенького ресторанчика. Тоша, конечно, был в числе самых рьяных поклонников этих рослых, загорелых, пропитанных кнастером (род махорки) горных «человеков». Играли они на цитрах очень хорошо. В некотором отдалении, у нас под окном, их инструменты звучали даже поэтично, особенно в нашей обстановке: в горах, среди леса, в тиши ночной. Тоше непременно надо было проникнуть в самую глубь пивного погребка. Я заглянула туда невзначай: он сидел за общим столом, оперев голову на оба кулачонка, и буквально пожирал глазами этих музыкантов-великанов. Я его даже не окликнула – боялась нарушить всю прелесть его увлечения. Оно было так велико, что Тоша стал в погребке засиживаться до поздней ночи, невзирая ни на какие увещания. Пришлось снова прибегнуть к моей «педагогике». Я пригрозила ему, что своевременно лягу спать и замкну двери после ужина, я надеялась, что его это образумит.
Не тут-то было!
Позже обыкновенного слышу робкое постукивание в дверь – я не шелохнулась; в эту ночь ни он, ни я не сомкнули глаз: он на крылечке просидел до рассвета, а я из окна следила, что дальше будет. Когда он заснул на ступеньках, я его унесла в комнаты. С тех пор Тоша корректно возвращался к ужину, да и горные «человеки» скоро отправились восвояси. После них осталось одно воспоминание о нежных звуках цитры и дикие горные возгласы (Jodeln), воспроизводимые Тошей с артистической тонкостью.
Лето миновало. Наконец, мы вернулись в Мюнхен. Все пошло по-старому: Риммершмидты, народная школа, Кёппинг, выставки… но одно изменилось. Из Цюриха во время правительственной репрессии в кругу молодежи потянулась целая фаланга русской молодежи и несколько вытеснила наш немецкий кружок: он отошел на задний план. У меня устраивались музыкальные вечера (Тоша еще не обучался музыке, но с самой колыбели, так сказать, «впитывал» ее беспрерывно), я сблизилась с русским профессорским кругом. Пошли горячие споры, оживленные разговоры, молодые силы рвались к производительному труду, к служению народу, – потянуло и меня в Россию!
Мое немецкое знакомство потеряло для меня всю прелесть. Леви, Корнелиус, оперные певицы – все становилось чуждым. Само собой разумеется, что порядок дня не был нарушен в жизни Тошиной, но праздничная окраска обыденных явлений потускнела, к тому же в Мюнхене в ту зиму жизнь стала очень нудная. Появилась холера, которая нас, русских, нимало не тревожила. Что значит для нас два-три смертных случая в день? Но мюнхенцы всполошились. Энергичная борьба с холерой взбудоражила обывателей, развинтила их нервы, – стали просто невыносимы бесплодные разговоры о холере, трусливые предчувствия бедствия, не разразившегося еще пока (да при таких усиленных, своевременных мерах и не могущего разразиться). До того непривычна была немецкая публика к посещению этой зловещей гостьи, что с концертов «снимали» здоровешеньких барышень, впадавших в обморочное состояние только от страха и мнительности.
В русской колонии подсмеивались над мюнхенской трусливостью и уверяли, что в столицах России редкий год проходит без холеры, а смертных случаев бывает гораздо больше, чем в Мюнхене во время эпидемии.
Когда прошла острая паника, а остался только «привкус» ее – беседы, бесконечные рассуждения об антихолерной пище, о диете и пр., и пр., на меня напало безграничное уныние: форменная апатия убила всякое рвение к серьезным музыкальным занятиям. Я изнывала… Давно Антокольский звал хоть слегка ознакомиться с Римом. Рим!! Он манил меня к себе, как неведомое волшебное царство, как недосягаемое великое блаженство, недоступное простым смертным…
Теперь как раз настал момент ехать; но… раздумье охватило мою душу. Одной ехать или с Тошей? Первым препятствием служило безденежье, но меня выручила бы мюнхенская русская колония; вторым – и более веским – была налаженная учебная жизнь Тоши, которую пришлось бы перевернуть вверх дном с риском, что Италия совсем разрушит размеренный школьный режим. С женой Антокольского я не была знакома, не знала, как она отнеслась бы к нашему нашествию. Если бы проявилось малейшее трение, я намеревалась немедленно вернуться домой; зачем тогда было ломать жизнь ребенка, хотя показать ему Рим было очень соблазнительно.
Посоветовавшись с моими близкими приятелями, я уехала наконец, на несколько недель одна. Остался Тоша на руках одного чудного юноши, буквально влюбленного в него (некоего Шварцмана); я более нежного обращения не встречала в отношении моего ребенка – это было олицетворение любви и преданности. Кёппинг обещал наведываться как можно чаще.
Результатом этой поездки было прочное знакомство с семейством Мамонтовых – знакомство, имевшее впоследствии в судьбе моего сына огромное значение.
В Риме я показала Антокольскому Тошины рисунки; он очень серьезно отнесся к его дарованию и посоветовал несколько оживить его учение, предоставив его руководству талантливого русского художника. «В старину, – говорил он, – были мастерские, и ученики выучивались в них своему делу лучше, чем во всевозможных академиях. И теперь я предпочел бы влияние одной личности, но крупной, давлению целой группы академистов и к тому же еще бездарных». Он указал на Репина, которого я очень хорошо знала и очень ценила.
– Тоша, хочешь в Париж? – спросила я почти шутя, вернувшись из Рима.
– Хочу, – обрадовался он.
– Ну, значит, едем!
– Едем.
И, заложив руки в карманы своего охотничьего костюмчика, мальчик стал быстро шагать по комнате, как взрослый. Вопрос был решен, и Мюнхен заменен Парижем.
Тоше было тогда девять лет.
V. Париж <1874–1875>
– Прошу вас последовать за мной в бюро, – вежливо обратился ко мне обер-кондуктор, когда мы подъехали к дебаркадеру. Он захватил наши вещи и сдал их чиновнику.
– Я не могу вас пропустить, – объявил чиновник, – вы должны доплатить за ребенка: девятилетний пассажир не имеет права пользоваться полубилетом.
– Но я в Мюнхене осведомлялась, не будет ли затруднений на границе? Меня кассир уверял, что с Францией заключен железнодорожный договор и никто меня не потревожит…
– Да вы можете от этих тревог легко избавиться: внесите дополнительную плату за полбилета…
– У меня не найдется столько денег; я обещаю их вам привезти, в дороге я поистратилась, а запасных нет.
– Нет ли у вас знакомых в Париже? Я пошлю с вами чиновника.
– У меня будут знакомые (есть у меня письма к ним), но сейчас врываться в незнакомый дом и просить денег, согласитесь, более чем неловко.
– А к кому у вас рекомендательные письма?
Я вынимаю письма из сумки. Чиновник читает адреса: г-жи Виардо, Сарвади, Сен-Санса.
– Вы музыкантша?
– Да, но ведь это дела не касается, – рассердилась я, – завтра я из банка возьму присланные деньги из России и тотчас привезу вам.
Чиновник смотрит на часы.
– Банки уже открыты. Оставьте здесь мальчика, фиакр вас быстро довезет.
– Никогда я вам мальчика не доверю. Вот вы мне ничтожной суммы не доверяете… Я вам предлагаю следующее: вы знаете теперь, что я занимаюсь музыкой. Самое ценное мое имущество – ноты. Я вам в залог оставлю только что вышедшие из печати оперы Вагнера.
– Хорошо, хотя мы не имеем права задерживать вещи у пассажиров, но эту любезность я могу вам оказать.
Принесли мой багаж. Расписки форменной в получении нот он мне не дал, но бумажку, по которой я имела получить «Рейнгольда», «Валкирию» и «Зигфрида», он мне вручил. («Гибель богов» еще не продавалась[7 - «Рейнгольд», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов» – оперы Р. Вагнера.].) Мы с Тошей выбежали из бюро, как будто нас кипятком обварили; сев в фиакр, мы несколько пришли в себя. Были ли вправе так поступать с путешественниками, я не знаю – на Тошином билете значилось М?nchen – Paris, – но бесспорно то, что с нами поступили в высшей степени некорректно. Наспех наняв комнату близ репинской квартиры, мы пообчистились, пообмылись с Тошей и отправились к Илье Ефимовичу[8 - Илья Ефимович – Репин.].
Не без волнения позвонили мы к нему. Тоша, еле опомнившись после инцидента в бюро, сконфуженный, смущенный, вошел в ателье своего будущего ментора, которого я знала еще очень молодым человеком в конце 60-х годов. Встреча была столь радушна, сердечна, что мы с Тошей окончательно оправились после неудачного нашего дебюта в Париже. Возмутился Илья Ефимович поступком чиновника, немедленно поехал в бюро, выкупил злосчастных «Нибелунгов» и, вручив их мне, уже все свое внимание обратил на Тошины рисунки. С Верой Алексеевной[9 - Вера А. – Репина.], женой Ильи Ефимовича, я быстро сошлась, и семья Репина с самого этого времени стала нам близка и мила. Главное – отношение Ильи Ефимовича к ребенку-художнику было самое идеальное; он нашел надлежащий тон – заставил себя уважать и сам уважал мальчика. Быстро развернулись способности ученика. Теперь не только коровки и лошадки красовались в альбомчиках; стали появляться портретики, поразительно верно схваченные; также попытки, хотя робкие, неумелые, копировать с репинских картин; появлялись целые сценки из жизни животных. Это были уже смелые, правдивые воспроизведения природы[27 - В рукописи далее: «доходящие подчас до известной красоты».].
Мы посещали усердно Jardin des Plantes и Елисейские поля. Тут Тоша катался на слонах и в тележках, запряженных козочками, – все, пережитое им, передавалось бумаге. А материала было много кругом. Одни музеи так подвинули его художественное развитие, что уже в десять лет он разбирался в произведениях искусства первой величины.
В Мюнхене я с грехом пополам руководила им в выборе осматриваемых картин; в Париже я сознавала, что Тоша верховодит мною. Илья Ефимович утверждал, что можно было безошибочно довериться его вкусу – необычайный прирожденный инстинкт сплелся с большим запасом знаний, приобретенных благодаря знакомству с лучшими оригиналами образцовых галерей, – отсюда феноменальное для его возраста понимание, или, скорее, угадывание истинного художества.
Однако надо было позаботиться об общем образовании. Тоша говорил бегло на немецком языке, лучше, чем на родном, легко читал, писал, не затрудняясь, под диктовку; во французском языке начал разбираться, но в Париже его окружали все наши соотечественники, поэтому разговорным языком был преимущественно русский. К тому же надо было готовиться в учебное заведение, ибо я положила еще только год прожить вне России. Обратилась я в кружок учащихся на высших курсах русских женщин. Одна из них взялась за преподавание русского языка и первоначальных предметов по программе наших школ. Жила она в противоположной части города, и Тоша должен был несколько раз в неделю ездить к ней в дилижансе. Я была отчасти рада невольному моциону, а то сидение в ателье, сидение за альбомчиком дома, сидение у учительницы становилось тяжким для десятилетнего подвижного мальчика. Один инцидент, приключившийся с Тошей, несколько изменил его образ жизни. Возвращался он как-то домой после урока, сел в дилижанс и преспокойно едет по знакомой дороге. Подходит кондуктор, требует деньги за проезд. Тоша ищет, ищет портмоне, шарит во всех своих карманах – все тщетно, пропал злополучный кошелек. Кондуктор повысил голос, подозрительно посматривая на оторопевшего мальчонку. Угроза высадить его окончательно испугала провинившегося (Тоша дороги не знал, только место стоянки туда и обратно он хорошо помнил), и он заплакал. Пассажиры обратили внимание на разыгравшуюся сценку между плачущим ребенком и угрожающего вида кондуктором. Одна сердобольная дама положила ей конец, уплатив за билет требуемую сумму. Тоша примчался домой ни жив ни мертв, еле в состоянии был толково рассказать о случившемся. С тех пор учительница стала приходить к нам давать уроки. Поездки в дилижансе были упразднены, но зато мы больше времени могли уделить на прогулки в наши милые Елисейские поля. Champs Еlуsеes… кто там бывал, поймет, как заразительно действует головокружительное веселье французов на нас, русских! Нас пленяла и пестрая толпа детишек и красивые балаганы, заманчивые игрушки, разнообразные оригинальные костюмы поселян разных провинций, затейливые безделушки, разыгрываемые за бесценок, слоны, козочки, обезьяны, ручные птицы и вся соблазнительная сутолока, без которой не обходится ни одно народное столичное гулянье: в Елисейских полях подобные гулянья были почти ежедневны. Мы оба бесконечно увлекались, с неподдельным восторгом поддавались массовому дурману, непосредственному юмору и парижскому искрометному остроумию, правда, не всегда доступному ребенку; но иногда эти mots[28 - словечки (фр.).] сопровождались характерной мимикой, и она-то невольно запечатлевалась в памяти у Тоши. Он часто зарисовывал дома на клочках бумаги оживленные комические сценки гулянья, так что мы переживали их дважды. Иногда вечером на ярко освещенном бульваре заканчивали мы наш трудовой день оригинальным ужином, в высшей степени изысканным: тут же на улице продавались горячие каштаны, морские креветки и чудные груши-дюшесы.
Обычное распределение нашего дня было следующее: рано утром – осмотр музеев, потом занятия в ателье у Ильи Ефимовича до прихода учительницы (я этим временем справляла свои музыкальные работы). Вечером – прогулки. Понятно, часто – по мере надобности – порядок дня нарушался.
Жизнь сложилась вполне удачно, если бы не два обстоятельства, омрачавшие существование Тоши в Париже. Одно – недружелюбное отношение Тоши к сухим предметам, входившим в программу приемных экзаменов в России, другое – моя частая отлучка на музыкальные вечера. Уложив его в постель, я спешила «на эту проклятую музыку» (как он злобно отзывался о посещениях мною концертов). Чаще всего он засыпал, но иногда, при возвращении домой, освещенное окно в моей комнате заставляло тревожно биться мое сердце: «значит, он не спит». Музыка кончалась поздно, Тоша оставался один в неизвестном доме с неизвестными людьми. К счастью, положение его изменилось к лучшему благодаря внезапному посещению И. С. Тургенева. Не застав меня дома, он прислал мне записочку приблизительно следующего содержания: «Вероятно, не будучи знакомы с Парижем, вы попали в дом, пользующийся весьма сомнительной репутацией. М-м Виардо рекомендует вам пансион, который обыкновенно служит убежищем ее ученицам и пр.» (записочка не сохранилась, воспроизвожу ее на память). Я была поражена: хозяева, почтенные старики, имели такой солидный вид, внушающий полное доверие.
Я немедленно переселилась в рекомендованный пансиончик с палисадником, с любезными, приветливыми хозяевами.
С этих пор наше парижское существование получило характер семейной жизни с сохранением некоторой артистической свободы, но все-таки без нарушения раз установленного порядка дня. В этом отношении французы великие мастера: в своем будничном обиходе соблюдают строгий формализм, но к досужему времени умеют пригнать всевозможные прихоти пылкой своей фантазии и капризные изощрения тонкого художественного вкуса.
Семейственность в нашей обстановке проявлялась исключительно во время вечерних сборищ в хозяйском салоне, где за круглым столом и рукодельничали, и слегка сплетничали – словом, каждый проводил время как хотел. Тоша, конечно, рисовал. Я успокоилась наконец: редко в моем отсутствии светился тревожный огонек из окон нашей новой комнаты…
Обыкновенно на следующее утро, за завтраком, хозяева с сияющими лицами показывали бумажонки с изображениями их самих, жильцов своих, прислуги, с портретами их любимого кота и пр., и пр. (альбомчики этого времени сохранились).
Безусловно, портретист уж тогда явно сказался в этих набросках, и страсть к портретной живописи сулила в будущем выдающуюся величину. Мы с Тошей хотя и сознавали это смутно, но как-то избегали выражать громко свои сокровенные упования относительно этого «будущего», как будто то, что таилось и росло, как зернышко в недрах земли, могло пострадать, будучи обнажено и лишено своих покровов. (Я была твердо убеждена, что преждевременное любованье несложившимся талантом может остановить его рост.)
Итак, жизнь сложилась хорошо к общему нашему удовольствию, мы уже стали вместе посещать салон Боголюбова, служивший центром всему русскому художественному мирку в Париже. Среди просторной комнаты стоял во всю ее длину огромный стол, на котором натянута была ватманская бумага. Все присутствующие художники занимали места у стола и усердно рисовали. Помнится, что большею частью рисунки были вольные импровизации на любые темы, избранные самими художниками. Репин также занял место за столом и посадил возле себя своего малолетнего ученика. Тишина соблюдалась полная, изредка перебрасывались каким-нибудь замечанием. Сначала Тоша как будто сконфузился, потом, я замечаю, карандаш его что-то вырисовывает, вырисовывает твердо, не спеша: он так сосредоточенно занялся, что не заметил даже, как за его стулом стали перешептываться, заглядывая, точно мимоходом, на его рисунок.
Тоша, оторопев, замолчал, щеки залились густым румянцем.
– Да где же я его видел? где его видел? – шептал он тревожно и старался припомнить. Присутствующие, наконец, уверили его, что он Леви видел во сне. Но Тоша не унимался.
Долго спустя после этого недоразумения он мне сообщил, что явственно представлял себе Леви по моим рассказам, но когда он познакомился с ним самим, то убедился, что никогда его не видал.
Тихая, однообразная жизнь Мюльталя несколько всколыхнулась: кучка «цитристов» поселилась в нашей гостинице, и собирали они по вечерам непритязательную публику дешевенького ресторанчика. Тоша, конечно, был в числе самых рьяных поклонников этих рослых, загорелых, пропитанных кнастером (род махорки) горных «человеков». Играли они на цитрах очень хорошо. В некотором отдалении, у нас под окном, их инструменты звучали даже поэтично, особенно в нашей обстановке: в горах, среди леса, в тиши ночной. Тоше непременно надо было проникнуть в самую глубь пивного погребка. Я заглянула туда невзначай: он сидел за общим столом, оперев голову на оба кулачонка, и буквально пожирал глазами этих музыкантов-великанов. Я его даже не окликнула – боялась нарушить всю прелесть его увлечения. Оно было так велико, что Тоша стал в погребке засиживаться до поздней ночи, невзирая ни на какие увещания. Пришлось снова прибегнуть к моей «педагогике». Я пригрозила ему, что своевременно лягу спать и замкну двери после ужина, я надеялась, что его это образумит.
Не тут-то было!
Позже обыкновенного слышу робкое постукивание в дверь – я не шелохнулась; в эту ночь ни он, ни я не сомкнули глаз: он на крылечке просидел до рассвета, а я из окна следила, что дальше будет. Когда он заснул на ступеньках, я его унесла в комнаты. С тех пор Тоша корректно возвращался к ужину, да и горные «человеки» скоро отправились восвояси. После них осталось одно воспоминание о нежных звуках цитры и дикие горные возгласы (Jodeln), воспроизводимые Тошей с артистической тонкостью.
Лето миновало. Наконец, мы вернулись в Мюнхен. Все пошло по-старому: Риммершмидты, народная школа, Кёппинг, выставки… но одно изменилось. Из Цюриха во время правительственной репрессии в кругу молодежи потянулась целая фаланга русской молодежи и несколько вытеснила наш немецкий кружок: он отошел на задний план. У меня устраивались музыкальные вечера (Тоша еще не обучался музыке, но с самой колыбели, так сказать, «впитывал» ее беспрерывно), я сблизилась с русским профессорским кругом. Пошли горячие споры, оживленные разговоры, молодые силы рвались к производительному труду, к служению народу, – потянуло и меня в Россию!
Мое немецкое знакомство потеряло для меня всю прелесть. Леви, Корнелиус, оперные певицы – все становилось чуждым. Само собой разумеется, что порядок дня не был нарушен в жизни Тошиной, но праздничная окраска обыденных явлений потускнела, к тому же в Мюнхене в ту зиму жизнь стала очень нудная. Появилась холера, которая нас, русских, нимало не тревожила. Что значит для нас два-три смертных случая в день? Но мюнхенцы всполошились. Энергичная борьба с холерой взбудоражила обывателей, развинтила их нервы, – стали просто невыносимы бесплодные разговоры о холере, трусливые предчувствия бедствия, не разразившегося еще пока (да при таких усиленных, своевременных мерах и не могущего разразиться). До того непривычна была немецкая публика к посещению этой зловещей гостьи, что с концертов «снимали» здоровешеньких барышень, впадавших в обморочное состояние только от страха и мнительности.
В русской колонии подсмеивались над мюнхенской трусливостью и уверяли, что в столицах России редкий год проходит без холеры, а смертных случаев бывает гораздо больше, чем в Мюнхене во время эпидемии.
Когда прошла острая паника, а остался только «привкус» ее – беседы, бесконечные рассуждения об антихолерной пище, о диете и пр., и пр., на меня напало безграничное уныние: форменная апатия убила всякое рвение к серьезным музыкальным занятиям. Я изнывала… Давно Антокольский звал хоть слегка ознакомиться с Римом. Рим!! Он манил меня к себе, как неведомое волшебное царство, как недосягаемое великое блаженство, недоступное простым смертным…
Теперь как раз настал момент ехать; но… раздумье охватило мою душу. Одной ехать или с Тошей? Первым препятствием служило безденежье, но меня выручила бы мюнхенская русская колония; вторым – и более веским – была налаженная учебная жизнь Тоши, которую пришлось бы перевернуть вверх дном с риском, что Италия совсем разрушит размеренный школьный режим. С женой Антокольского я не была знакома, не знала, как она отнеслась бы к нашему нашествию. Если бы проявилось малейшее трение, я намеревалась немедленно вернуться домой; зачем тогда было ломать жизнь ребенка, хотя показать ему Рим было очень соблазнительно.
Посоветовавшись с моими близкими приятелями, я уехала наконец, на несколько недель одна. Остался Тоша на руках одного чудного юноши, буквально влюбленного в него (некоего Шварцмана); я более нежного обращения не встречала в отношении моего ребенка – это было олицетворение любви и преданности. Кёппинг обещал наведываться как можно чаще.
Результатом этой поездки было прочное знакомство с семейством Мамонтовых – знакомство, имевшее впоследствии в судьбе моего сына огромное значение.
В Риме я показала Антокольскому Тошины рисунки; он очень серьезно отнесся к его дарованию и посоветовал несколько оживить его учение, предоставив его руководству талантливого русского художника. «В старину, – говорил он, – были мастерские, и ученики выучивались в них своему делу лучше, чем во всевозможных академиях. И теперь я предпочел бы влияние одной личности, но крупной, давлению целой группы академистов и к тому же еще бездарных». Он указал на Репина, которого я очень хорошо знала и очень ценила.
– Тоша, хочешь в Париж? – спросила я почти шутя, вернувшись из Рима.
– Хочу, – обрадовался он.
– Ну, значит, едем!
– Едем.
И, заложив руки в карманы своего охотничьего костюмчика, мальчик стал быстро шагать по комнате, как взрослый. Вопрос был решен, и Мюнхен заменен Парижем.
Тоше было тогда девять лет.
V. Париж <1874–1875>
– Прошу вас последовать за мной в бюро, – вежливо обратился ко мне обер-кондуктор, когда мы подъехали к дебаркадеру. Он захватил наши вещи и сдал их чиновнику.
– Я не могу вас пропустить, – объявил чиновник, – вы должны доплатить за ребенка: девятилетний пассажир не имеет права пользоваться полубилетом.
– Но я в Мюнхене осведомлялась, не будет ли затруднений на границе? Меня кассир уверял, что с Францией заключен железнодорожный договор и никто меня не потревожит…
– Да вы можете от этих тревог легко избавиться: внесите дополнительную плату за полбилета…
– У меня не найдется столько денег; я обещаю их вам привезти, в дороге я поистратилась, а запасных нет.
– Нет ли у вас знакомых в Париже? Я пошлю с вами чиновника.
– У меня будут знакомые (есть у меня письма к ним), но сейчас врываться в незнакомый дом и просить денег, согласитесь, более чем неловко.
– А к кому у вас рекомендательные письма?
Я вынимаю письма из сумки. Чиновник читает адреса: г-жи Виардо, Сарвади, Сен-Санса.
– Вы музыкантша?
– Да, но ведь это дела не касается, – рассердилась я, – завтра я из банка возьму присланные деньги из России и тотчас привезу вам.
Чиновник смотрит на часы.
– Банки уже открыты. Оставьте здесь мальчика, фиакр вас быстро довезет.
– Никогда я вам мальчика не доверю. Вот вы мне ничтожной суммы не доверяете… Я вам предлагаю следующее: вы знаете теперь, что я занимаюсь музыкой. Самое ценное мое имущество – ноты. Я вам в залог оставлю только что вышедшие из печати оперы Вагнера.
– Хорошо, хотя мы не имеем права задерживать вещи у пассажиров, но эту любезность я могу вам оказать.
Принесли мой багаж. Расписки форменной в получении нот он мне не дал, но бумажку, по которой я имела получить «Рейнгольда», «Валкирию» и «Зигфрида», он мне вручил. («Гибель богов» еще не продавалась[7 - «Рейнгольд», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов» – оперы Р. Вагнера.].) Мы с Тошей выбежали из бюро, как будто нас кипятком обварили; сев в фиакр, мы несколько пришли в себя. Были ли вправе так поступать с путешественниками, я не знаю – на Тошином билете значилось М?nchen – Paris, – но бесспорно то, что с нами поступили в высшей степени некорректно. Наспех наняв комнату близ репинской квартиры, мы пообчистились, пообмылись с Тошей и отправились к Илье Ефимовичу[8 - Илья Ефимович – Репин.].
Не без волнения позвонили мы к нему. Тоша, еле опомнившись после инцидента в бюро, сконфуженный, смущенный, вошел в ателье своего будущего ментора, которого я знала еще очень молодым человеком в конце 60-х годов. Встреча была столь радушна, сердечна, что мы с Тошей окончательно оправились после неудачного нашего дебюта в Париже. Возмутился Илья Ефимович поступком чиновника, немедленно поехал в бюро, выкупил злосчастных «Нибелунгов» и, вручив их мне, уже все свое внимание обратил на Тошины рисунки. С Верой Алексеевной[9 - Вера А. – Репина.], женой Ильи Ефимовича, я быстро сошлась, и семья Репина с самого этого времени стала нам близка и мила. Главное – отношение Ильи Ефимовича к ребенку-художнику было самое идеальное; он нашел надлежащий тон – заставил себя уважать и сам уважал мальчика. Быстро развернулись способности ученика. Теперь не только коровки и лошадки красовались в альбомчиках; стали появляться портретики, поразительно верно схваченные; также попытки, хотя робкие, неумелые, копировать с репинских картин; появлялись целые сценки из жизни животных. Это были уже смелые, правдивые воспроизведения природы[27 - В рукописи далее: «доходящие подчас до известной красоты».].
Мы посещали усердно Jardin des Plantes и Елисейские поля. Тут Тоша катался на слонах и в тележках, запряженных козочками, – все, пережитое им, передавалось бумаге. А материала было много кругом. Одни музеи так подвинули его художественное развитие, что уже в десять лет он разбирался в произведениях искусства первой величины.
В Мюнхене я с грехом пополам руководила им в выборе осматриваемых картин; в Париже я сознавала, что Тоша верховодит мною. Илья Ефимович утверждал, что можно было безошибочно довериться его вкусу – необычайный прирожденный инстинкт сплелся с большим запасом знаний, приобретенных благодаря знакомству с лучшими оригиналами образцовых галерей, – отсюда феноменальное для его возраста понимание, или, скорее, угадывание истинного художества.
Однако надо было позаботиться об общем образовании. Тоша говорил бегло на немецком языке, лучше, чем на родном, легко читал, писал, не затрудняясь, под диктовку; во французском языке начал разбираться, но в Париже его окружали все наши соотечественники, поэтому разговорным языком был преимущественно русский. К тому же надо было готовиться в учебное заведение, ибо я положила еще только год прожить вне России. Обратилась я в кружок учащихся на высших курсах русских женщин. Одна из них взялась за преподавание русского языка и первоначальных предметов по программе наших школ. Жила она в противоположной части города, и Тоша должен был несколько раз в неделю ездить к ней в дилижансе. Я была отчасти рада невольному моциону, а то сидение в ателье, сидение за альбомчиком дома, сидение у учительницы становилось тяжким для десятилетнего подвижного мальчика. Один инцидент, приключившийся с Тошей, несколько изменил его образ жизни. Возвращался он как-то домой после урока, сел в дилижанс и преспокойно едет по знакомой дороге. Подходит кондуктор, требует деньги за проезд. Тоша ищет, ищет портмоне, шарит во всех своих карманах – все тщетно, пропал злополучный кошелек. Кондуктор повысил голос, подозрительно посматривая на оторопевшего мальчонку. Угроза высадить его окончательно испугала провинившегося (Тоша дороги не знал, только место стоянки туда и обратно он хорошо помнил), и он заплакал. Пассажиры обратили внимание на разыгравшуюся сценку между плачущим ребенком и угрожающего вида кондуктором. Одна сердобольная дама положила ей конец, уплатив за билет требуемую сумму. Тоша примчался домой ни жив ни мертв, еле в состоянии был толково рассказать о случившемся. С тех пор учительница стала приходить к нам давать уроки. Поездки в дилижансе были упразднены, но зато мы больше времени могли уделить на прогулки в наши милые Елисейские поля. Champs Еlуsеes… кто там бывал, поймет, как заразительно действует головокружительное веселье французов на нас, русских! Нас пленяла и пестрая толпа детишек и красивые балаганы, заманчивые игрушки, разнообразные оригинальные костюмы поселян разных провинций, затейливые безделушки, разыгрываемые за бесценок, слоны, козочки, обезьяны, ручные птицы и вся соблазнительная сутолока, без которой не обходится ни одно народное столичное гулянье: в Елисейских полях подобные гулянья были почти ежедневны. Мы оба бесконечно увлекались, с неподдельным восторгом поддавались массовому дурману, непосредственному юмору и парижскому искрометному остроумию, правда, не всегда доступному ребенку; но иногда эти mots[28 - словечки (фр.).] сопровождались характерной мимикой, и она-то невольно запечатлевалась в памяти у Тоши. Он часто зарисовывал дома на клочках бумаги оживленные комические сценки гулянья, так что мы переживали их дважды. Иногда вечером на ярко освещенном бульваре заканчивали мы наш трудовой день оригинальным ужином, в высшей степени изысканным: тут же на улице продавались горячие каштаны, морские креветки и чудные груши-дюшесы.
Обычное распределение нашего дня было следующее: рано утром – осмотр музеев, потом занятия в ателье у Ильи Ефимовича до прихода учительницы (я этим временем справляла свои музыкальные работы). Вечером – прогулки. Понятно, часто – по мере надобности – порядок дня нарушался.
Жизнь сложилась вполне удачно, если бы не два обстоятельства, омрачавшие существование Тоши в Париже. Одно – недружелюбное отношение Тоши к сухим предметам, входившим в программу приемных экзаменов в России, другое – моя частая отлучка на музыкальные вечера. Уложив его в постель, я спешила «на эту проклятую музыку» (как он злобно отзывался о посещениях мною концертов). Чаще всего он засыпал, но иногда, при возвращении домой, освещенное окно в моей комнате заставляло тревожно биться мое сердце: «значит, он не спит». Музыка кончалась поздно, Тоша оставался один в неизвестном доме с неизвестными людьми. К счастью, положение его изменилось к лучшему благодаря внезапному посещению И. С. Тургенева. Не застав меня дома, он прислал мне записочку приблизительно следующего содержания: «Вероятно, не будучи знакомы с Парижем, вы попали в дом, пользующийся весьма сомнительной репутацией. М-м Виардо рекомендует вам пансион, который обыкновенно служит убежищем ее ученицам и пр.» (записочка не сохранилась, воспроизвожу ее на память). Я была поражена: хозяева, почтенные старики, имели такой солидный вид, внушающий полное доверие.
Я немедленно переселилась в рекомендованный пансиончик с палисадником, с любезными, приветливыми хозяевами.
С этих пор наше парижское существование получило характер семейной жизни с сохранением некоторой артистической свободы, но все-таки без нарушения раз установленного порядка дня. В этом отношении французы великие мастера: в своем будничном обиходе соблюдают строгий формализм, но к досужему времени умеют пригнать всевозможные прихоти пылкой своей фантазии и капризные изощрения тонкого художественного вкуса.
Семейственность в нашей обстановке проявлялась исключительно во время вечерних сборищ в хозяйском салоне, где за круглым столом и рукодельничали, и слегка сплетничали – словом, каждый проводил время как хотел. Тоша, конечно, рисовал. Я успокоилась наконец: редко в моем отсутствии светился тревожный огонек из окон нашей новой комнаты…
Обыкновенно на следующее утро, за завтраком, хозяева с сияющими лицами показывали бумажонки с изображениями их самих, жильцов своих, прислуги, с портретами их любимого кота и пр., и пр. (альбомчики этого времени сохранились).
Безусловно, портретист уж тогда явно сказался в этих набросках, и страсть к портретной живописи сулила в будущем выдающуюся величину. Мы с Тошей хотя и сознавали это смутно, но как-то избегали выражать громко свои сокровенные упования относительно этого «будущего», как будто то, что таилось и росло, как зернышко в недрах земли, могло пострадать, будучи обнажено и лишено своих покровов. (Я была твердо убеждена, что преждевременное любованье несложившимся талантом может остановить его рост.)
Итак, жизнь сложилась хорошо к общему нашему удовольствию, мы уже стали вместе посещать салон Боголюбова, служивший центром всему русскому художественному мирку в Париже. Среди просторной комнаты стоял во всю ее длину огромный стол, на котором натянута была ватманская бумага. Все присутствующие художники занимали места у стола и усердно рисовали. Помнится, что большею частью рисунки были вольные импровизации на любые темы, избранные самими художниками. Репин также занял место за столом и посадил возле себя своего малолетнего ученика. Тишина соблюдалась полная, изредка перебрасывались каким-нибудь замечанием. Сначала Тоша как будто сконфузился, потом, я замечаю, карандаш его что-то вырисовывает, вырисовывает твердо, не спеша: он так сосредоточенно занялся, что не заметил даже, как за его стулом стали перешептываться, заглядывая, точно мимоходом, на его рисунок.