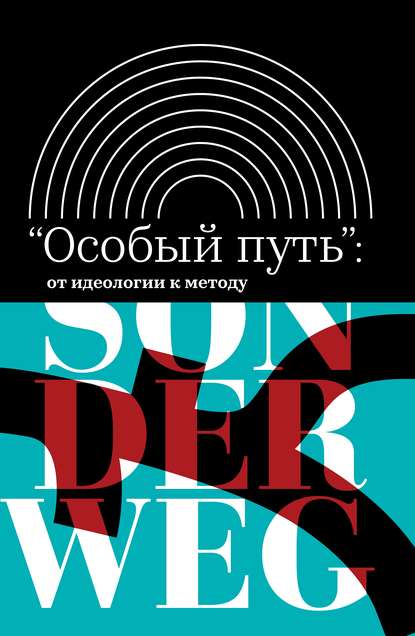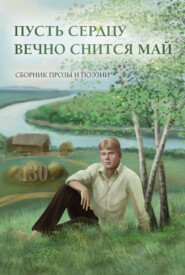По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Особый путь»: от идеологии к методу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нетрудно догадаться, что в очерченной перспективе ответственной за главную идеологическую составляющую национального благосостояния, наиболее значимой государственной структурой, обеспечивающей устойчивость существующего положения вещей, оказывалась именно православная церковь. Защита церковных интересов в 1836 году имела дополнительное значение: накануне своего приезда в Москву, 25 июня этого года, Николай определил на место обер-прокурора Святейшего Синода графа Н. А. Протасова, которому предстояло реформировать систему церковного управления [Благовидов 1899: 400–420; Рункевич 1901: 111–124; Полунов 2008]. Новое назначение вызвало недовольство Филарета[31 - См., например, рассказ о первом посещении Протасовым Синода: «Граф Протасов, назначенный обер-прокурором в св. синод, в первый раз взошел в присутственную залу синода и сел за столом, где заседали архиереи. Филарет спрашивает его: „Давно-ли, ваше сиятельство, получили хиротонию?“ Граф, не понимая вопроса, молчит. Филарет спрашивает: „Давно-ли посвящены в священный сан?“ и заметил, что за этим столом сидят члены синода. Где же мое место? спрашивает Протасов. Филарет указал и граф пересел за обер-прокурорский стол» (Ефремов П. А. Заметки о Филарете // РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. Ед. хр. 3212. Л. 31). См. также: [Майорова 1997: 622, 633–634].]. Своей проповедью митрополит напоминал Николаю о той важнейшей роли, которую православие играло в системе его политической власти, и в свете недавнего назначения Протасова его «слово» звучало едва ли не полемично. Таким образом, рассуждение об особом пути, точнее, в данном случае особом положении России трансформировалось в спор о том, кто и как должен предопределять идеологическую повестку царствования.
5. Наиболее репрезентативным источником воззрений главы III отделения императорской канцелярии А. Х. Бенкендорфа на идеологию и особенность текущего исторического момента служат ежегодные отчеты, подававшиеся ведомством на рассмотрение императора. Как следует из отчета III отделения за 1836 год, из элементов триады основным Бенкендорф, безусловно, считал «самодержавие», доминировавшее над остальными двумя: и «народность», и «православие» определялись прежде всего через понятие «самодержец». Отчет, прочитанный монархом 3 января 1837 года [Обозрение 2006: 140], представлял программу царствования, отличавшуюся от картины, изображенной в проповедях митрополита Филарета: эмоциональная связь между подданными и монархом сохранялась, однако ее религиозная составляющая (повиновение Богу как необходимый элемент повиновения государю) из аргументации практически выводилась.
Отчет, поданный в год коронационного юбилея, начинался с исторического обозрения царствования. Согласно Бенкендорфу, произошедшие за это время изменения свидетельствовали об успехе выбранной политической стратегии. В отчете рубежным объявлялся 1831 год, который расценивался как наиболее сложное, кризисное, но вместе с тем и переломное время текущего исторического периода. Польское восстание, холера и бунт в военных поселениях поставили под угрозу существовавший государственный порядок [Обозрение 2006: 140]. Кроме того, события 1831 года заставляли наблюдателя предположить, что «царствованию» Николая «не предназначено быть счастливым» и «Бог не благословляет царствования Государя», поскольку текущие бедствия накладывались на воспоминания о 14 декабря 1825 года, двух войнах, чуме и т. д. [Обозрение 2006: 140].
Между тем последовавшие затем события радикально переломили общую тенденцию. В перечислении успехов последних лет отчет III отделения почти дословно перекликался с проповедью Филарета 22 августа:
С того времени Россия пребывает спокойною внутри ее и в мире со всеми державами, Россия процветает. Внутренняя ее промышленность и заграничная торговля с каждым годом распространяются. <…> В отношениях своих к иностранным державам Россия в течение последних пяти лет постоянно возвеличивалась и ныне достигла той высоты, на которой никогда еще не стояла. Она составляет сильнейшую опору и крепчайшую надежду своих союзников и является страшилищем и предметом зависти ей недоброжелательствующих [Обозрение 2006: 140–141].
Несомненно, Провидение даровало русскому народу его чувство преданности правителю, однако Бенкендорф подчеркивал в отчете, что самостоятельные действия и добродетели Николая в не меньшей степени способствовали укреплению его связи с народом и всеобщему благоденствию. Основной акцент он ставил на фигуре самого русского монарха:
Таковое в течение последних пяти лет развитие внутреннего благосостояния России и политического ее веса совершенно изгладило мысль о несчастном царствовании и заменило скорбное чувство сие общим чувством доверия к Государю как к виновнику настоящего блестящего положения России. Существование Государя признается ныне необходимым условием для удержания Отечества нашего в сем цветущем положении и для приведения к успешному концу всех посеянных Им начал усовершенствований и улучшений [Обозрение 2006: 141].
Речь идет о «существовании» даже не института самодержавия как такового, а конкретного «самодержца», Николая I. В отчет оказалось включено подробное описание случившегося в августе 1836 года эпизода, изначально императору чрезвычайно неприятного, – выпадения из дорожного экипажа близ города Чембар во время традиционного путешествия по России, в результате чего Николай сломал ключицу и вынужден был вернуться в Петербург. Несчастье, постигшее монарха, вызвало, по мнению составителей отчета, небывалое сочувствие его подданных и свидетельствовало об их личной преданности императору: «…Страшились лишиться Государя, и всякий взирал на возможность сего события, как на истинное для всех бедствие» [Обозрение 2006: 141]. В частности, высказывалось мнение, что «Государь <…> перед Богом имеет святую обязанность Себя беречь, Ему вручено благоденствие 50 миллионов народа, тесно связанное с Его существованием» [Обозрение 2006: 141]. Так благодаря неприятному происшествию любовь россиян к своему монарху обнаружила наибольшее выражение и распространилась «по всему пространству государства» [Обозрение 2006: 141]. В отчете особо оговаривалось, что если подданные Николая переживали за его судьбу «по врожденному в русских чувству безусловной преданности и любви к Царю», то петербургские жители, лучше знавшие монарха, испытывали и другое чувство – «понятие, которое с продолжением дней нынешнего Государя тесно соединяет счастие, спокойствие и процветание России» [Обозрение 2006: 141]. Между Петербургом и Россией не возникало антагонизма, поскольку «верноподданнические чувства», по мнению Бенкендорфа, в столице лишь проявлялись «с большею силою, чем где-либо» [Обозрение 2006: 141][32 - В числе уникальных личных качеств Николая составители отчета называли «твердость», «неустрашимость», «силу характера», «самоотвержение для пользы <…> народа», «семейные добродетели», «уважение <…> от иностранных держав» [Обозрение 2006: 141].].
Успехи николаевского царствования объяснялись в отчете III отделения личной харизмой, добродетелями и исключительными качествами самого императора – и в этом пункте Бенкендорф расходился с Филаретом. Московский митрополит, фиксируя достижения текущего правления и признавая заслуги Николая, тем не менее подчеркивал, что полной доверенности к монарху нельзя достичь без помощи христианства и православной церкви. Между тем Бенкендорф о церкви и религии вообще не упоминал, связывая «народное расположение к Государю» лишь с действиями самого правителя.
Филарет и Бенкендорф, без сомнения, сходились в другом: и проповеди августа 1836 года, и отчет III отделения свидетельствовали о том, что Россия фактически достигла предела своего исторического пути – наивысшей стадии благоденствия, за которой качественного развития как такового уже не предвиделось. В отчете смысл последующего периода истолковывался с помощью органицистских метафор «цветения» и «посева»: «посеянные» императором «начала» уже принесли с собой «процветание», а в будущем ему предстоит довести начатое до «успешного конца».
В публикациях официальной газеты «Северная пчела», находившейся под патронажем III отделения, второй половины 1836 года доверенность подданных к государю также связывалась с идеей личной харизмы Николая как главного подателя благ в России. Возможности монарха явно превосходили человеческие – так, в описании приезда Николая в Москву 10 августа и последующего его появления перед московскими жителями говорилось:
Не даром добрый Русский народ называл встарину и теперь еще называет Благоверного Царя своего красным солнышком всея святой РусиКазалось, Царь Русский привез с собою благодать и милость Божию: Он приехал, и вместе с Ним показалось солнце и рассеялись осенние тучи, которые наводили грусть и тоску на всех жителей Московских. В нынешнее холодное и ненастное лето давно уже не любовались таким ясным небом, давно не дышали таким тихим и благорастворенным воздухом[33 - Северная пчела. 1836. № 186. 17 августа, понедельник. С. 741 (Внутренние известия. Санкт-Петербург. 16 августа). Образ Николая как «царя-солнца» акцентировался и в другом материале «Северной пчелы»: «Русский Государь (мы говорим без аллегории, без преувеличения, без лести) есть благотворное светило Своей земли, воспитающее, всеоживляющее» (Северная пчела. 1836. № 213. 18 сентября, пятница. С. 852; статья «Наблюдения в отечестве», посвященная посещению Николаем I Нижегородской ярмарки).].
Отчеты о путешествии Николая по России фиксировали разные стороны публичного образа русского императора: Николай как объект особой народной любви и сердечной привязанности[34 - «Словно светлых праздников жители Москвы, каждый год, ждут приезда своего Государя, и, кажется, сердца Москвитян стосковались бы, если бы в который нибудь год Он не посетил Москвы, не отдохнул среди любящего Его народа от Своих царских забот, не утешил Своим ласковым приветом, не полюбовался на Москву, Им любимую, благодеемую, украшаемою. Поймите это взаимное чувство Царя и народа; оно высоко, оно свято, оно залог величия: подданные ждут и считают радостью явление среди них своего Повелителя; Он является, как благодать Божия на жаждущую ниву сердец» (Северная пчела. 1836. № 192. 24 августа, понедельник. С. 765 (Внутренние известия. Санкт-Петербург. 23 августа. Сообщение из Москвы от 14 августа)).], Николай как отец своих подданных-детей[35 - «Он явился, и как радостный лепет младенца приветствует отца, приветствовал Его народный клик: ура! Столь знакомый врагам России на полях брани, бессмертный вестник Русских побед, этот клик высказывал здесь сердцу царскому привет детей, и на сей раз гул его звенел в недрах громадного колокола, свидетеля стольких событий, ровно сто лет пролежавшего в недрах земли, и теперь воздвинутого на Царскую Площадь, как будто красноречивый в самом безмолвии своем памятник, на сравнение прошедшего с настоящим» (Там же); «Здесь (на Нижегородской ярмарке. – М. В.) не нужны были необходимые в других странах меры полиции к удержанию порядка в несметной массе людей: – здесь дети окружали отца» (Посещение Государем Императором Нижегородской Ярмарки // Северная пчела. 1836. № 192. 24 августа, понедельник. С. 768); «Но в Москве, когда там пребывает Император, непостижимая эта разгадка блестит на cте тысяч радостных лиц, излетает из тысячи уст. Вот слово этой разгадки, как я его видел и слышал: „Весь Русский народ есть одно великое семейство, а Император его отец“ (разрядка автора. – М. В.)» (Наблюдения в отечестве: Письмо Русского в Париж (окончание) // Северная пчела. 1836. № 274. 30 ноября, понедельник. С. 1093).], Николай как «великий хозяин русского Царства»[36 - «…Мы видели прекрасное зрелище: Царя-хозяина, Который хотел сам на месте обозреть главное средоточие внутренней торговли, и встречу Европы с Азиею, во взаимной мере предметов самой разнообразной промышленности, обрадовать производителей и свой добрый, трудолюбивый народ, среди их мирных занятий, отсюда разливающих источники богатства, не только по всей России, не только в Европу, но даже в степи древней Азии и в леса отдаленной Сибири. Все это хотел Сам видеть Великий Хозяин Русского Царства, и, уделяя драгоценное время от всех государственных дел и занятий, поспешил приездом на Нижегородскую Ярмарку» (Северная пчела. 1836. № 192. 24 августа, понедельник. С. 767; описание посещения Николаем Нижегородской ярмарки).]. Ключевыми средствами для описания единства императора и его народа становятся «семейные» метафоры. Прочность связи между императором и жителями России обосновывалась их особым эмоциональным, интуитивным характером.
Метафоры пути в текстах «Северной пчелы» второй половины 1836 года использовались редко; как правило, речь заходила о великой будущности России: «Мы же, слава Богу, русеем с каждым днем более и более. Это значит, что великая будущность разверзается пред нами»[37 - Наблюдения в отечестве: Письмо Русского в Париж: (Из Quotidienne) // Северная пчела. 1836. № 273. 28 ноября, суббота. С. 1092.]. «Великая будущность», несомненно, подразумевала определенное движение вперед, однако не менее очевидно было другое: сравнение между историческим прошлым, настоящим и будущим (за исключением истории самого николаевского царствования с 1826 по 1836 год) по шкале «лучше – хуже» в планы Бенкендорфа и близких к нему публицистов явно не входило[38 - О том же, по сообщению М. И. Жихарева, говорил Бенкендорф М. Ф. Орлову, когда они обсуждали содержание первого «Философического письма»: «Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение…» [Лемке 1909: 411] (оригинал по-французски).]. Грядущее процветание оказывалось связано не с реформами или иными нововведениями, а с сохранением и экстенсивным усовершенствованием настоящих порядков – причем надежды на такой сценарий ассоциировались не столько с династической преемственностью, сколько почти исключительно с фигурой действовавшего монарха.
В этой перспективе ответственность за стабильность, а значит, и за благоденствие ложилась прежде всего на III отделение императорской канцелярии и корпус жандармов, призванных обеспечивать связь между монархом и его народом поверх устоявшейся бюрократической иерархии. Собственно, «цветущее» положение дел в стране и наступившее «спокойствие» во многом стали итогом десятилетней деятельности руководимых Бенкендорфом ведомств[39 - Бенкендорф отчетливо противопоставлял собственные успехи результатам ведомственной деятельности Уварова. В отчете III отделения за 1836 год о Министерстве народного просвещения говорится: «…Учебное наше просвещение еще в колыбели» [Обозрение 2006: 153], при том что в 1835 году в итоговом документе контролирующего ведомства с уверенностью утверждалось: «Сия важная отрасль государственного управления со времени назначения нынешнего министра получила, можно сказать, новую жизнь. В два года необыкновенные сделаны успехи в отношении устройства и размножения учебных заведений» [Обозрение 2006: 136].], поскольку именно для достижения этой цели – всеобщей «тишины» – в 1826 году и была образована жандармерия. В инструкции жандармским чиновникам Бенкендорф в 1826 году отмечал:
Стремясь выполнить в точности Высочайше возложенную на меня обязанность и тем самим споспешествовать благотворной цели Государя Императора и отеческому его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть и их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие, я поставляю Вам в непременную обязанность <…> следующее: <…> Наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей либо личной властью, или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных. <…> Вы в скором времени приобретете себе многочисленных сотрудников и помощников; любящие правду и желающие зреть повсюду царствующею тишину и спокойствие, потщатся на каждом шагу Вас охранять и Вам содействовать полезными советами, и тем быть сотрудниками благих намерений своего Государя (курсив мой. – М. В.) [Инструкция 1871: 197–199].
Таким образом, официальная интерпретация истории первого николаевского десятилетия на троне заключалась в том, что «особый путь» развития России, по сути, подошел к концу. За уникальными успехами текущего царствования могли следовать лишь бесконечное и ничем не омрачаемое благоденствие, «тишина» и «спокойствие». В этой перспективе основу государственного управления составляли не министерства, чья функция в данном контексте сводилась к минимуму – поддержанию прежнего порядка, а контролирующие идеологические ведомства. Таким образом, разговор об «особом пути» вновь велся на языке межведомственного соперничества.
6. Третий влиятельный участник идеологических дебатов того времени, министр народного просвещения С. С. Уваров, мыслил текущий исторический момент (1830?е) в категориях перманентного государственного кризиса. В записках, которые он с 1832 года подносил императору, он часто напоминал о последствиях декабрьских волнений 1825 года в России и европейских революций начала 1830?х, прежде всего во Франции. Так, в своем письме Николаю от марта 1832 года Уваров описывал положение России в мире, используя метафору корабля, плывущего в открытом бушующем море:
Дело Правительства – собрать их (последние останки своей политической будущности. – М. В.) в одно целое, составить из них тот якорь, который позволит России выдержать бурю [Уваров 1997: 97] (оригинал по-французски).
Метафорами бури и корабля пронизан и доклад Уварова «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения», доведенный до сведения монарха 19 ноября 1833 года:
Правительству, конечно, в особенности Высочайше вверенному мне министерству, принадлежит собрать их («религиозные, моральные и политические понятия», принадлежащие исключительно России. – М. В.) в одно целое и связать ими якорь нашего спасения <…>. Россия живет и охраняется спасительным духом Самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, [что] обращалось в неоспоримый факт, долженствующий одушевлять всех и каждого, во дни спокойствия, как и в минуты бури? <…> Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? <…> Но если Отечеству нашему <…> должно устоять против порывов бури, ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бессомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени… (выделено автором. – М. В.) [Уваров 1995: 70–72].
Используя аналогию между актуальной политической ситуацией и «бурей», Уваров как будто обосновывал идеал «устойчивости» и «стабильности», не подразумевающий движение. Наиболее явно этот образ транслировался с помощью метафоры «якоря»: бросив якорь, корабль удерживается на одном месте, тем самым спасаясь от шторма. Однако в то же время Уваров предлагал императору метафору движения, которая станет ключевой в период его министерства: «Как идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места („situation“)?» [Уваров 1995: 70]. Задачу, поставленную Уваровым, действительно сложно было выполнить: она предполагала две разнонаправленные траектории движения России – вместе с Европой, но одновременно и неким «своим» путем. Для разрешения этой антиномии Уваров прибег к органицистским метафорам. Так, он писал о народности: «…Народность не состоит в движении назад, ни даже в неподвижности; государственный состав может и должен развиваться подобно человеческому телу <…>. Речь не идет о том, чтобы противиться естественному ходу вещей» [Уваров 1995: 71]. Подхватывая тезис о неравномерном развитии народных тел (как и человеческих), Уваров постулировал принцип, который затем станет базовым для близких к нему историографов. Согласно этой точке зрения, конечная точка маршрута у России и европейских стран одна, хотя двигаются они к ней различными путями и темпами. Уваров пытался показать, что уникальность России состоит в сочетании «несочетаемого»: Россия, как писала в «Наказе» Екатерина II, «есть европейская держава», а между тем она все-таки отделена от Европы. Подобно западным державам, корабль «Россия» оказался в эпицентре бури, однако лишь ему удастся в итоге бросить якорь и тем самым спастись.
Представления Уварова о «буре», в которой находится Россия, о постоянной ситуации «кризиса», которая диктует определенное политическое действие, нашли отражение в метафорике события, ставшего венцом полугодового коронационного праздника 1836 года, – постановки первой национальной русской оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», возвращавшей публику к смутным временам начала правившей династии. Как известно, сюжет «Жизни за царя» описывает один из самых напряженных моментов русской истории. Одновременно значимость данного эпизода проявлялась скорее ретроспективно – в свете знания о последующей блестящей судьбе новой царской династии. В этом смысле опера диссонировала с идеологическими схемами, пущенными в ход летом 1836 года и изображавшими Россию в период тотального процветания, в том числе и в исторической перспективе.
Если мы взглянем на текст либретто барона Е. Ф. Розена, созданного при участии В. А. Жуковского, то обнаружим, что он наполнен метафорами «бури» и «грозы», а также содержит ключевую и для проповедей Филарета идею жертвы. Собственно, темы «бури», «грозы» и «пути» возникают уже в первых репликах оперных героев: «Запевала: В бурю, во грозу… Хор крестьян: Сокол по небу / Держит молодецкий путь. Запевала: В бурю по Руси…» [Розен, Глинка 1836: 1]. Идея «жертвы» «во имя отечества», о которой в проповеди говорил Филарет, была заключена в самом сюжете оперы: добровольной смерти русского крестьянина во имя спасения будущего царя и, следовательно, династии[40 - Подробнее о мотивной структуре оперы см.: [Киселева 1997].].
Метафора пути особенно актуальна для третьего действия оперы – речь идет о тупиковом «пути в болото», которым Сусанин ведет поляков. Сусанин обещает провести врагов «прямым путем», который в итоге оказывается гибельным [Розен, Глинка 1836: 43]. Крестьянин сознательно сбивается с дороги, чтобы обмануть поляков. Авторы либретто обыгрывали идею двойственности «пути»: спасительный с точки зрения Сусанина путь для поляков означал, напротив, блуждания и смерть. Сусанин связывал представления о своем «особом пути» в бурю, ненастье: «В непогоду и беспутье / Я держу свой верный путь! <…> Мой путь прям! Но вот причина: / Наша Русь для ваших братьев / Непогодна и горька»[41 - Поляки думали, что Сусанин «сбился с пути», подозревая, впрочем, что сделал он это умышленно [Розен, Глинка 1836: 58].]. Это высказывание лучше всего характеризовало представления Уварова о пути России[42 - «По какому правилу следует действовать в отношении к Европейскому просвещению, к Европейским идеям, без коих мы не можем уже обойтись, но которые без искусного обуздания их грозят нам неминуемой гибелью?» [Уваров 1995: 70].]: и Сусанин, и поляки движутся одним и тем же маршрутом, хотя смысл этого пути для каждой из сторон принципиально различен: во время бури поляки (революционная Европа) обречены на гибель, а Сусанин (подобно России) спасает царскую династию и собственную идентичность. Русский крестьянин избирает свой «крестный путь», в предсмертном монологе связывая воедино православие, самодержавие и народность: «Румяная заря / Промолвит за Царя / И мне, и вам. / Заря по небесам / Засветит правду нам! / Во правде путь идет / И доведет! / Во правде дух держать / И крест свой взять, / Врагам в глаза глядеть / И не робеть» [Розен, Глинка 1836: 65].
Мы не утверждаем, что Розен при составлении либретто прямо следовал указаниям Уварова. Возможно, близость либретто к мифологемам Уварова можно объяснить участием в его составлении Жуковского, который, как и Уваров, развивал «идеи патерналистского самодержавия» Карамзина [Киселева 1998: 36]. Кроме того, он, как показывает И. Ю. Виницкий, как в начале 1830?х, так и в конце 1840?х годов описывал европейские события через использование схожих метафор – прежде всего «бури» [Виницкий 2006: 191–200]. Нам важнее здесь указать на сходство идеологических конструкций: с одной стороны, в опере, с другой – в докладных записках Уварова императору.
Вводя в идеологический оборот формулу «православие – самодержавие – народность», министр наделял особым смыслом последний элемент триады: монарх и «национальная религия» получали легитимацию через народность и в значительной степени были ей подчинены [Зорин 2001: 365–366]. Необходимым контекстом, где идеи Уварова оказывались наиболее эффективными, служила «буря», идеологический кризис, выход из которого требовал максимального напряжения всех государственных сил[43 - Следует, безусловно, согласиться с А. Л. Зориным, который предлагает различать риторику Шишкова и Уварова на том основании, что первый из них действовал в «период военных действий», а второй разрабатывал «стратегию мирного, эволюционного развития» [Зорин 2001: 367]. Между тем наш анализ позволяет несколько скорректировать вывод исследователя: любопытным образом Уваров, проводя реформы в мирное время, тем не менее описывал контекст их реализации как революционный и кризисный.]. В этой ситуации ключевым ведомством в России оказывалось именно министерство народного просвещения Уварова, поскольку именно оно интенсивно реформировало систему образования, делая ее наиболее авторитетным, с точки зрения министра, каналом, укреплявшим связи между монархом и подданными. «Особый путь» России, по Уварову, заключался в разработке уникальной, лишь ей одной свойственной траектории движения – дистанцирования от охваченной революционными волнениями Европы без потери общего ориентира и при сохранении единства основных исторических вех развития.
Концепция Уварова радикально отличалась от сценариев, предложенных Филаретом и Бенкендорфом в 1836 году. Строго говоря, термином «особый путь России» можно было назвать лишь уваровскую схему, однако с одной существенной оговоркой: никакой финальной точки движения в этом случае быть не могло, речь шла о неизменно существующей кризисной ситуации – агрессивная цензурная и образовательная политика Уварова обретала смысл лишь в ситуации ожидания постоянной угрозы. Сама «буря», таким образом, становилась необходимой составляющей реформаторского идеологического сценария Уварова, без нее его предложения теряли актуальность. Именно эта черта и сближает все описанные версии триады «православие – самодержавие – народность»: все они, как мы постарались показать, почти не подразумевали дальнейшего прогресса. В первых двух случаях цель (благоденствие России) объявлялась уже достигнутой, в третьем, наоборот, залогом успеха становилось антикризисное управление в эпоху чрезвычайного положения, трансформировавшегося в норму. Согласно всем трем идеологическим схемам, Россия (пусть и с некоторыми оговорками) фактически существовала вне движения во времени – ровно так же, как и Россия в интерпретации Чаадаева. Между провиденциализмом автора «Философических писем» и историческим ви?дением «особого пути» России официальными идеологами существовало глубокое структурное родство, что, помимо прочего, и привело последних в столь яростное негодование. Проведенный анализ показывает, что формула «православие – самодержавие – народность» несла в себе значительный конфликтный потенциал. Отдельные элементы триады, конечно, определялись через зависимость друг от друга, однако не менее важными, по-видимому, были и заложенные в ней противоречия. Какая из частей формулы «самая значимая и главная»? Ведомства, ответственные за «православие», «самодержавие» и «народность», отвечали на этот вопрос по-разному.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: