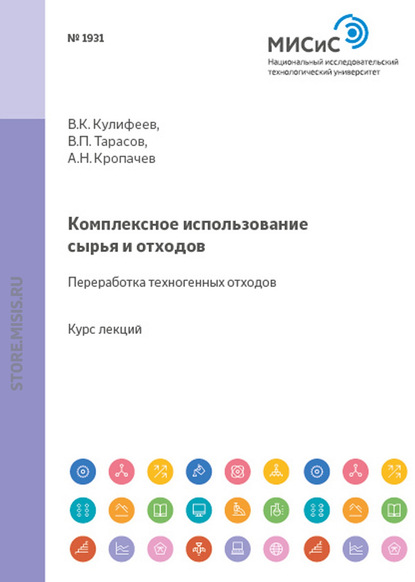По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отец Арсений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надзиратель справедливый
Надзирателя Веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище «Справедливый».
К о. Арсению новый надзиратель относился безразлично, и если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо:
«Службу, службу, батюшка, надо исправно править».
Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить.
Летом со Справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а о. Арсений в это время подметал дорожки между бараками.
Прошел Справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошел дальше.
Отец Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель, и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет Справедливого. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак, но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель. Часа через два бежит Справедливый сам не свой. Отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит Справедливый по лагерной дорожке, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно рассматривает, а народ по дорожкам уже ходил. Отец Арсений подошел к надзирателю и сказал: «Гражданин надзиратель! Разрешите обратиться!» Лицо Справедливого перекосилось от злости, и он закричал: «Прочь, поп, с дороги», – и даже размахнулся для удара, а о. Арсений молча подал ему билет и пошел в барак. Справедливый билет схватил и закричал: «Стой!» И, подойдя, спросил: «Ну! Кто видел?» – «Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашел на дорожке часа два тому назад».
Повернулся Справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с о. Арсения все строже спрашивать, и подумалось, уж не хочет ли Справедливый убрать о. Арсения как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались, убил надзиратель заключенного, а докладывает начальству: «Напал на меня», и благодарность еще за бдительность получит.
Убрать заключенные в лагере существовала тысяча разных способов, и все они были безнаказанными.
Время шло…
«Матерь Божия! Не остави их!»
В основу написанного здесь положены воспоминания о. Арсения, рассказанные им самим близким своим духовным детям, а также и мне.
Мои послелагерные встречи с Авсеенковым, Сазиковым и Алексеем-студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти о. Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни.
Написав все это, я счел необходимым показать рукопись о. Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мой вопрос: «Разве что не так?» – ответил: «Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое – душу человеческую, исполненную Веры, Любви и Добра. Показали, что никогда не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе, одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходим приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха, и основой борьбы за душу являются любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано: «От дел своих оправдаешься и от дел своих осудишься». И еще сказано: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов».
То, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божией, я подумал, что верой я силен, но, когда умер, показали мне Господь и Матерь Божия, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться, и учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен был я занимать, показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи! Помоги мне!»
Сказав это, о. Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее. Читая после просмотра написанное, я увидел внесенные им исправления и дописанные места. Вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадка. Отдавая мне рукопись, о. Арсений сказал: «Пока я жив, не показывайте никому, а умру – тогда и читать можно».
* * *
Жаркое изнурительное лето и тучи вечно жужжащего гнуса сменила промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаявшей грязи. В бараке было сыро и холодно и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа.
Ежедневно в бараке умирало по три-пять человек. Дошла очередь и до о. Арсения. Слег он. Температура за сорок, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать.
В «особом» при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали; вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях «закон»: на ногах стоишь – работай, упал – докажи, что не симулянт. Доказал – будут лечить, если начальство одобрит.
В лагере установлен план выработки на каждого заключенного, начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что «телячьи нежности» разводить некогда.
Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят, если ниже 39 градусов, то топай на работу, а заспоришь – в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше тридцати девяти – лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смеряет температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до тридцати восьми упадет.
В общем, закон: если ходить можешь, лучше иди работай, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в «особом» вольнонаемные, дело свое хорошо знали, чуть что крик: «Симулянт! Марш на работу. В карцер пошлю!» В лагере среди заключенных врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах, и при этом тяжелых.
Когда заболел о. Арсений, на третий день болезни врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора-легочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Авсеенкову: «У больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше двух дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет».
Отец Арсений почти старик. В «особом» не один год, за это время барак не один раз обновлялся, из «старожилов» осталось человек десять-двенадцать. Глядя на «старожилов», начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись – как и почему эти «патриархи» барака еще живы.
Вызвали через надзирателя фельдшера, осмотрел он о. Арсения издалека, с расстояния двух метров, бросил аспирин, градусник дал Авсеенкову, чтобы тот измерил температуру о. Арсению, посмотрел, что сорок с лишним, и, сказав «грипп», ушел.
Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу малину несли все, что могли. Ходок, проникший через верных людей в больницу просит помощи, лекарства, рассказывает, что с о. Арсением. Врач ходока выслушал и спросил: «Сколько лет зеку и в лагере который год?» Ходок объясняет, что больному сорок девять и в «особом» три года.
Врач на это только ответил: «Вы что, думаете, что лагерь «особого режима» – санаторий и зеки в нем до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен, три года прожил. Пора и честь знать. Лекарств нет, для фронта нужны».
…Температура поднималась, все чаще и чаще исчезало сознание. Авсеенков аспирином с малиной о. Арсения поит, Сазиков тряпку горчицей обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут, но о. Арсению становится все хуже и хуже. Умирает.
Смерть в лагере дело обычное, привыкли все к ней, а тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. (Из конца в конец только и слышалось: «Умирает о. Арсений, умирает Петр Андреевич». Ибо для каждого сделал он что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный, понимали это и политические, и уголовники.) (Фраза в скобках включена мною в воспоминания только после смерти о. Арсения и принадлежит Сазикову и Алексею-студенту).
Молится и молится о. Арсений, чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать.
«Отходит», – проговорил кто-то. Затих о. Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Авсеенков, Алексей, врач Борис Петрович – все куда-то ушло, провалилось, пропало.
Через какое-то время о. Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, мокрота, заливавшая горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым.
Сейчас о. Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли: Авсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых о. Арсением. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, о. Арсений.
Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны о. Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их.
Сквозь охватившую его тишину он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял о. Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но, однако, он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушел.
Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть.
Вот Сазиков поднес кружку с водой к «его» губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Авсеенков, и Алексей, и другие стоящие люди.
Отец Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей, как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, иерей Арсений, физически мертв.
Отец Арсений растерянно оглянулся, барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко горел ослепительный свет.
Сосредоточившись, о. Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти и пошел к ослепительному свету, но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Павловича, Иванова, Сазикова, Авсеенкова и многих, многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них.
Став на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Авсеенкова, Александра, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере.
«Господи! Господи! Не оставь их! Помоги и спаси!» – взывал он и особенно просил Матерь Божию, умоляя Ее не покинуть, не оставить Милостью Своей заключенных «особого».
Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и Святым, просил о. Арсений милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел о. Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна о. Арсению.
У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих, у других, как у Сазикова и Авсеенкова, горела небольшим, но все разгорающимся огнем, у некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру Света. Всматриваясь сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божию, о. Арсений испытал величайшее волнение.
«Господи! Господи! Я жил среди этих людей и не замечал, и не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом.
Господи! Где же я был, ослепленный своею гордостью и малое делание мое принявший за большое!»
Отец Арсений видел, что Свет веры горел не только у заключенных, но был у некоторых людей охраны и администрации, по мере сил своих и возможностей совершавших добро, а для них это было большим подвигом.
«К чему все это, – пронеслось в мыслях о. Арсения, – к чему?» Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест, а он, о. Арсений, живя с ними рядом, он – иеромонах Арсений – видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми.