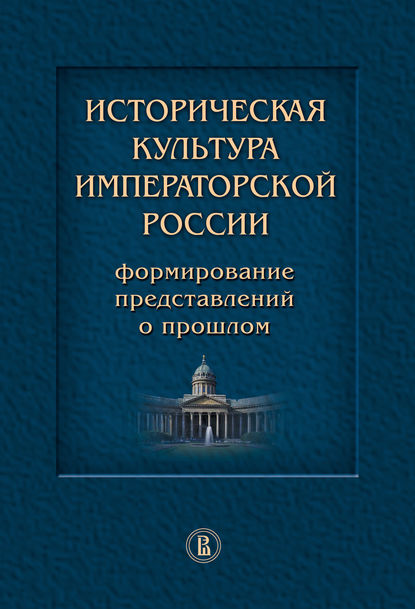По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом
Коллектив авторов
В книге описывается многостороннее развитие базовых представлений о прошлом своей страны и Европы в Российской империи второй половины XVIII – начала ХХ века. В отличие от традиционного историографического рассмотрения, сосредоточенного только на эволюции академической науки, авторы исходили из более комплексного подхода, основанного на реконструкции ключевых понятий и механизмов исторической культуры страны (включая сферу образования, деятельность церкви и духовных школ, музеев, исторических обществ и археографических учреждений, региональных сообществ и т.д.). Изучение исторического знания органично дополняется развернутыми очерками об эволюции исторического сознания (с учетом его рецептивных и творческих компонентов), а также о динамике исторического воображения (в русском искусстве и литературе XVIII–IX веков).
Монография подготовлена к юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ И.М. Савельевой.
Текст монографии подготовлен в ходе реализации проекта «Формирование дисциплинарного поля в социальных и гуманитарных науках в XIX–XXI вв.», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 году.
Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом
Коллективная монография в честь профессора И. М. Савельевой
Предисловие
Коллективная монография, посвященная основным формам и институтам «переработки прошлого» в императорской России, стала результатом общих усилий исторической «команды» Института гуманитарных историко-теоретических исследований. Нам особенно важно отметить, что к ее замыслу и первым обсуждениям состава и содержания был непосредственно причастен Андрей Владимирович Полетаев (1952–2010) – один из основателей ИГИТИ, ныне носящего его имя. Решающую роль в подготовке сборника на начальных стадиях его формирования сыграл декан факультета истории НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник ИГИТИ профессор Александр Борисович Каменский.
Эта книга посвящается юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ Ирины Максимовны Савельевой. Для членов авторского коллектива ее работы были и остаются ориентиром в области теоретического осмысления как наших собственных исследований, так и базовых характеристик того поля, в котором мы работаем как ученые. Изучение исторического сознания, исторической культуры, взаимосвязей и сложной эволюции представлений о прошлом в самых разных обществах и на всех континентах теперь неотделимо от ее вклада, системного мышления и характерного исследовательского почерка. Нам особенно отрадно отметить, что в ее работах (как и, мы надеемся, на страницах этой коллективной монографии) преодолевается привычное разделение исторической профессии на специализации по русской или зарубежной истории, со своими часто неотрефлексированными ограничениями и односторонностями. Национальную науку или историческое сознание – будь то в Германии позапрошлого века, в Америке или в нынешней России – профессор Савельева неизменно рассматривает и оценивает в широком международном контексте. То, что изучение своего прошлого оказывается особенно пристальным и многосторонним именно в свете уроков европейского и мирового опыта, всегда было для нее аксиомой.
Бесспорный научный авторитет Ирины Максимовны счастливо дополняется ее организаторскими заслугами, но главное – непрестанными усилиями по поддержанию качества и стиля работы нашего исторического и гуманитарного цеха. Во всем этом сказывается ее эрудиция и вкус к теории, редкое сочетание благожелательного внимания к чужому мнению и бескомпромиссного следования собственному видению и приоритетам в науке. Все эти характеристики – вовсе не дань юбилейной риторике или дежурные похвалы начальству (ибо работать с Ириной Максимовной интересно и ответственно, а не просто приятно). Скорее празднование юбилея – важный повод сказать то, что остается фоном разнообразных научных дел и хлопот, конференционных дискуссий, деловых или житейских бесед, но вслух произносится весьма редко. Мы, как и раньше, с нетерпением ждем новых статей и книг Ирины Максимовны, продолжения споров и общения и уверены в многолетней дальнейшей работе по сов местному постижению прошлого, которое никогда не бывает утраченным без остатка.
Введение
А.Н. Дмитриев
Прошлое нашего прошлого: проблематика исторической культуры в Российской империи
Историческая культура – понятие относительно новое, устойчиво вошедшее в лексикон гуманитариев только в последние десятилетия. Между тем сам феномен сложного и иерархического единства представлений о прошлом, аккумулируемых и транслируемых в коллективном опыте человечества, едва ли не так же древен, как письменные практики первых цивилизаций. 1980–2000-е годы стали временем подлинного бума «исторической памяти» – количество публикаций, связанных с этой темой и сопутствующими категориями прибавляется в каждой стране практически ежемесячно, если не ежедневно. Внимание и интерес к сюжетам прошлого, актуально присутствующим в жизни того или иного современного сообщества, обычно сосредоточены на «горячих» и спорных сегодняшних проблемах (в разных регионах мира связанных более всего с наследием Второй мировой войны или расовой сегрегацией и колониальным прошлым, а кроме того и с памятью о минувшей эпохе «реального социализма»). В отличие от публицистов и журналистов ученые с самого начала вели речь и о более широком хронологическом понимании проблематики исторической памяти – о составе и операциональных блоках, тех или иных когнитивных и идеологических модусах понимания истории уже не только «здесь и сейчас», но и в самых разных обществах и цивилизациях, включая давно исчезнувшие[1 - Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М., 2005. С. 170–220; Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб., 2003; Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна: пер. с англ. СПб., 2004.]. И понятие «историческая культура», учитывающее немецкий послевоенный опыт «переработки прошлого», как раз и способствовало переосмыслению новейших стереотипов или уже опробованных историографических канонов. Перед историками разных школ и поколений встает задача показать эволюцию «высокой» исторической традиции и академической науки на фоне изменчивого неспециализированного знания о прошлом, осмыслить взаимосвязи многообразных исторически контекстуальных форм и практик присвоения и освоения минувшего[2 - Cм. одну из первых серьезных попыток использовать категорию исторической культуры: Guene?e B. Histoire et culture historique dans l'occident Me?die?val. Paris, 1980 (Пер. на рус. яз.: Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002).].
Очень большую роль в обновлении критических представлений о формах и способах присутствия истории в европейском (по преимуществу) культурном и политическом сознании сыграли работы, представленные в известном сборнике под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Ренджера «Изобретение традиций» (1983)[3 - The Invention of Tradition / E.J. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge, 1983.]. «Удревнению» проблематики памяти и расширению употребления понятия «коммуникации» в сфере исторических исследований способствовал цикл трудов Яна и Аллейды Ассман[4 - Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik M?nchen, 2006. См. также: Holtorf C. Geschichtskultur in ur– und fr?hgeschichtlichen Kulturen Europas // Der Ursprung der Geschichte / J. Assmann, K.E. M?ller (Hg.). Stuttgart, 2005. S. 87–111, 292–300; Fischer T.E. Geschichte der Geschichtskultur. ?ber den ?ffentlichen Gebrauch der Vergangenheit von den antiken Hochkulturen bis zur Gegenwart. K?ln, 2000.]. Все эти перемены повлияли на представления о характере и структурах исторического сознания. Бывшее ранее (особенно в отечественном обиходе) категорией преимущественно социально-философской, теперь оно стало употребляться в более тесной связи с проблематикой историописания (в том числе взятого и в более обширной перспективе – от локального до национально-государственного и общерегионального, вплоть до глобальных масштабов)[5 - Ср.: Левада Ю. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 186–224; Барг М. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987; Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. М., 1998. См. важный обощающий труд: Erinnerung, Ged?chtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Ged?chtnisforschung / G. Oesterle (Hg.). G?ttingen, 2005.]. Понятие «историческая культура» в отличие от всеохватного исторического сознания акцентирует как раз институциональный и рефлексивный, сознательно направляемый («культивируемый») аспект представлений о прошлом. Недаром, особенно в современной немецкой традиции, проблематика исторической культуры обсуждается в прямой связи с вопросами не только идеологии, но и культурной политики, политики образования, и даже школьной дидактики[6 - Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik / B. M?tter, B. Sch?nemann, U. Uffelmann (Hg.). Weinheim, 2000.].
Понятие исторической культуры охватывает многообразные отношения между профессиональной историографией и более обширной сферой общественных представлений об истории (историческим сознанием) в разные эпохи и периоды[7 - R?sen J. Was ist Geschichtskultur? ?berlegungen zu einer neuen Art, ?ber Geschichte nachzudenken // Historische Faszination. Geschichtskultur heute / J. R?sen, T. Gr?tter, K. F??mann (Hg.). K?ln u.a., 1994. S. 3–26; Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture, 1500–1730. Oxford, 2003.]. Притом характер этих взаимодействий понимается не как однонаправленный процесс продвижения от сознания «вообще» к науке – исключительно в плоскости академизации и критического пересмотра повседневных, массовых или обыденных представлений о прошлом. Пространство исторической культуры начиная с XIX века также непременно включало в себя и сферу обратных связей – область популяризации, распространения и переприсвоения, своеобразного «низового» переписывания истории, транслируемой «сверху» (точнее из политического, идеологического или символического центра, столицы, университета и т. д.). Кроме того, в зазоре между профессиональной историографией и историческим сознанием общества располагается и деятельность многочисленных исторических, археологических, краеведческих и этнографических обществ, а также полулюбительских общественных объединений и организаций, связанных с изучением прошлого. И, разумеется, сама сфера исторического знания в том или ином обществе будет заведомо шире, чем область академической исторической науки в этой же стране или регионе.
В отечественной науке представления об исторической культуре, ее составе и специфике начали складываться также относительно недавно (особенно важную роль тут играют коллективные начинания, связанные с оформлением интеллектуальной истории как особой субдисциплины и деятельность Российского общества интеллектуальной истории во главе с Л.П. Репиной)[8 - Репина Л.П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 5–18.]. Интересно обратить внимание на то, что пока большинство российских работ по проблематике исторической культуры (и круг авторов, эксплицитно это понятие использующих) связаны преимущественно с зарубежной тематикой и прошлым скорее «иных» стран, нежели России[9 - Уваров П.Ю. Россия в роли «великой историографической державы» // Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М., 2010. C. 121–139; Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое литературное обозрение. 2004. № 2 (66). С. 68–87.].
Разумеется, наше исследование, выполненное коллективом авторов в форме очерков, не является первооткрывательским – оно связано с богатым опытом изучения истории исторической науки в нашей стране, где уже давно сложились устойчивые историографические жанры и традиции (особенно отметим такие противоположные по заданию и замыслу капитальные сочинения, как «Главные течения русской исторической мысли» (1897) Павла Милюкова и уже советскую «Русскую историографию» (1941) Николая Рубинштейна[10 - См. обширную вступительную статью: Мандрик М.В. Николай Леонидович Рубинштейн: Очерк жизни и творчества // Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб., 2008.]). Вместе с тем замысел книги – принципиально иной, чем очередная ревизия или даже расширение привычной историографической работы. Для нас особенно важно представить академическую или университетскую науку о прошлом в контексте различных других форм общественного сознания, связанного с историей (от гимназического образования до живописи или романистики). Кроме того, «отчуждающий», неканонический взгляд на профессиональное изучение прошлого – с точки зрения его организационных условий, техник выработки или форм культурного бытования исторического знания – был значим для нас именно желанием выйти за пределы стандартной внутрицеховой оптики. Ведь в историографических текстах вне зависимости от симпатий или пристрастий их авторов приоритет до сих пор безусловно принадлежит нарративу кумулятивного и внутренне беспроблемного накопления знания. При этом общепризнанный и очевидный факт борьбы и соперничества разных школ и направлений все равно включается в конечном счете в картину пополнения, пересмотра и уточнения общего и устоявшегося корпуса сведений о прошлом[11 - См.: Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977; Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986; Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003; Брачёв В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001 и др.].
Задача предлагаемого сборника существенно отлична от очередной реализации этого имплицитного императива. Авторы книги стремились проследить разные, порой несхожие пути формирования исторической культуры, а также способы и формы приращения, упорядочения и регламентации исторического знания в императорской России. Акцент сознательно будет сделан на проблематику XIX столетия, когда и научные, и «корпоративные» (дворянские и официально-государственные), а также массовые представления о прошлом достигли уже достаточно зрелого и отрефлексированного состояния и уровня. Однако опирались эти представления на давний фундамент исторических образов и знаний о минувшем в средневековой Руси, весьма существенно ревизованных во времена Петра Первого и в последующие десятилетия[12 - См., в частности: Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.]. В то же время базовые исторические схемы Московского царства (преемственности династической власти Рюриковичей, трансляции киевского наследия через Владимиро-Суздальские земли) воспроизводились и в исторических сочинениях XVIII века[13 - Базовыми текстами здесь была Степенная книга XVI века, сохранявшая значимость как памятник и источник исторических представлений и в XVIII столетии, а также многократно переиздававшийся «Синопсис» Иннокентия Гизеля. См.: Сиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010 (особенно гл. 8 об официальных исторических сочинениях петровского времени, с. 334–385); Формозов А.А. Феномен «Синопсиса» // Формозов А.А. Человек и наука: из записей археолога. М., 2005. С. 127–146; о церковной переоценке роли Киева см.: Опарина Т.А. Москва как новый Киев, или Где же произошло Крещение Руси: взгляд из первой половины XVII века // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 635–663.], а затем легли в основу научной историографии последовавших столетий, вплоть до общих курсов Ключевского, Покровского и школьных учебников.
Первый раздел нашей книги посвящен проблематике исторического знания в императорской России.
Понимание прошлого в древней и допетровской Руси в последнее время стало предметом пристального внимания историков (В.М. Живова, И.Н. Данилевского, А.Л. Юрганова, К.Ю. Ерусалимского), отмечавших своеобразие и поэтику летописного текста и характер переосмысления восточнославянскими авторами библейского сказания применительно к событиям и обстоятельствам своего прошлого[14 - См. только некоторые работы из весьма обширного списка: Живов В.М. Два пространства русского Средневековья и их позднейшие метаморфозы // Отечественные записки. 2004. № 5(20). С. 8–27; Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001; Успенский Б.А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000; Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995; Ранчин А.М. Киевская Русь в русской историософии XIV–XVII веков (некоторые наблюдения) // Ранчин А.М. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 221–232; Ерусалимский К.Ю. Понятие «история» в русском историописании XVI века // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени / Л.П. Репина (отв. ред.). М., 2003. С. 365–401; Ерусалимский К.Ю. Прочтение Ренессанса историографией барокко: сборник Курбского в исторической культуре России конца XVII – начала XVIII века // Человек в культуре русского барокко. М., 2007. С. 386–408; Усачёв А.С. Древнейший период русской истории в исторической памяти эпохи Московского царства (на материале «Книги степенной царского родословия») // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. С. 609–634; Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII в. М., 1995. Ср. анализ европейских сочинений того времени: Grafton A. What Was History? The Art of History in Early Modern Europe. Cambridge, 2007.]. Восприятие минувшего своей страны и иных государств и народов в XVIII веке развивалось уже на принципиально иных основах. Недавняя полемика вокруг специфики историографического наследия В.Н. Татищева (в связи с книгой А.П. Толочко[15 - Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005; Стефанович П.С. «История Российская» В.Н. Татищева: споры продолжаются // Отечественная история. 2007. № 3. С. 88–96; Свердлов М.Б. Василий Никитич Татищев – автор и редактор «Истории Российской». СПб., 2009.]) подчеркивает сложный характер конструирования истории в российском XVIII веке, часто далекого от современных исследовательских критериев и установок. В очерке А.Б. Каменского о Г.Ф. Миллере детально раскрыта проблематичность утверждения принципов критической историографии в российском академическом сообществе того времени[16 - См. также: Каменский А.Б. Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю // Ломоносов: Сборник статей и материалов. Т. IX. СПб., 1991; и особенно материалы содержательного исследования: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в.: в 3 ч. Л., 1961–1971.]. В статье Л.П. Репиной показано не только становление Т.Н. Грановского в качестве крупнейшей фигуры российской медиевистики и всеобщей истории[17 - Маслова Н.В., Агеева И.В. Русская история в научном наследии Т.Н. Грановского. К 180-летию со дня рождения // Отечественная история. 1993. № 4. С. 73–84. См. более общий очерк отечественной традиции изучения всемирной истории: Hecker H. Russische Universalgeschichts schreibung: Von den «vierziger Jahren» des 19. Jahrhunderts bis zur sowjetischen «Weltgeschichte». M?nchen, 1983.], но и формирование его образа как модели поведения университетского человека и историка per se для более широкой культурной среды и для последующего времени (эта его репутация поддерживалась в историческом и гуманитарном сообществе и после 1917 года).
Развитие профессиональной историографии в России было невозможно без распространения исторических знаний в образованной среде общества – в домашнем воспитании[18 - См. о популярной писательнице первой половины XIX века А.О. Ишимовой, авторе «Истории России в рассказах для детей» (1837–1841): Файнштейн М. Наставницы юных // Файнштейн М. Писательницы пушкинской поры: Историко-лит. очерки. Л., 1989. С. 42–57.] и особенно в учебном деле[19 - Володина Т.А. История в пользу российского юношества: XVIII век. Тула, 2000; Володина Т.А. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – середина XIX в. // История и историки. 2004. М., 2005. С. 104–126; Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 117–128.]. Преподавание истории в средней школе и гимназии рассматривается в статье Н.Г. Фёдоровой в важном «остраняющем» повороте – предметом особого внимания автора становится не весь образовательный процесс в целом или только транслируемые в нем ценности и образцы, но именно учебные тексты[20 - Белофост М.Г. Проблемы школьного исторического образования в ракурсе внутренней политики российского правительства в начале ХХ века. Тамбов, 1998; Бабич И.В. Проблема учебника отечественной истории в политике министерства народного просвещения в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 73–83; Фукс А.Н. Школьные учебники по русской истории (1861–1917 гг.): учеб. пособие. М., 1985; Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографическое явление // Преподавание истории в школе. 2007. № 7. С. 28–34 (см. материалы докторской диссертации А.Н. Фукса «Школьные учебники по истории как историографический феномен (конец XVII века – 1930-е годы)». М., 2011.]. Притом учебники по всеобщей истории задавали рамку для интерпретации также и российского прошлого, когда «свое» широко и разнопланово постигалось на фоне «чужого». Позже ведущими текстами по отечественной истории станут книги знаменитого Д.И. Иловайского (1832–1920)[21 - См.: Чекурин Л.В. Русский историк Д.И. Иловайский: Опыт биобиблиографического исследования. Рязань, 2002; Фукс А.Н. Русская история в школьных учебниках Д.И. Иловайского // Отечественная история. 2008. № 5. С. 185–192.]. Патриотические и порой верноподданнические установки Иловайского окажутся затем предметом иронического изображения и пародирования в русской литературе (например, у авторов «Сатирикона» уже в начале ХХ века). Во второй половине XIX века тексты исторических пособий все чаще пишут сами профессиональные историки первого ранга – вроде С.М. Соловьёва или С.Ф. Платонова, учебные тексты по всеобщей истории для гимназий и школ создают также П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер и Н.И. Кареев[22 - Антощенко А.В. Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов. Петрозаводск, 2010.].
Середина XIX века становится временем созревания академических стандартов российской исторической науки, но это имело не только сугубо научные, но и социально-идеологические коннотации именно в плане поиска субъекта исторического развития (народа) и адресата исторического письма (общественности) в процессе конструирования прошлого. Важность работы А.П. Толочко в том, что он показывает всю сложность и многосоставность перехода от имперского к национальному историческому дискурсу. Эта общая проблематика рассмотрена на примере полемики об «этнической» принадлежности Киевской Руси между Михаилом Погодиным и Михаилом Максимовичем на страницах славянофильских журналов и научной периодики сразу после смерти Николая I. Уже через несколько десятилетий и особенно интенсивно к концу XIX века многие ранние опыты написания местной истории окажутся переиначены и задним числом «национализированы» пропагандистами украинского национального возрождения[23 - См. важные соображения Олега Журбы (Днепропетровск) о позднем переходе от «регионального» к «национальному»: Журба О. Теоретичнi проблеми украiнськоi археографii // Украiна модерна. 2005. № 9. С. 152–172.]. Весьма проблематичным с 1880-х годов становится описание прошлого юго-западных территорий, которое в ряде работ авторитетных историков (особенно у Михаила Грушевского) начинает переосмысляться сквозь призму идеи непрерывности украинской истории, в противовес «привычной схеме» движения русского исторического процесса[24 - Наиболее известна критика традиционной схемы общероссийского исторического процесса (от древнего Киева через царскую Москву в имперский Петербург), сформулированная М. Грушевским в самом начале ХХ века (см.: Дорошенко Д. Огляд украiнськоi iсторiографii. Прага, 1923 [Киев, 1996]; Ісаевич Я. Праця Михайла Грушевського «Про двi схеми схiдноевропейськоi iсторii»: iсторiографiчний i полiтичний контекст // Михайло Грушевський i Захiдна Украiна. Львiв, 1995. С. 83–90.). Позднее его аргументы отчасти были приняты во внимание А.Е. Пресняковым; но затем в отечественной историографии в понимании восточнославянского этногенеза надолго возобладала парадигма «древнерусской народности», начальные положения которой были сформулированы еще до советского периода (см. обстоятельную книгу украинского историка Натальи Юсовой: Юсова Н. «Давньоруська народнiсть»: зародження i становлення концепцii в радянськiй iсторичнiй науцi (1930-тi – перша половина 1940-х рр.). Киiв, 2006.] из Древнего Киева через Владимиро-Суздальскую землю прямо в Московское царство. Ревизия привычной картины отчасти была свойственна и занятиям историей так называемого Западного края (особенно Белоруссии[25 - См.: Алексеев Л.В. Белорусская археология и историческое краеведение во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Советская археология. 1968. № 3. C. 85–100; Смоленчук А.Ф. Историческое сознание и идеология поляков Белоруссии и Литвы в начале XX века // Славяноведение. 1997. № 5. С. 100–105; Кохановский Г.А. Историография изучения культуры Белоруссии в конце ХVIII – начала ХХ вв. Становление научных знаний по археологии, историческому краеведению и фольклористике. Минск, 1992.]). Точно так же обращение к еврейской историографии[26 - Локшин А. Российская иудаика: русско-еврейская история и ее исследователи // Евреи в Российской империи XVIII–XIX вв. М., 1995. С. 3–22; Кельнер В.Е. Миссионер истории: жизнь и труды Семена Марковича Дубнова. СПб., 2008 и т. д.], к мусульманским памятникам (в Казани, Крыму или на Северном Кавказе)[27 - Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917 гг.). Ташкент, 1958; Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения: Историографический очерк. Ташкент, 1979; Tolz V. Russia’s Own Orient’: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford, 2011.] или к прошлому народов Закавказья[28 - Джавахов И.А. А.С. Хаханов и его деятельность в области кавказоведения. М., 1912; Черняев П.Н. Из истории кавказоведения // Сборник статей по вопросам культуры. Ростовна-Дону, 1928. Вып. 4. (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов. № 43). С. 5–42; Тютюнина Е.С. К вопросу об организационных формах исторического кавказоведения во второй половине XIX века // Вопросы истории и историографии Северного Кавказа (дореволюционный период). Нальчик, 1989. С. 113–125; Историография и источниковедение истории Северного Кавказа (вторая половина XVIII – первая треть XX в.): Библиографический указатель. Предварительный список: в 2 ч. / М.Е. Колесникова (автор-составитель); М.П. Мохначёва (науч. ред). Ставрополь, 2009.] существенно расширяет к исходу XIX века прежний мейнстрим (от Карамзина к Ключевскому) господствующего историографического канона. Этот имперский контекст[29 - См.: Дмитриев А.Н. Украинская наука и ее имперские контексты (XIX – начало ХХ века) // Ab Imperio. 2007. № 4. С. 121–172.], разнородность, а порой и несводимость локальных историй разного уровня в одну законченную и согласованную картину общего прошлого разных слоев населения и этнических групп привлекают первостепенное внимание новейшей историографии[30 - См. очень важный сборник: Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / T. Sanders (ed.). Armonk, 1999 и недавно изданную антологию текстов из журнала «Ab Imperio»: Изобретение империи: языки и практики. М., 2011.]. Однако в первые десятилетия XIX столетия местные версии исторической памяти были весьма далеки от будущих национальных нарративов (см. также статьи В. Боярченкова и Н. Родигиной во втором разделе монографии).
Особенно активным процесс развития исторической науки «вширь» стал в пореформенные годы – см. републикуемую в книге статью воронежского исследователя В.И. Чеснокова (1939–2000)[31 - См. статью-некролог о нем: Владимир Иванович Чесноков как ученый // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 6. Воронеж, 2002. С. 5–24 (и специальную монографию по теме: Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х гг. XIX века. Воронеж, 1989).]. Регламентация учебного дела была только одной из частей формировавшегося механизма государственного регулирования исторического знания. Через выработку базовых положений университетского устава, установление численности и соотношения кафедр по факультетам и в академиях государство (а точнее – ведомство народного просвещения) определяло общие параметры, формальный состав исторической науки, характер воспроизводства преподавательского корпуса.
Важными моментами такой трансформации и «созревания» исторической науки стало расширение историографических изысканий, выделение историографии в отдельную отрасль науки (как свидетельство ее растущей автономизации) – особенно в трудах петербургского историка К.Н. Бестужева-Рюмина и его московских коллег[32 - См.: Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. Днепропетровск, 1993; Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. Известная работа киевского профессора В.С. Иконникова «Опыт русской историографии» (1884) осталась скорее уникальным по полноте и всеохватности детальным обзором источников и литературы по русской истории, чем трудом по истории исторической науки.]. Этой же тенденции к самостоятельности отвечало и сосредоточение работы университетских преподавателей на поиске и освоении нового знания совместно со студентами – в специализированных семинариях (с их формальными и неформальными режимами коммуникации и воспроизводства[33 - Упомянем для предыдущего периода важные справочники: Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 1. XVIII век; Вып. 2. Первая половина XIX века / С.О. Шмидт (отв. ред.). М., 2001, 2007. См. также: Byford A. Initiation to Scholarship: The University Seminar in Late Imperial Russia // The Russian Review. 2005. Vol. 64. No. 2. Р. 299–323.]). Эти механизмы и практики профессионализации стали предметом специального рассмотрения в статье А.В. Антощенко и А.В. Свешникова[34 - См. также содержательную работу: Berelowitch W. History in Russia Comes of Age. Institution-Building, Cosmopolitanism and Debates among Historians in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No. 1. Р. 113–134.]. Вместе с тем сохранялась и общественная востребованность исторического знания даже в его специализированной форме – когда такие, казалось бы, внутренние перемены в корпорации, как защиты диссертаций или назначения новых профессоров, становились знаковыми событиями в жизни всего местного образованного общества (предмет специального исследования в очерке Т. Сандерса[35 - См. анализ схожих процессов на материале близкой к историографии дисциплины – филологии: Byford A. Literary Scholarship in Late Imperial Russia: Rituals of Academic Institutionalization. Oxford, 2007.]).
Общий ход автономизации и специализации исторического знания затронул также и область вспомогательных исторических дисциплин. Уже с 1770-х годов начинается систематическая деятельность по изданию источников по российской истории (стараниями Н.И. Новикова[36 - Дербов Л.А. Н.И. Новиков и русская история (к изданию «Древней Российской Вивлиофики») // Из истории общественного движения и общественной мысли в России. Вып. 2. Саратов, 1968.]). Другим важным шагом по пути профессионализации исторической науки станет деятельность Археографической экспедиции (во главе с П.С. Строевым) в 1826–1834 годах, а позднее – и Археографической комиссии, работавшей на постоянной основе при министерстве народного просвещения с 1837 года[37 - Брачёв В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). СПб., 1997.]. Одной из главных площадок поиска историка во второй половине XIX века постепенно становятся ведомственные архивы (в первую очередь, архив коллегии министерства иностранных дел и московский архив министерства юстиции[38 - Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. М., 1989; Щавелев С.П. Историк Русской земли. Жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. Курск, 1996; Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука: Архивисты и историки во второй половине XIX – начале XX века. М., 1999.]). С 1804 года действует уже упомянутое Общество истории и древностей российских[39 - Демидов И.А., Ишутин В.В. Общество истории и древностей российских при Московском университете // История и историки. 1975. М., 1978. С. 250–280; Боярченков В.В. Общество истории и древностей российских в середине 1840-х гг. // Вопросы истории. 2008. № 4. C. 114–121; Шахназарова М.Г. «Чтения в обществе истории и древностей российских» как историографический источник (1893–1918 гг.) // Вестник РГГУ. 2009. № 4. С. 133–145.] при Московском университете (с 1837 года – Императорское)[40 - Степанский А.Д. Первые исторические общества в России // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 204–208; Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 38–56.]. Важнейшим центром изучения отечественной истории остаются университеты и Академия наук (а также Российская Академия, вошедшая в ее состав в 1841 году) – помимо собственно российской истории темами занятий академиков и адъюнктов были также всеобщая история, археология, востоковедение, византинистика и исследования античности (в том числе на материалах Северного Причерноморья)[41 - Хартанович М.Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга XIX века. СПб., 2006; Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (ХVIII – середина ХIХ в.). СПб., 2002; Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. СПб, 2008 и др.]. Продолжается и расширяется выпуск специализированных серийных изданий по отечественной истории (включая публикацию источников, в частности «Полного собрания русских летописей», а впоследствии – и книжных серий П.И. Бартенева и А.С. Суворина)[42 - См.: Бакун Д.Н. Развитие библиографии исторических источников в России (XVIII – начало XX в.). М., 2006.].
Специальным изводом профессионального знания о прошлом в дореволюционной России оставались две отрасли, важнейшие для государственного и идейного строя Российской империи, – сферы военной и церковной историографии (последней посвящена в нашей монографии статья Н.К. Гаврюшина)[43 - Солнцев Н.И. «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение. Н. Новгород, 2010; Сухова Н.Ю. Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007. С. 143–171 и др.]. Обе они к тому же были и доменами особой, корпоративной памяти, которая находилась в ведении специальных учреждений (военного министерства, Генерального штаба или Священного синода и сети духовных академий). Однако к концу XIX века общий процесс распространения и демократизации знания о прошлом охватил и эти области, результатом чего стало возникновение Военно-исторического общества, открытие музея Суворова и увековечение важнейших сражений (от битвы на Куликовом поле до памяти о Русско-японской войне)[44 - Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962; Дьяков В.А. О возникновении, составе и деятельности Русского военно-исторического общества (1907–1917 гг.) // Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971. С. 275–288; Автократов А.В. Научно-издательская деятельность военно-исторических комиссий и военных исторических архивов дореволюционной России // Издание исторических документов в СССР. М., 1989. С. 129–152; Автократов В.Н. Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г.С. Габаева (1877–1956) // Советские архивы. 1990. № 1. С. 62–76; № 2. С. 61–78; Бориснев С.В. Деятельность Императорского русского военно-исторического общества. 1907–1917 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 5. С. 43–47.], а также развертывание работ по церковной археологии, сохранению и реставрации памятников[45 - Славина Т.А. Исследователи русского зодчества: Русская историко-архитектурная наука XVIII – начала XX в. Л., 1983; Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи, XIX век. М., 1986; Вздорнов Г.И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006; Тарасов О. Русская икона в Серебряном веке. Из истории Комитета попечительства о русской иконописи (1901–1918) // Искусствознание. 2010. № 3/4 С. 461–486.]. Все это касается другой важнейшей темы воссоздания прошлого – проблематики исторического сознания (и второго раздела нашей книги).
Отметим, что развитые представления о прошлом в допетровской Руси оставались достоянием узкого круга образованных людей и не имели еще секулярного характера, связанного с идеями общественного целого (а государственные, территориальные или этноязыковые начала или особенности тогда так или иначе трактовались через конфессиональную исключительность православного вероисповедания).
Необходимо иметь в виду, что в допетровский период какие-либо исторические сведения общенационального характера вообще были достоянием крайне ограниченной группы грамотных людей, но и их знания не отличались сколько-ни будь систематическим характером, поскольку даже русские летописи были им недоступны. Для элитарных слоев Московской Руси история сводилась по большей части к истории рода, имевшей утилитарное значение в плане определения места лица на социальной лестнице. Можно утверждать, что в русском обществе допетровского времени в принципе отсутствовало какое-либо целостное представление об истории собственной страны. Создание общенациональной истории было, таким образом, по существу вообще обретением Истории и воспринималось как часть процесса превращения России в «политичное» государство[46 - Каменский А.Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы: Препринт WP6/2007/04. М.: ГУ ВШЭ, 2007. С. 39.].
Глубина и травматичность произошедших в первой четверти XVIII века перемен и предопределили восприятие в последующем всего прошлого России (как «старой», так и «новой») прежде всего через оценку фигуры и наследия Петра Первого[47 - Плюханова М.Б. «Историческое» и «мифологическое» в ранних биографиях Петра I // Тартуский сборник. Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 78–119; Соловьёв Е.А. Пётр Великий и русская историческая мысль XIX – начала XX века // Отечественная история. 2006. № 4. С. 112–123. О легитимации через давнее прошлое и попытках его переописания см.: Рукавичникова В.В. Вадим Новгородский в русской историографии и литературе (Исторический факт и его интерпретация) // Русская литература. 2000. № 4. С. 73–83; Майофис М. Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины II «Начальное управление Олега» // Тартуские тетради / Р.Г. Лейбов (сост.). М., 2005. С. 253–260.]. Характерна в этом смысле популярность полулюбительского многотомного жизнеописания Петра, выполненного выходцем из купеческого сословия И.И. Голиковым (1735–1801), в первые десятилетия XIX столетия. В центре «Записки о древней и новой России» Карамзина, созданной для двора великой княгини Елены Павловны и оставшейся на десятилетия документом непубличным – а ради ее сочинения историк прервал работу над главным своим произведением, – оказывается наследие Петра. Для появления «Истории государства Российского» Карамзина были необходимы десятилетия собирательской и публикаторской деятельности И.Н. Новикова, работа единомышленников А.И. Мусина-Пушкина и позднее Н.П. Румянцева и его кружка[48 - Козлов В.П. Российская археография конца XVIII – первой четверти XIX века. М., 1999.]. Но для восприятия этого сочинения более широким кругом читателей (предмет исследования в статье В.С. Парсамова) были также необходимы своеобразная историзация сознания образованных слоев и рефлексия по поводу недавнего прошлого, закрепленная в дворянской памяти деятелей «золотого века» о событиях минувшего XVIII столетия – через призму войн с Наполеоном и заката царствования Александра I. В этой связи особенно показателен очерк Т.А. Сабуровой, которая, в частности, рассматривает уроки и модусы восприятия революционных событий во Франции и французских исторических сочинений российской образованной элитой[49 - Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика ХVIII – первой пол. XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М., 1997.]. Перемены в историческом сознании коснулись не только дворянского общества двух столиц, но и публики провинциальной[50 - Особая тема – исторические воззрения декабристов и либералов в 1810–1830-е годы, когда были заложены основы будущих столкновений западников и славянофилов и сформировался характер мировоззрения Герцена. См.: Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России. М., 1974; специально о редакторе «Колокола»: Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. 2-е изд., испр. М., 1984.]. И именно региональному измерению исторического сознания посвящен помещенный в монографии очерк В.В. Боярченкова.
Созданные в 1820–1830-е годы специальные исторические общества и комиссии связывали деятельность исследователей и ревнителей просвещения в разных частях империи (особенно важными здесь были вначале – в первой половине века – губернские статистические комитеты, а с 1884 года – и губернские археологические комиссии)[51 - Севастьянова А.А. Историография русской провинции второй половины XVIII в. (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 1. С. 134–142; Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М., 1998; Комарова И.И. Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических комитетов // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 85–96; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991; Писарькова Л.Ф. Губернские ученые архивные комиссии: организация, численность и условия деятельности // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 187–198; Зубова Н.Л. Архивно-просветительские организации в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 62–72.]. В.В. Боярченков (как и Н.Н. Родигина далее) подчеркивает разрозненность, весьма проблематичное единство усилий местных любителей старины и столичных историков, которые брали на себя функции обобщения и определения общей канвы для истолкования локального материала. Вообще регионализация отечественного исторического сознания – тема еще недостаточно изученная не только в связи с «федералистскими» устремлениями ряда историков начала эпохи Великих реформ[52 - Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20–70-х годов XIX века. СПб., 2005; о последующей эволюции региональной историографии см.: Аленова В.А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв. Рязань, 2002.], но и в двойной перспективе неравномерного географического распределения университетского образования в России и будущего роста изучения и постижения местного края уже в первые десятилетия ХХ столетия (предмет исследования М.В. Лоскутовой[53 - Лоскутова М.В. Академия наук и краеведческое движение первой четверти ХХ в. // Академия наук в истории культуры России в XVIII – ХХ вв. / Ж.И. Алфёров (отв. ред.). СПб., 2010. С. 645–677; Лоскутова М.В. Уездные ученые: самоорганизация научной общественности в российской провинции во второй половине XIX – первой трети XX в. // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 119–169; Лоскутова М.В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российский университетов второй половины XIX в.: постановка проблемы и предварительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала ХХ в. / А.Ю. Андреев (отв. сост.). М., 2009. С. 183–221; Loskutova M. A Motherland with a Radius of 300 Miles: Regional Identity in Russian Secondary and Post-Elementary Education from the Early Nineteenth Century to the War and Revolution // European Review of History. 2002. Vol. 9. No. 1. P. 7–22.]).
Рассматривая взаимодействие профессиональной науки и общественного сознания 1860-х годов, важно учитывать «левославянофильские» труды историка М.О. Кояловича, связанного с западно-русскими (белорусскими) землями и противостоянием там «польскому элементу»[54 - Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. С. 202–223.]. Коялович одним из первых сознательно и последовательно рассматривал развитие русской исторической науки как составную часть эволюции русского самосознания. Эту же идею, но с обратным идеологическим знаком (в русле либеральной трактовки эволюции «русского общества») проводил в «Главных течениях русской исторической мысли» в конце ХIХ века и Павел Милюков.
Наряду с публикацией обширного источникового материала важнейшую роль в развитии исторического сознания играли «толстые журналы» – литературно-публицистические ежемесячники и историческая периодика (предмет внимания Н.Н. Родигиной, особенно важный в плане отражения и представления региональной проблематики). С 1860-х годов появляется и специализированная историческая пресса (журналы «Русский архив» П. Бартенева и «Русская старина» М. Семевского)[55 - Дмитриев С.С. Дореволюционные исторические журналы // История СССР периода капитализма / С.С. Дмитриев, В.А. Фёдоров, В.И. Бовыкин (ред.). М., 1961. С. 171–190; Дмитриев С.С. Именословие русских исторических журналов // Русская литература. 1967. № 1. С. 73–83; Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики // Источниковедение отечественной истории (1975). М., 1976. С. 272–306; Зайцев А.Д. Пётр Иванович Бартенев и журнал «Русский архивъ». М., 2001; Порох В.И. Офицер, историк, издатель: Все о М.И. Семевском. Саратов, 2000; Железнева Т.В. Задачи, структура и тематика журнала «Исторический вестник» (1880–1904) // Историографические и источниковедческие проблемы истории СССР. М., 1987. С. 51–58; Кельнер В.Е. От «Древней и новой России» к «Историческому вестнику» (С.Н. Шубинский и становление исторических научно-популярных изданий в России в 1870-е гг.) // Книжное дело в России во второй половине ХIХ – начале XX в. Л., 1988. Вып. 3. С. 156–176; Костылёва Р.Д. Историк-популяризатор С.Н. Шубинский во главе «Исторического вестника». Уссурийск, 1989; Мохначёва М.П. С.Н. Шубинский и его сборник-журнал «Древняя и новая Россия» // Труды Историко-архивного института. Т. 33. М., 1996. С. 168–176; о последнем редакторе исторического вестника см.: Иванова Г.Г. Историк-публицист Б.Б. Глинский // Вопросы истории. 2008. № 4. С. 141–145.]. Уже в 1880-е годы круг исторических журналов и изданий пополняется не только за счет специализированной периодики (включая органы различных обществ и вплоть до общеведомственного «Журнала министерства народного просвещения»)[56 - Русская историческая периодика 1861–1917 гг. Материалы к библиографии / С.Н. Ущиповский (сост.). СПб., 1992; Поникарова Н.М. Школьные учебники по русской истории в оценках Журнала министерства народного просвещения // Преподавание истории в школе. 2004. № 9. С. 26–31.], но и путем расширения идеологического репертуара журналов, посвященных прошлому, как в правой части политического спектра, так и в особенности – в левой[57 - См.: Шумейко М.Ф. Материалы архива В.Я. Богучарского по истории журнала «Былое» («Минувшие годы») // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 276–284; Шумейко М.Ф. О выявлении и собирании документов революционного движения в России второй половины XIX – начала XX века (по материалам архива В.Я. Богучарского) // Археографический ежегодник за 1981 год. С. 178–187; Болотина А.В. В.Я. Богучарский по архивным материалам и в воспоминаниях современников // Страницы истории и историографии отечества. Вып. 3. Воронеж, 2001. С. 4–84; Лурье Ф.М. Хранители прошлого. Журнал «Былое»: История, редакторы, издатели. Л., 1990.].
Самым непосредственным способом государственной «обработки» исторического сознания стала деятельность цензурного ведомства[58 - Гринченко Н.А. История цензурных учреждений в России в первой половине ХIХ в. // Цензура в России. История и современность. Вып. 1. СПб., 2001. С. 15–46; Патрушева Н.Г. История цензурных учреждений в России во второй половине XIX – начале XX века // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века. Вып. 10. СПб., 2000. С. 7–48; Добровольский Л.М. Библиографический обзор дореволюционной и советской литературы по истории русской цензуры // Труды БАН СССР и фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. Т. V. М.; Л., 1961. С. 245–252; Патрушева Н.Г. Изучение истории цензуры второй половины XIX – начала ХХ века в 1960–1990-е гг.: Библиогр. обзор // НЛО. 1998. № 30. С. 425–438.], которая распространялась и на публикации по русской истории (наиболее громкими в этом смысле станут скандал с Осипом Бодянским и запрещение издания Флетчера в «Чтениях Общества истории и древностей российских»[59 - Боярченков В.В. С.Г. Строганов, С.С. Уваров и «история Флетчера» 1848 г. // Российская история. 2009. № 5. С. 144–150.]). Помимо общих регулирующих усилий этого ведомства, очерченных в статье И.М. Чирсковой, контроль распространялся и на академическую деятельность, в частности на специальные изыскания петербургской Археографической комиссии[60 - Хартанович М.Ф. Императорская Археографическая комиссия и сеть археографических учреждений в России XIX в. // Академия наук в истории культуры XVIII–XIX вв. СПб., 2010. С. 268–311.]. Запрещая и изымая «нелегитимную» информацию о прошлом, цензура своеобразным путем тоже участвовала в процессе формирования исторических представлений и социальной памяти российского общества.
Даже после революции 1905 года и либерализации законодательства о печати власти пытались регулировать историческую память либо прямым вмешательством и попыткой судебного преследования радикальных критиков (как в случае издания «Русской истории» М.Н. Покровским)[61 - «Дерзостное неуважение Верховной власти». Материалы судебного процесса по делу об уничтожении 5-й книги М.Н. Покровского «Русская история с древнейших времен», 1912–1913 гг. / публ. подгот. Ю.В. Варфоломеев, А.А. Чернобаев // Исторический архив. 2011. № 2. С. 165–182.], либо через формирование благоприятной для правительства идейной среды и деятельность особых информационных служб (во главе одного из таких подразделений стоял историк армии К.А. Военский (1860–1928)[62 - Летенков Э.В. К истории правительственных информационных центров в России (1906–1917 гг.) // Вестник Ленинградского университета. Серия: История, язык, литература. 1973. Вып. 4. № 20. С. 80–88.]).
Развитие и усложнение российского исторического сознания второй половины XIX столетия было невозможно без задействования специализированных структур сохранения и воспроизводства памяти о прошлом – мы имеем в виду архивную отрасль, сферу археологических изысканий и консервации, а также выставочно-музейную деятельность. Эти последние области стали предметом содержательного очерка А.В. Топычканова, который проследил эволюцию разных моделей охраны памятников, указав на возрастание роли и значимости на протяжении XIX века материального «остатка» прошлого, включая его эстетическое содержание. В перспективе истории понятий особенно интересно обратить внимание на непривычно широкое для ХХ века употребление в предыдущем столетии слова «археология». Богатый материал для сопоставительного анализа в плане истории специализированных отраслей исторической науки дают программы Археологического института (открытого в Санкт-Петербурге в 1878 году) и обширные материалы дискуссий на археологических съездах, где немалую роль играли споры об охране памятников в самом широком смысле, включая архивные, а не только материальные данные[63 - Бржостовская Н.В. Вопросы архивного дела на археологических съездах в России, 1869–1911 гг. // Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972. С. 89–105; Размустова Т.О. Губернские ученые архивные комиссии и изучение памятников археологии в дореволюционной России // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1990. С. 89–104.]. Именно на II Археологическом съезде Н.В. Калачов впервые предложил программу централизации архивной отрасли. Плодом его усилий стал не только Археологический институт в Петербурге, но и появление сети специальных губернских архивных комиссий – после 1884 года[64 - Шведова О.И. Указатель «Трудов» губернских ученых архивных комиссий и отдельных их изданий // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 377–433; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991.]. А на XI Археологическом съезде в Киеве в 1899 году по докладу Д.Я. Самоквасова развернулась дискуссия, очень важная в плане будущей организации архивного управления и профессиональной консолидации (в первую очередь вокруг Союза архивных деятелей и академика А.С. Лаппо-Данилевского)[65 - Самоквасов Д.Я. Проект архивной реформы и современное состояние окончательных архивов в России. М., 1902; Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.]. Следующая глава этой истории начнется в 1918 году, когда в Петрограде при активном участии и немалой поддержке большинства ученых «старой школы» будет создан Центрархив.
С середины XIX века историки стали заниматься не просто организацией экспедиций, обработкой результатов полевых изысканий, изучением коллекций или общим «попечением» над развитием музейной и особенно архивной областей; они взялись за выработку теоретических основ сбережения, отбора и публичного представления ценных свидетельств прошлого (в первую очередь в рамках общей модели музеефикации «подлинных» памятников). Рост просвещения, в том числе исторического, учреждение (после 1863 года) университетских кафедр по истории искусства, профессионализация церковной археологии, работа археологических институтов в Петербурге и Москве и особенно капитальные труды таких крупных ученых, как Никодим Павлович Кондаков (и его последователей), Николай Петрович Лихачёв, Дмитрий Власьевич Айналов и Егор Кузьмич Редин, – все эти факторы существенно обогатили представления тогдашнего образованного общества о русском художественном наследии и повлияли на общий характер восприятия российского прошлого во второй половине XIX века[66 - Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. Гл. 8. Академическая и университетская наука. С. 210–276.]. Эпоха любителей и энтузиастов, «палеографов» постепенно уходила в прошлое. Однако «академизация» не была и не могла быть окончательной; помимо этой экспертной прослойки в России тогда расширялась и укреплялась за счет формальных институций и неформальных отношений связанная с учеными среда профессионалов, работающих с наследием практически, – реставраторов, живописцев, архитекторов, критиков (особенно стоит отметить тут фигуру И.Э. Грабаря). Многие из них занимались не только прошлым, но даже в большей степени современными художественными практиками и течениями (например, адепты неорусского или византийского стилей, очеркисты и обозреватели, авторы популярных музейных путеводителей, травелогов и т. д.).
Возвращаясь к политической ангажированности занятий минувшим, особенно важно подчеркнуть не только очевидные расхождения и полярность левой и правой историографических традиций дореволюционной России, но и некоторые важные структурные сходства[67 - См. более общие рассуждения О.Б. Леонтьевой: Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала ХХ в. Самара, 2011 (она рассматривает весьма детально историческое «воображаемое» пореформенной эпохи – от представлений о старообрядчестве до образов Ивана Грозного и Петра Великого).]. Представители как правой, так и левой общественности обращались к российской истории как к важному средству легитимации и утверждения своих базовых постулатов (включая юбилеи и различные торжества) – с характерным выбором фигур-протагонистов и антагонистов, Сусанина[68 - Киселёва Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) //Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997; Живов В.М. Сусанин и Пётр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65; Велижев М., Лавринович М. «Сусанинский миф»: становление канона // Там же. 2003. № 63.] или Пестеля, Чернышевского[69 - Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890–1917 гг. М., 1982; Критский Ю.М. Вопросы истории русской общественной мысли и революционного движения в России XVIII – начала XX века в журнале «Голос минувшего» в 1913–1923 гг. // Исторические записки. 1972. М., 1973. С. 78–106.] или Суворова. Публикуемая в монографии статья В. Каплан особенно интересна тем, что обращается к пока недостаточно изученной – и, как показывает автор, внутренне противоречивой – консервативной пропаганде массового исторического знания[70 - См. также: Urban Vera. Geschichte als Argument?: Politische Kommunikation russischer Konservativer in der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 2009; Urban V. «Geschichte» in der politischen Kommunikation konservativer Eliten im Zarenreich, 1860–1890 // Jenseits der Zarenmacht: Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800–1917 // W. Sperling (Hg.). Frankfurt am Main, 2008. S. 100–123.]. Начало ХХ века оказалось временем роста интереса к «своему» прошлому в левых кругах и в среде широкой «интеллигентской» общественности – от умеренных до радикалов[71 - Будницкий О.В. История «Народной воли» в идейной борьбе первой российской революции // Революционеры и либералы в России. М., 1990. С. 271–292; Плеханов Г.В. Предисловие к книге А. Туна «История революционного движения в России» // Тун А. История революционного движения в России. Женева, 1903. С. III–XLVII.]. Тут не только стоит отметить труды профессиональных историков или, напротив, политиков либо публицистов, пишущих на исторические темы (достаточно указать на занятия историей русской общественной мысли Р.В. Иванова-Разумника и Г.В. Плеханова[72 - Комиссарова Л.И., Ольховский Е.Р. У истоков марксистской исторической мысли в России. М., 1986. См. также: Пронина М.В. К вопросу создания Г.В. Плехановым книги «История русской общественной мысли» // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX в.: Сб. науч. тр. Вып. 9. СПб., 1998. С. 106–119.]), но и обратить внимание на становление в 1900–1910-е годы специфического слоя неакадемических историков, часть которых в будущем образует костяк советской историографии (от Б. Сыромятникова и В. Пичеты до М. Покровского и В. Волгина)[73 - Здесь важно не упустить из виду деятельность таких радикальных организаций, как Общество распространения технических знаний (его Учебного отдела), и энергичных внеакадемических историков – издателей и редакторов, вроде В. Каллаша, Д. Рязанова и др.: Гуковский А.И. Как создавалась «Русская история с древнейших времен» М.Н. Покровского // Вопросы истории. 1968. № 8. С. 122–132; № 9. С. 130–142; Rojahn J. Aus der Fr?hzeit der Marx-Engels-Forschung: Rjazanovs Studien in den Jahren 1907–1917 im Licht seiner Briefwechsel im IISG // MEGA-Studien. 1996. Bd. 1. S. 3–65.]. При этом сознание многомиллионной крестьянской массы менялось довольно медленно и едва ли было в полном смысле слова «исторично» (хотя, на наш взгляд, не стоит представлять его базисную структуру в виде некоего по сути неподвижного инварианта)[74 - См.: Чагин Г.Н. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX в. Пермь, 1999; Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992; Буганов А.В. Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX – начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 12. С. 120–127.].
Завершающий раздел книги посвящен историческому воображению – теме, для нашей историографии все еще малоизведанной. Открывается раздел обширной статьей Е.А. Вишленковой, посвященной исторической живописи и «наглядным» представлениям о прошлом первой половины XIX века. Эта тема рассматривается в более широком контексте эволюции визуальной культуры Российской империи и канонов представления (изображения) национального начала в искусстве (в соотношении с классическими образцами).
Парадоксально, но такое благодатное поле перспективных исследований, как отражение русской истории в русской литературе в XIX – начале ХХ веков оказывается при ближайшем рассмотрении едва возделанным[75 - Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968; Формозов А. Историзм русской литературы (рец. на кн.: Л.В. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968) // Новый мир. 1969. № 4. С. 267–271; Серман И.З. Ключевский и русская литература // Canadian-American Slavic Studies. 1986. Vol. 20. No. 3–4. P. 417–436.]. Даже классические произведения, от «Марфы Посадницы» Карамзина и «Истории пугачевского бунта» Пушкина[76 - Серман И.З. Пушкин и русская историческая драма 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. Л., 1969. С. 118–149; Серман И.З. Ключевский и русская литература; Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949; Эйдельман Н.Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984; Осповат А. Исторический материал и исторические аллюзии в «Капитанской дочке»: статья первая // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые-Седьмые-Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 40–67.] до «Войны и мира» и драматической трилогии А.К. Толстого[77 - См. обширную статью академика Нестора Котляревского: Котляревский Н. Трилогия А.К. Толстого как национальная трагедия // Котляревский Н. Старинные портреты. СПб., 1907. С. 273–416.], не получили сколь-либо систематического общего освещения в филологической литературе и явно недостаточно изучаются историками. Публикуемая в монографии статья Е.Н. Пенской – одна из немногих попыток такого рода синтеза, который не может не быть выборочным. Стоит указать лишь на некоторые потенциальные сюжеты: важность регионального (и шире – национального) нарратива внутри общего исторического повествования в отечественной литературе (например, произведения Н.И. Костомарова и П.А. Кулиша), нередкое сочетание в авторском мировоззрении и стиле подходов ученого и беллетриста, формирование новых горизонтов исторического письма в рамках культуры Серебряного века, в первую очередь у Мережковского (с его изображением событий начала XIX века, например, спорил Кизеветтер)[78 - Юхименко Е.М. Старообрядческие источники романа Д.С. Мережковского «Пётр и Алексей» // De visu. 1994. № 3/4. С. 47–59; Берлин П. Александр I и декабристы в искажении Д. Мережковского // Новый журнал для всех. 1913. № 4. Стлб. 169–172; Садовский Б. Оклеветанные тени (О романе Д.С. Мережковского «Александр I») // Северные записки. 1913. № 1. С. 115–119; Корнилов А. Исторический роман Д. Мережковского «Александр I» // Современник. 1913. № 11. С. 184–200; Мельгунов С.П. Роман Мережковского «Александр I» // Голос минувшего. 1914. № 12. С. 39–80 (часть отзывов представлена также в недавнем сборнике: Д.С. Мережковский: Pro et contra. СПб., 2001).]. Для адекватной реконструкции темы исторического воображения не обойтись без детального и исторически варьирующегося анализа фигуры реципиента, потребителя исторических текстов и формул самого разного жанра[79 - Только мимоходом упомянем исследования Р. Тарускина и К. Эмерсон об истории в российском оперном искусстве (от Бородина до Чайковского и Мусоргского): Taruskin R. The Present in the Past: Russian Opera and Russian Historiography, ca. 1870 // Taruskin R. Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue. Princeton, 1993. Р. 123–200; Emerson C., Oldani R.W. Modest Musorgsky and Boris Godunov: Myths, Realities, Reconsiderations. Cambridge, 1994.] – в спектре от «имперского» читателя или слушателя, зрителя до революционно ориентированного «сознательного» рабочего или интеллигента (тут явно прослеживается связь с тематикой статьи В. Парсамова, посвященной первым десятилетиям XIX века)[80 - Об исторической драматургии см. цикл работ самарского филолога В.А. Бочкарёва (Бочкарёв В.А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. М., 1988 и др.); Дотцауэр М.Ф. К вопросу об исторических источниках драматической трилогии А.К. Толстого // Ученые записки Саратовского гос. пед. ин-та. Вып. 12. Саратов, 1948. С. 29–52; Виролайнен М.Н. Историческая драматургия 50–70-х годов // История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало XX века. Л., 1987. С. 309–335; Ростоцкий Б., Чушкин П. «Царь Фёдор Иоаннович» на сцене МХАТа. М.; Л., 1940.].
В то же время на полюсе популярного исторического сознания (начиная, пожалуй, с юбилея тысячелетия России) постепенно кристаллизуются основные структуры и модусы идеологической мобилизации истории (рассмотренные в частности, в статье К.Н. Цимбаева, который на материале XIX века выделяет основные ритуальные и «консолидационные» черты юбилеев, при последовательно проводимой выключенности из торжеств «низших классов» общества). Как продолжение сюжета о юбилейной мобилизации можно читать статью С.А. Еремеевой о монументальных практиках коммеморации[81 - См. также: Антощенко А.В. Увековечивая в бронзе: правительственный замысел памятника «Тысячелетию России» и его воплощение // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М., 2005. С. 396–418.]. Она особенно подробно останавливается на «квазиобщественной» составляющей монументостроительства, связанной с почитанием в XIX веке – при самом ближайшем участии верховной власти – памяти великих писателей прошлого от Ломоносова до Пушкина[82 - Стоит в этой связи особенно подчеркнуть растущую «субъективацию», персонализацию отечественной культурной памяти и исторического сознания интеллигенции, особенно по мере роста богатства и сложности русской литературной культуры (что не отменяло, а порой парадоксально усиливало коллективистские инспирации); см.: Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 68–88 (о выражении «память сердца»); Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1859–1990-е годы) // Там же. 2010. № 103. С. 41–66.].
В известном смысле сама художественная пропаганда на материале прошлого, которая вполне сложится уже в ходе Первой мировой войны и будет обращена к максимально широким общественным слоям[83 - См.: Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; L., 1995.], закладывала основы ранней советской исторической культуры (в которой был так велик художественный, особенно авангардный, элемент). И в области профессиональной исторической науки уже в 1920-е годы стал задействоваться объяснительный потенциал и подходы, накопленные оппозиционной – народнической, эсеровской и социал-демократической – историографией еще до революции[84 - Особую роль в формировании новой исторической культуры сыграло и либеральное крыло историографии и публицистики начала ХХ века (Г. Джаншиев, И. Иванюков, А. Корнилов и др.), разумеется, весьма далекое от взглядов социал-демократов или М. Покровского.]. Вместе с историческим сознанием революционного плана (центрированном на «освободительном движении» и классовой борьбе) и леворадикальным историческим воображением[85 - Corney F.C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca, 2004.], такая наука станет одним из оснований советской исторической культуры. Но там будут работать совсем иные модусы профессионализма в соотнесении с массовым историческим просвещением и самосознанием (от книг Покровского и Каутского до «Краткого курса» истории ВКП(б) и сочинений Б.Д. Грекова и М.В. Нечкиной). Это уже будут механизмы выработки совсем другого – хотя также вполне нашего – прошлого, призванные либо вовсе перечеркнуть, либо в корне видоизменить очень схематично рассмотренную нами двухвековую традицию.
Раздел I
Историческое знание
А.Б. Каменский
У истоков русской исторической науки: Г.Ф. Миллер
Примерно с середины XIX века, когда русскими историками были сделаны первые попытки осмыслить накопленный опыт в изучении отечественной истории, сложилось представление о возникновении исторической науки в России в начале XVIII века, т. е. тогда же, когда в ходе петровских преобразований наука вообще впервые появляется как самостоятельная сфера человеческой деятельности, и с основанием в 1725 году Петербургской академии наук приобретает институциональный характер. За своего рода точку отсчета была взята деятельность В.Н. Татищева, которого принято считать первым русским ученым-историком. Подобные представления об истории русской исторической науки преобладали и в советское время, хотя уже на его излете были сделаны попытки связать ее начало с именами живших во второй половине XVII века Андрея Лызлова, Игнатия Римского-Корсакова и др.[86 - См.: Чистякова Е.П., Богданов А.П. «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о русских историках второй воловины XVII века и их трудах. М., 1988; Богданов А.П. Летописец и историк конца XVII века: Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994.] В наши дни, однако, многие исследователи, работающие в рамках науковедческих подходов, придерживаются точки зрения, согласно которой «становление истории как полноценной науки» в современном ее понимании не только в России, но и в мире в целом происходит не ранее середины – конца XIX столетия «одновременно с выделением общественных наук как самостоятельного типа знания, дифференцированного от естествознания». В это время утверждаются общественные науки «с собственными предметными областями» (психология, социология, антропология, политология, экономика) и одновременно происходит «возведение истории в ранг науки»[87 - Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 292–295; Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М., 2008. С. 21.]. Одним из важнейших признаков появления истории как науки считается учреждение в университетах исторических факультетов и специальных кафедр, осуществляющих профессиональное образование историков. В связи с этим сегодня исследователи осторожно говорят о XVIII веке как о времени перехода «от накопления исторических знаний к научному освоению исторического материала», отличающемуся «от предшествующего более научным подходом к истории»[88 - Дворниченко А.Ю. О периодизации и содержании курса русской историографии // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2005. Вып. 4. С. 32. Выражение «более научный подход» вряд ли можно признать удачным: подход может быть либо научным, либо ненаучным.].
Вполне очевидно, что за этими разногласиями стоит различное понимание существа науки и ее отличия от иных форм знаний о прошлом. Столь же очевидно и то, что становление исторической науки – это длительный процесс, связанный с формированием научных представлений о прошлом и выработкой научных методов его изучения. Создание исторического факультета университета, несомненно, знаменует собой важнейший этап этого процесса, однако очевидно, что его невозможно открыть, если там некому преподавать, но что еще важнее, к моменту его открытия должно сложиться понимание того, что преподавать, т. е. что такое профессиональное образование историка. Сама идея создания исторического факультета не может возникнуть без представления об истории как самостоятельной науке, о ее объекте и предмете, ее методе, без сложившихся исследовательских практик[89 - Характерный пример интерпретации истории исторической науки. Автор диссертации по истории судебной реформы начала XVIII века отмечает: «Историография поставленного вопроса ведет свое начало с середины XIX столетия – времени, когда российская историческая наука получила свои кафедры в главных университетах Российской империи. Если первая половина века оказалась периодом складывания исторической науки, когда начал формироваться общий взгляд на историю России, то его вторая половина дала возможность подойти к вопросам государственного устройства…» (Бородина Е.В. Проведение судебной реформы в 20-х гг. XVIII в. на Урале и в Западной Сибири: автореф. дис… канд. ист. наук. Челябинск, 2008. С. 9).]. Представляется, что окончательное разделение истории и естествознания, а также выделение иных социальных наук можно рассматривать как завершающий этап процесса превращения истории в полноценную науку, истоки которого применительно к России все же вполне оправданно искать в середине XVIII века.
Те исследователи, кто связывал зарождение русской исторической науки с деятельностью Татищева и других его современников, совершенно справедливо отмечали, что именно этим писателям принадлежат первые авторские труды по русской истории, имеющие признаки научной работы, поскольку в отличие от предшествующей летописной традиции эти труды были основаны на изучении и сравнительном критическом анализе различных исторических источников. С этой точки зрения, достаточно очевиден и вклад в начало научного изучения русской истории Герарда Фридриха Миллера (1705–1783). Ему не только принадлежат первые в историографии труды по целому ряду проблем отечественной истории, давшим точку отсчета нескольким важнейшим, продолжающим существовать и поныне научным направлениям. Весьма значительной была его роль и в расширении источниковой базы исторических исследований за счет привлечения делопроизводственных и актовых документов, а также источников иностранного происхождения. Собственно, именно Миллер был первым исследователем, кто, обратившись с научными целями к архивным документам, занялся их систематическим изучением. Само слово «источник» в современном значении было впервые употреблено именно в его трудах[90 - См.: Илизаров С.С. О формировании термина «исторический источник» в русской научной литературе XVIII в. // Источниковедение отечественной истории. 1984. М., 1986. С. 201–202.]. Хорошо известна и роль ученого, ратовавшего за создание исторического департамента Академии наук и первым получившего звание российского историографа, в институциональном становлении исторической науки в России, а также в распространении знаний по русской истории как внутри страны, так и за рубежом[91 - См. подробнее: Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 374–415.].
Однако наука не сводится лишь к содержательной части знания и даже к научно обоснованным методам. Наука – это еще и определенные, принятые научным сообществом практики, формы представления и распространения результатов исследования, их апробации и оценки в соответствии с определенными критериями – формальными либо неформальными, но также принятыми коллегами по цеху. Именно с этой точки зрения в данной статье и предлагается взглянуть на деятельность Миллера и его вклад в становление российской исторической науки. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению этой темы, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
Коллектив авторов
В книге описывается многостороннее развитие базовых представлений о прошлом своей страны и Европы в Российской империи второй половины XVIII – начала ХХ века. В отличие от традиционного историографического рассмотрения, сосредоточенного только на эволюции академической науки, авторы исходили из более комплексного подхода, основанного на реконструкции ключевых понятий и механизмов исторической культуры страны (включая сферу образования, деятельность церкви и духовных школ, музеев, исторических обществ и археографических учреждений, региональных сообществ и т.д.). Изучение исторического знания органично дополняется развернутыми очерками об эволюции исторического сознания (с учетом его рецептивных и творческих компонентов), а также о динамике исторического воображения (в русском искусстве и литературе XVIII–IX веков).
Монография подготовлена к юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ И.М. Савельевой.
Текст монографии подготовлен в ходе реализации проекта «Формирование дисциплинарного поля в социальных и гуманитарных науках в XIX–XXI вв.», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 году.
Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом
Коллективная монография в честь профессора И. М. Савельевой
Предисловие
Коллективная монография, посвященная основным формам и институтам «переработки прошлого» в императорской России, стала результатом общих усилий исторической «команды» Института гуманитарных историко-теоретических исследований. Нам особенно важно отметить, что к ее замыслу и первым обсуждениям состава и содержания был непосредственно причастен Андрей Владимирович Полетаев (1952–2010) – один из основателей ИГИТИ, ныне носящего его имя. Решающую роль в подготовке сборника на начальных стадиях его формирования сыграл декан факультета истории НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник ИГИТИ профессор Александр Борисович Каменский.
Эта книга посвящается юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ Ирины Максимовны Савельевой. Для членов авторского коллектива ее работы были и остаются ориентиром в области теоретического осмысления как наших собственных исследований, так и базовых характеристик того поля, в котором мы работаем как ученые. Изучение исторического сознания, исторической культуры, взаимосвязей и сложной эволюции представлений о прошлом в самых разных обществах и на всех континентах теперь неотделимо от ее вклада, системного мышления и характерного исследовательского почерка. Нам особенно отрадно отметить, что в ее работах (как и, мы надеемся, на страницах этой коллективной монографии) преодолевается привычное разделение исторической профессии на специализации по русской или зарубежной истории, со своими часто неотрефлексированными ограничениями и односторонностями. Национальную науку или историческое сознание – будь то в Германии позапрошлого века, в Америке или в нынешней России – профессор Савельева неизменно рассматривает и оценивает в широком международном контексте. То, что изучение своего прошлого оказывается особенно пристальным и многосторонним именно в свете уроков европейского и мирового опыта, всегда было для нее аксиомой.
Бесспорный научный авторитет Ирины Максимовны счастливо дополняется ее организаторскими заслугами, но главное – непрестанными усилиями по поддержанию качества и стиля работы нашего исторического и гуманитарного цеха. Во всем этом сказывается ее эрудиция и вкус к теории, редкое сочетание благожелательного внимания к чужому мнению и бескомпромиссного следования собственному видению и приоритетам в науке. Все эти характеристики – вовсе не дань юбилейной риторике или дежурные похвалы начальству (ибо работать с Ириной Максимовной интересно и ответственно, а не просто приятно). Скорее празднование юбилея – важный повод сказать то, что остается фоном разнообразных научных дел и хлопот, конференционных дискуссий, деловых или житейских бесед, но вслух произносится весьма редко. Мы, как и раньше, с нетерпением ждем новых статей и книг Ирины Максимовны, продолжения споров и общения и уверены в многолетней дальнейшей работе по сов местному постижению прошлого, которое никогда не бывает утраченным без остатка.
Введение
А.Н. Дмитриев
Прошлое нашего прошлого: проблематика исторической культуры в Российской империи
Историческая культура – понятие относительно новое, устойчиво вошедшее в лексикон гуманитариев только в последние десятилетия. Между тем сам феномен сложного и иерархического единства представлений о прошлом, аккумулируемых и транслируемых в коллективном опыте человечества, едва ли не так же древен, как письменные практики первых цивилизаций. 1980–2000-е годы стали временем подлинного бума «исторической памяти» – количество публикаций, связанных с этой темой и сопутствующими категориями прибавляется в каждой стране практически ежемесячно, если не ежедневно. Внимание и интерес к сюжетам прошлого, актуально присутствующим в жизни того или иного современного сообщества, обычно сосредоточены на «горячих» и спорных сегодняшних проблемах (в разных регионах мира связанных более всего с наследием Второй мировой войны или расовой сегрегацией и колониальным прошлым, а кроме того и с памятью о минувшей эпохе «реального социализма»). В отличие от публицистов и журналистов ученые с самого начала вели речь и о более широком хронологическом понимании проблематики исторической памяти – о составе и операциональных блоках, тех или иных когнитивных и идеологических модусах понимания истории уже не только «здесь и сейчас», но и в самых разных обществах и цивилизациях, включая давно исчезнувшие[1 - Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М., 2005. С. 170–220; Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб., 2003; Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна: пер. с англ. СПб., 2004.]. И понятие «историческая культура», учитывающее немецкий послевоенный опыт «переработки прошлого», как раз и способствовало переосмыслению новейших стереотипов или уже опробованных историографических канонов. Перед историками разных школ и поколений встает задача показать эволюцию «высокой» исторической традиции и академической науки на фоне изменчивого неспециализированного знания о прошлом, осмыслить взаимосвязи многообразных исторически контекстуальных форм и практик присвоения и освоения минувшего[2 - Cм. одну из первых серьезных попыток использовать категорию исторической культуры: Guene?e B. Histoire et culture historique dans l'occident Me?die?val. Paris, 1980 (Пер. на рус. яз.: Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002).].
Очень большую роль в обновлении критических представлений о формах и способах присутствия истории в европейском (по преимуществу) культурном и политическом сознании сыграли работы, представленные в известном сборнике под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Ренджера «Изобретение традиций» (1983)[3 - The Invention of Tradition / E.J. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge, 1983.]. «Удревнению» проблематики памяти и расширению употребления понятия «коммуникации» в сфере исторических исследований способствовал цикл трудов Яна и Аллейды Ассман[4 - Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik M?nchen, 2006. См. также: Holtorf C. Geschichtskultur in ur– und fr?hgeschichtlichen Kulturen Europas // Der Ursprung der Geschichte / J. Assmann, K.E. M?ller (Hg.). Stuttgart, 2005. S. 87–111, 292–300; Fischer T.E. Geschichte der Geschichtskultur. ?ber den ?ffentlichen Gebrauch der Vergangenheit von den antiken Hochkulturen bis zur Gegenwart. K?ln, 2000.]. Все эти перемены повлияли на представления о характере и структурах исторического сознания. Бывшее ранее (особенно в отечественном обиходе) категорией преимущественно социально-философской, теперь оно стало употребляться в более тесной связи с проблематикой историописания (в том числе взятого и в более обширной перспективе – от локального до национально-государственного и общерегионального, вплоть до глобальных масштабов)[5 - Ср.: Левада Ю. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 186–224; Барг М. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987; Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. М., 1998. См. важный обощающий труд: Erinnerung, Ged?chtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Ged?chtnisforschung / G. Oesterle (Hg.). G?ttingen, 2005.]. Понятие «историческая культура» в отличие от всеохватного исторического сознания акцентирует как раз институциональный и рефлексивный, сознательно направляемый («культивируемый») аспект представлений о прошлом. Недаром, особенно в современной немецкой традиции, проблематика исторической культуры обсуждается в прямой связи с вопросами не только идеологии, но и культурной политики, политики образования, и даже школьной дидактики[6 - Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik / B. M?tter, B. Sch?nemann, U. Uffelmann (Hg.). Weinheim, 2000.].
Понятие исторической культуры охватывает многообразные отношения между профессиональной историографией и более обширной сферой общественных представлений об истории (историческим сознанием) в разные эпохи и периоды[7 - R?sen J. Was ist Geschichtskultur? ?berlegungen zu einer neuen Art, ?ber Geschichte nachzudenken // Historische Faszination. Geschichtskultur heute / J. R?sen, T. Gr?tter, K. F??mann (Hg.). K?ln u.a., 1994. S. 3–26; Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture, 1500–1730. Oxford, 2003.]. Притом характер этих взаимодействий понимается не как однонаправленный процесс продвижения от сознания «вообще» к науке – исключительно в плоскости академизации и критического пересмотра повседневных, массовых или обыденных представлений о прошлом. Пространство исторической культуры начиная с XIX века также непременно включало в себя и сферу обратных связей – область популяризации, распространения и переприсвоения, своеобразного «низового» переписывания истории, транслируемой «сверху» (точнее из политического, идеологического или символического центра, столицы, университета и т. д.). Кроме того, в зазоре между профессиональной историографией и историческим сознанием общества располагается и деятельность многочисленных исторических, археологических, краеведческих и этнографических обществ, а также полулюбительских общественных объединений и организаций, связанных с изучением прошлого. И, разумеется, сама сфера исторического знания в том или ином обществе будет заведомо шире, чем область академической исторической науки в этой же стране или регионе.
В отечественной науке представления об исторической культуре, ее составе и специфике начали складываться также относительно недавно (особенно важную роль тут играют коллективные начинания, связанные с оформлением интеллектуальной истории как особой субдисциплины и деятельность Российского общества интеллектуальной истории во главе с Л.П. Репиной)[8 - Репина Л.П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 5–18.]. Интересно обратить внимание на то, что пока большинство российских работ по проблематике исторической культуры (и круг авторов, эксплицитно это понятие использующих) связаны преимущественно с зарубежной тематикой и прошлым скорее «иных» стран, нежели России[9 - Уваров П.Ю. Россия в роли «великой историографической державы» // Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М., 2010. C. 121–139; Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое литературное обозрение. 2004. № 2 (66). С. 68–87.].
Разумеется, наше исследование, выполненное коллективом авторов в форме очерков, не является первооткрывательским – оно связано с богатым опытом изучения истории исторической науки в нашей стране, где уже давно сложились устойчивые историографические жанры и традиции (особенно отметим такие противоположные по заданию и замыслу капитальные сочинения, как «Главные течения русской исторической мысли» (1897) Павла Милюкова и уже советскую «Русскую историографию» (1941) Николая Рубинштейна[10 - См. обширную вступительную статью: Мандрик М.В. Николай Леонидович Рубинштейн: Очерк жизни и творчества // Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб., 2008.]). Вместе с тем замысел книги – принципиально иной, чем очередная ревизия или даже расширение привычной историографической работы. Для нас особенно важно представить академическую или университетскую науку о прошлом в контексте различных других форм общественного сознания, связанного с историей (от гимназического образования до живописи или романистики). Кроме того, «отчуждающий», неканонический взгляд на профессиональное изучение прошлого – с точки зрения его организационных условий, техник выработки или форм культурного бытования исторического знания – был значим для нас именно желанием выйти за пределы стандартной внутрицеховой оптики. Ведь в историографических текстах вне зависимости от симпатий или пристрастий их авторов приоритет до сих пор безусловно принадлежит нарративу кумулятивного и внутренне беспроблемного накопления знания. При этом общепризнанный и очевидный факт борьбы и соперничества разных школ и направлений все равно включается в конечном счете в картину пополнения, пересмотра и уточнения общего и устоявшегося корпуса сведений о прошлом[11 - См.: Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977; Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986; Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003; Брачёв В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001 и др.].
Задача предлагаемого сборника существенно отлична от очередной реализации этого имплицитного императива. Авторы книги стремились проследить разные, порой несхожие пути формирования исторической культуры, а также способы и формы приращения, упорядочения и регламентации исторического знания в императорской России. Акцент сознательно будет сделан на проблематику XIX столетия, когда и научные, и «корпоративные» (дворянские и официально-государственные), а также массовые представления о прошлом достигли уже достаточно зрелого и отрефлексированного состояния и уровня. Однако опирались эти представления на давний фундамент исторических образов и знаний о минувшем в средневековой Руси, весьма существенно ревизованных во времена Петра Первого и в последующие десятилетия[12 - См., в частности: Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.]. В то же время базовые исторические схемы Московского царства (преемственности династической власти Рюриковичей, трансляции киевского наследия через Владимиро-Суздальские земли) воспроизводились и в исторических сочинениях XVIII века[13 - Базовыми текстами здесь была Степенная книга XVI века, сохранявшая значимость как памятник и источник исторических представлений и в XVIII столетии, а также многократно переиздававшийся «Синопсис» Иннокентия Гизеля. См.: Сиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010 (особенно гл. 8 об официальных исторических сочинениях петровского времени, с. 334–385); Формозов А.А. Феномен «Синопсиса» // Формозов А.А. Человек и наука: из записей археолога. М., 2005. С. 127–146; о церковной переоценке роли Киева см.: Опарина Т.А. Москва как новый Киев, или Где же произошло Крещение Руси: взгляд из первой половины XVII века // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 635–663.], а затем легли в основу научной историографии последовавших столетий, вплоть до общих курсов Ключевского, Покровского и школьных учебников.
Первый раздел нашей книги посвящен проблематике исторического знания в императорской России.
Понимание прошлого в древней и допетровской Руси в последнее время стало предметом пристального внимания историков (В.М. Живова, И.Н. Данилевского, А.Л. Юрганова, К.Ю. Ерусалимского), отмечавших своеобразие и поэтику летописного текста и характер переосмысления восточнославянскими авторами библейского сказания применительно к событиям и обстоятельствам своего прошлого[14 - См. только некоторые работы из весьма обширного списка: Живов В.М. Два пространства русского Средневековья и их позднейшие метаморфозы // Отечественные записки. 2004. № 5(20). С. 8–27; Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001; Успенский Б.А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000; Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995; Ранчин А.М. Киевская Русь в русской историософии XIV–XVII веков (некоторые наблюдения) // Ранчин А.М. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 221–232; Ерусалимский К.Ю. Понятие «история» в русском историописании XVI века // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени / Л.П. Репина (отв. ред.). М., 2003. С. 365–401; Ерусалимский К.Ю. Прочтение Ренессанса историографией барокко: сборник Курбского в исторической культуре России конца XVII – начала XVIII века // Человек в культуре русского барокко. М., 2007. С. 386–408; Усачёв А.С. Древнейший период русской истории в исторической памяти эпохи Московского царства (на материале «Книги степенной царского родословия») // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. С. 609–634; Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII в. М., 1995. Ср. анализ европейских сочинений того времени: Grafton A. What Was History? The Art of History in Early Modern Europe. Cambridge, 2007.]. Восприятие минувшего своей страны и иных государств и народов в XVIII веке развивалось уже на принципиально иных основах. Недавняя полемика вокруг специфики историографического наследия В.Н. Татищева (в связи с книгой А.П. Толочко[15 - Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005; Стефанович П.С. «История Российская» В.Н. Татищева: споры продолжаются // Отечественная история. 2007. № 3. С. 88–96; Свердлов М.Б. Василий Никитич Татищев – автор и редактор «Истории Российской». СПб., 2009.]) подчеркивает сложный характер конструирования истории в российском XVIII веке, часто далекого от современных исследовательских критериев и установок. В очерке А.Б. Каменского о Г.Ф. Миллере детально раскрыта проблематичность утверждения принципов критической историографии в российском академическом сообществе того времени[16 - См. также: Каменский А.Б. Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю // Ломоносов: Сборник статей и материалов. Т. IX. СПб., 1991; и особенно материалы содержательного исследования: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в.: в 3 ч. Л., 1961–1971.]. В статье Л.П. Репиной показано не только становление Т.Н. Грановского в качестве крупнейшей фигуры российской медиевистики и всеобщей истории[17 - Маслова Н.В., Агеева И.В. Русская история в научном наследии Т.Н. Грановского. К 180-летию со дня рождения // Отечественная история. 1993. № 4. С. 73–84. См. более общий очерк отечественной традиции изучения всемирной истории: Hecker H. Russische Universalgeschichts schreibung: Von den «vierziger Jahren» des 19. Jahrhunderts bis zur sowjetischen «Weltgeschichte». M?nchen, 1983.], но и формирование его образа как модели поведения университетского человека и историка per se для более широкой культурной среды и для последующего времени (эта его репутация поддерживалась в историческом и гуманитарном сообществе и после 1917 года).
Развитие профессиональной историографии в России было невозможно без распространения исторических знаний в образованной среде общества – в домашнем воспитании[18 - См. о популярной писательнице первой половины XIX века А.О. Ишимовой, авторе «Истории России в рассказах для детей» (1837–1841): Файнштейн М. Наставницы юных // Файнштейн М. Писательницы пушкинской поры: Историко-лит. очерки. Л., 1989. С. 42–57.] и особенно в учебном деле[19 - Володина Т.А. История в пользу российского юношества: XVIII век. Тула, 2000; Володина Т.А. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – середина XIX в. // История и историки. 2004. М., 2005. С. 104–126; Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 117–128.]. Преподавание истории в средней школе и гимназии рассматривается в статье Н.Г. Фёдоровой в важном «остраняющем» повороте – предметом особого внимания автора становится не весь образовательный процесс в целом или только транслируемые в нем ценности и образцы, но именно учебные тексты[20 - Белофост М.Г. Проблемы школьного исторического образования в ракурсе внутренней политики российского правительства в начале ХХ века. Тамбов, 1998; Бабич И.В. Проблема учебника отечественной истории в политике министерства народного просвещения в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 73–83; Фукс А.Н. Школьные учебники по русской истории (1861–1917 гг.): учеб. пособие. М., 1985; Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографическое явление // Преподавание истории в школе. 2007. № 7. С. 28–34 (см. материалы докторской диссертации А.Н. Фукса «Школьные учебники по истории как историографический феномен (конец XVII века – 1930-е годы)». М., 2011.]. Притом учебники по всеобщей истории задавали рамку для интерпретации также и российского прошлого, когда «свое» широко и разнопланово постигалось на фоне «чужого». Позже ведущими текстами по отечественной истории станут книги знаменитого Д.И. Иловайского (1832–1920)[21 - См.: Чекурин Л.В. Русский историк Д.И. Иловайский: Опыт биобиблиографического исследования. Рязань, 2002; Фукс А.Н. Русская история в школьных учебниках Д.И. Иловайского // Отечественная история. 2008. № 5. С. 185–192.]. Патриотические и порой верноподданнические установки Иловайского окажутся затем предметом иронического изображения и пародирования в русской литературе (например, у авторов «Сатирикона» уже в начале ХХ века). Во второй половине XIX века тексты исторических пособий все чаще пишут сами профессиональные историки первого ранга – вроде С.М. Соловьёва или С.Ф. Платонова, учебные тексты по всеобщей истории для гимназий и школ создают также П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер и Н.И. Кареев[22 - Антощенко А.В. Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов. Петрозаводск, 2010.].
Середина XIX века становится временем созревания академических стандартов российской исторической науки, но это имело не только сугубо научные, но и социально-идеологические коннотации именно в плане поиска субъекта исторического развития (народа) и адресата исторического письма (общественности) в процессе конструирования прошлого. Важность работы А.П. Толочко в том, что он показывает всю сложность и многосоставность перехода от имперского к национальному историческому дискурсу. Эта общая проблематика рассмотрена на примере полемики об «этнической» принадлежности Киевской Руси между Михаилом Погодиным и Михаилом Максимовичем на страницах славянофильских журналов и научной периодики сразу после смерти Николая I. Уже через несколько десятилетий и особенно интенсивно к концу XIX века многие ранние опыты написания местной истории окажутся переиначены и задним числом «национализированы» пропагандистами украинского национального возрождения[23 - См. важные соображения Олега Журбы (Днепропетровск) о позднем переходе от «регионального» к «национальному»: Журба О. Теоретичнi проблеми украiнськоi археографii // Украiна модерна. 2005. № 9. С. 152–172.]. Весьма проблематичным с 1880-х годов становится описание прошлого юго-западных территорий, которое в ряде работ авторитетных историков (особенно у Михаила Грушевского) начинает переосмысляться сквозь призму идеи непрерывности украинской истории, в противовес «привычной схеме» движения русского исторического процесса[24 - Наиболее известна критика традиционной схемы общероссийского исторического процесса (от древнего Киева через царскую Москву в имперский Петербург), сформулированная М. Грушевским в самом начале ХХ века (см.: Дорошенко Д. Огляд украiнськоi iсторiографii. Прага, 1923 [Киев, 1996]; Ісаевич Я. Праця Михайла Грушевського «Про двi схеми схiдноевропейськоi iсторii»: iсторiографiчний i полiтичний контекст // Михайло Грушевський i Захiдна Украiна. Львiв, 1995. С. 83–90.). Позднее его аргументы отчасти были приняты во внимание А.Е. Пресняковым; но затем в отечественной историографии в понимании восточнославянского этногенеза надолго возобладала парадигма «древнерусской народности», начальные положения которой были сформулированы еще до советского периода (см. обстоятельную книгу украинского историка Натальи Юсовой: Юсова Н. «Давньоруська народнiсть»: зародження i становлення концепцii в радянськiй iсторичнiй науцi (1930-тi – перша половина 1940-х рр.). Киiв, 2006.] из Древнего Киева через Владимиро-Суздальскую землю прямо в Московское царство. Ревизия привычной картины отчасти была свойственна и занятиям историей так называемого Западного края (особенно Белоруссии[25 - См.: Алексеев Л.В. Белорусская археология и историческое краеведение во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Советская археология. 1968. № 3. C. 85–100; Смоленчук А.Ф. Историческое сознание и идеология поляков Белоруссии и Литвы в начале XX века // Славяноведение. 1997. № 5. С. 100–105; Кохановский Г.А. Историография изучения культуры Белоруссии в конце ХVIII – начала ХХ вв. Становление научных знаний по археологии, историческому краеведению и фольклористике. Минск, 1992.]). Точно так же обращение к еврейской историографии[26 - Локшин А. Российская иудаика: русско-еврейская история и ее исследователи // Евреи в Российской империи XVIII–XIX вв. М., 1995. С. 3–22; Кельнер В.Е. Миссионер истории: жизнь и труды Семена Марковича Дубнова. СПб., 2008 и т. д.], к мусульманским памятникам (в Казани, Крыму или на Северном Кавказе)[27 - Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917 гг.). Ташкент, 1958; Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения: Историографический очерк. Ташкент, 1979; Tolz V. Russia’s Own Orient’: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford, 2011.] или к прошлому народов Закавказья[28 - Джавахов И.А. А.С. Хаханов и его деятельность в области кавказоведения. М., 1912; Черняев П.Н. Из истории кавказоведения // Сборник статей по вопросам культуры. Ростовна-Дону, 1928. Вып. 4. (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов. № 43). С. 5–42; Тютюнина Е.С. К вопросу об организационных формах исторического кавказоведения во второй половине XIX века // Вопросы истории и историографии Северного Кавказа (дореволюционный период). Нальчик, 1989. С. 113–125; Историография и источниковедение истории Северного Кавказа (вторая половина XVIII – первая треть XX в.): Библиографический указатель. Предварительный список: в 2 ч. / М.Е. Колесникова (автор-составитель); М.П. Мохначёва (науч. ред). Ставрополь, 2009.] существенно расширяет к исходу XIX века прежний мейнстрим (от Карамзина к Ключевскому) господствующего историографического канона. Этот имперский контекст[29 - См.: Дмитриев А.Н. Украинская наука и ее имперские контексты (XIX – начало ХХ века) // Ab Imperio. 2007. № 4. С. 121–172.], разнородность, а порой и несводимость локальных историй разного уровня в одну законченную и согласованную картину общего прошлого разных слоев населения и этнических групп привлекают первостепенное внимание новейшей историографии[30 - См. очень важный сборник: Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / T. Sanders (ed.). Armonk, 1999 и недавно изданную антологию текстов из журнала «Ab Imperio»: Изобретение империи: языки и практики. М., 2011.]. Однако в первые десятилетия XIX столетия местные версии исторической памяти были весьма далеки от будущих национальных нарративов (см. также статьи В. Боярченкова и Н. Родигиной во втором разделе монографии).
Особенно активным процесс развития исторической науки «вширь» стал в пореформенные годы – см. републикуемую в книге статью воронежского исследователя В.И. Чеснокова (1939–2000)[31 - См. статью-некролог о нем: Владимир Иванович Чесноков как ученый // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 6. Воронеж, 2002. С. 5–24 (и специальную монографию по теме: Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х гг. XIX века. Воронеж, 1989).]. Регламентация учебного дела была только одной из частей формировавшегося механизма государственного регулирования исторического знания. Через выработку базовых положений университетского устава, установление численности и соотношения кафедр по факультетам и в академиях государство (а точнее – ведомство народного просвещения) определяло общие параметры, формальный состав исторической науки, характер воспроизводства преподавательского корпуса.
Важными моментами такой трансформации и «созревания» исторической науки стало расширение историографических изысканий, выделение историографии в отдельную отрасль науки (как свидетельство ее растущей автономизации) – особенно в трудах петербургского историка К.Н. Бестужева-Рюмина и его московских коллег[32 - См.: Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. Днепропетровск, 1993; Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. Известная работа киевского профессора В.С. Иконникова «Опыт русской историографии» (1884) осталась скорее уникальным по полноте и всеохватности детальным обзором источников и литературы по русской истории, чем трудом по истории исторической науки.]. Этой же тенденции к самостоятельности отвечало и сосредоточение работы университетских преподавателей на поиске и освоении нового знания совместно со студентами – в специализированных семинариях (с их формальными и неформальными режимами коммуникации и воспроизводства[33 - Упомянем для предыдущего периода важные справочники: Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 1. XVIII век; Вып. 2. Первая половина XIX века / С.О. Шмидт (отв. ред.). М., 2001, 2007. См. также: Byford A. Initiation to Scholarship: The University Seminar in Late Imperial Russia // The Russian Review. 2005. Vol. 64. No. 2. Р. 299–323.]). Эти механизмы и практики профессионализации стали предметом специального рассмотрения в статье А.В. Антощенко и А.В. Свешникова[34 - См. также содержательную работу: Berelowitch W. History in Russia Comes of Age. Institution-Building, Cosmopolitanism and Debates among Historians in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No. 1. Р. 113–134.]. Вместе с тем сохранялась и общественная востребованность исторического знания даже в его специализированной форме – когда такие, казалось бы, внутренние перемены в корпорации, как защиты диссертаций или назначения новых профессоров, становились знаковыми событиями в жизни всего местного образованного общества (предмет специального исследования в очерке Т. Сандерса[35 - См. анализ схожих процессов на материале близкой к историографии дисциплины – филологии: Byford A. Literary Scholarship in Late Imperial Russia: Rituals of Academic Institutionalization. Oxford, 2007.]).
Общий ход автономизации и специализации исторического знания затронул также и область вспомогательных исторических дисциплин. Уже с 1770-х годов начинается систематическая деятельность по изданию источников по российской истории (стараниями Н.И. Новикова[36 - Дербов Л.А. Н.И. Новиков и русская история (к изданию «Древней Российской Вивлиофики») // Из истории общественного движения и общественной мысли в России. Вып. 2. Саратов, 1968.]). Другим важным шагом по пути профессионализации исторической науки станет деятельность Археографической экспедиции (во главе с П.С. Строевым) в 1826–1834 годах, а позднее – и Археографической комиссии, работавшей на постоянной основе при министерстве народного просвещения с 1837 года[37 - Брачёв В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). СПб., 1997.]. Одной из главных площадок поиска историка во второй половине XIX века постепенно становятся ведомственные архивы (в первую очередь, архив коллегии министерства иностранных дел и московский архив министерства юстиции[38 - Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. М., 1989; Щавелев С.П. Историк Русской земли. Жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. Курск, 1996; Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука: Архивисты и историки во второй половине XIX – начале XX века. М., 1999.]). С 1804 года действует уже упомянутое Общество истории и древностей российских[39 - Демидов И.А., Ишутин В.В. Общество истории и древностей российских при Московском университете // История и историки. 1975. М., 1978. С. 250–280; Боярченков В.В. Общество истории и древностей российских в середине 1840-х гг. // Вопросы истории. 2008. № 4. C. 114–121; Шахназарова М.Г. «Чтения в обществе истории и древностей российских» как историографический источник (1893–1918 гг.) // Вестник РГГУ. 2009. № 4. С. 133–145.] при Московском университете (с 1837 года – Императорское)[40 - Степанский А.Д. Первые исторические общества в России // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 204–208; Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 38–56.]. Важнейшим центром изучения отечественной истории остаются университеты и Академия наук (а также Российская Академия, вошедшая в ее состав в 1841 году) – помимо собственно российской истории темами занятий академиков и адъюнктов были также всеобщая история, археология, востоковедение, византинистика и исследования античности (в том числе на материалах Северного Причерноморья)[41 - Хартанович М.Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга XIX века. СПб., 2006; Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (ХVIII – середина ХIХ в.). СПб., 2002; Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. СПб, 2008 и др.]. Продолжается и расширяется выпуск специализированных серийных изданий по отечественной истории (включая публикацию источников, в частности «Полного собрания русских летописей», а впоследствии – и книжных серий П.И. Бартенева и А.С. Суворина)[42 - См.: Бакун Д.Н. Развитие библиографии исторических источников в России (XVIII – начало XX в.). М., 2006.].
Специальным изводом профессионального знания о прошлом в дореволюционной России оставались две отрасли, важнейшие для государственного и идейного строя Российской империи, – сферы военной и церковной историографии (последней посвящена в нашей монографии статья Н.К. Гаврюшина)[43 - Солнцев Н.И. «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение. Н. Новгород, 2010; Сухова Н.Ю. Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007. С. 143–171 и др.]. Обе они к тому же были и доменами особой, корпоративной памяти, которая находилась в ведении специальных учреждений (военного министерства, Генерального штаба или Священного синода и сети духовных академий). Однако к концу XIX века общий процесс распространения и демократизации знания о прошлом охватил и эти области, результатом чего стало возникновение Военно-исторического общества, открытие музея Суворова и увековечение важнейших сражений (от битвы на Куликовом поле до памяти о Русско-японской войне)[44 - Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962; Дьяков В.А. О возникновении, составе и деятельности Русского военно-исторического общества (1907–1917 гг.) // Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971. С. 275–288; Автократов А.В. Научно-издательская деятельность военно-исторических комиссий и военных исторических архивов дореволюционной России // Издание исторических документов в СССР. М., 1989. С. 129–152; Автократов В.Н. Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г.С. Габаева (1877–1956) // Советские архивы. 1990. № 1. С. 62–76; № 2. С. 61–78; Бориснев С.В. Деятельность Императорского русского военно-исторического общества. 1907–1917 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 5. С. 43–47.], а также развертывание работ по церковной археологии, сохранению и реставрации памятников[45 - Славина Т.А. Исследователи русского зодчества: Русская историко-архитектурная наука XVIII – начала XX в. Л., 1983; Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи, XIX век. М., 1986; Вздорнов Г.И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006; Тарасов О. Русская икона в Серебряном веке. Из истории Комитета попечительства о русской иконописи (1901–1918) // Искусствознание. 2010. № 3/4 С. 461–486.]. Все это касается другой важнейшей темы воссоздания прошлого – проблематики исторического сознания (и второго раздела нашей книги).
Отметим, что развитые представления о прошлом в допетровской Руси оставались достоянием узкого круга образованных людей и не имели еще секулярного характера, связанного с идеями общественного целого (а государственные, территориальные или этноязыковые начала или особенности тогда так или иначе трактовались через конфессиональную исключительность православного вероисповедания).
Необходимо иметь в виду, что в допетровский период какие-либо исторические сведения общенационального характера вообще были достоянием крайне ограниченной группы грамотных людей, но и их знания не отличались сколько-ни будь систематическим характером, поскольку даже русские летописи были им недоступны. Для элитарных слоев Московской Руси история сводилась по большей части к истории рода, имевшей утилитарное значение в плане определения места лица на социальной лестнице. Можно утверждать, что в русском обществе допетровского времени в принципе отсутствовало какое-либо целостное представление об истории собственной страны. Создание общенациональной истории было, таким образом, по существу вообще обретением Истории и воспринималось как часть процесса превращения России в «политичное» государство[46 - Каменский А.Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы: Препринт WP6/2007/04. М.: ГУ ВШЭ, 2007. С. 39.].
Глубина и травматичность произошедших в первой четверти XVIII века перемен и предопределили восприятие в последующем всего прошлого России (как «старой», так и «новой») прежде всего через оценку фигуры и наследия Петра Первого[47 - Плюханова М.Б. «Историческое» и «мифологическое» в ранних биографиях Петра I // Тартуский сборник. Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 78–119; Соловьёв Е.А. Пётр Великий и русская историческая мысль XIX – начала XX века // Отечественная история. 2006. № 4. С. 112–123. О легитимации через давнее прошлое и попытках его переописания см.: Рукавичникова В.В. Вадим Новгородский в русской историографии и литературе (Исторический факт и его интерпретация) // Русская литература. 2000. № 4. С. 73–83; Майофис М. Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины II «Начальное управление Олега» // Тартуские тетради / Р.Г. Лейбов (сост.). М., 2005. С. 253–260.]. Характерна в этом смысле популярность полулюбительского многотомного жизнеописания Петра, выполненного выходцем из купеческого сословия И.И. Голиковым (1735–1801), в первые десятилетия XIX столетия. В центре «Записки о древней и новой России» Карамзина, созданной для двора великой княгини Елены Павловны и оставшейся на десятилетия документом непубличным – а ради ее сочинения историк прервал работу над главным своим произведением, – оказывается наследие Петра. Для появления «Истории государства Российского» Карамзина были необходимы десятилетия собирательской и публикаторской деятельности И.Н. Новикова, работа единомышленников А.И. Мусина-Пушкина и позднее Н.П. Румянцева и его кружка[48 - Козлов В.П. Российская археография конца XVIII – первой четверти XIX века. М., 1999.]. Но для восприятия этого сочинения более широким кругом читателей (предмет исследования в статье В.С. Парсамова) были также необходимы своеобразная историзация сознания образованных слоев и рефлексия по поводу недавнего прошлого, закрепленная в дворянской памяти деятелей «золотого века» о событиях минувшего XVIII столетия – через призму войн с Наполеоном и заката царствования Александра I. В этой связи особенно показателен очерк Т.А. Сабуровой, которая, в частности, рассматривает уроки и модусы восприятия революционных событий во Франции и французских исторических сочинений российской образованной элитой[49 - Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика ХVIII – первой пол. XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М., 1997.]. Перемены в историческом сознании коснулись не только дворянского общества двух столиц, но и публики провинциальной[50 - Особая тема – исторические воззрения декабристов и либералов в 1810–1830-е годы, когда были заложены основы будущих столкновений западников и славянофилов и сформировался характер мировоззрения Герцена. См.: Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России. М., 1974; специально о редакторе «Колокола»: Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. 2-е изд., испр. М., 1984.]. И именно региональному измерению исторического сознания посвящен помещенный в монографии очерк В.В. Боярченкова.
Созданные в 1820–1830-е годы специальные исторические общества и комиссии связывали деятельность исследователей и ревнителей просвещения в разных частях империи (особенно важными здесь были вначале – в первой половине века – губернские статистические комитеты, а с 1884 года – и губернские археологические комиссии)[51 - Севастьянова А.А. Историография русской провинции второй половины XVIII в. (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 1. С. 134–142; Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М., 1998; Комарова И.И. Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических комитетов // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 85–96; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991; Писарькова Л.Ф. Губернские ученые архивные комиссии: организация, численность и условия деятельности // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 187–198; Зубова Н.Л. Архивно-просветительские организации в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 62–72.]. В.В. Боярченков (как и Н.Н. Родигина далее) подчеркивает разрозненность, весьма проблематичное единство усилий местных любителей старины и столичных историков, которые брали на себя функции обобщения и определения общей канвы для истолкования локального материала. Вообще регионализация отечественного исторического сознания – тема еще недостаточно изученная не только в связи с «федералистскими» устремлениями ряда историков начала эпохи Великих реформ[52 - Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20–70-х годов XIX века. СПб., 2005; о последующей эволюции региональной историографии см.: Аленова В.А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв. Рязань, 2002.], но и в двойной перспективе неравномерного географического распределения университетского образования в России и будущего роста изучения и постижения местного края уже в первые десятилетия ХХ столетия (предмет исследования М.В. Лоскутовой[53 - Лоскутова М.В. Академия наук и краеведческое движение первой четверти ХХ в. // Академия наук в истории культуры России в XVIII – ХХ вв. / Ж.И. Алфёров (отв. ред.). СПб., 2010. С. 645–677; Лоскутова М.В. Уездные ученые: самоорганизация научной общественности в российской провинции во второй половине XIX – первой трети XX в. // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 119–169; Лоскутова М.В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российский университетов второй половины XIX в.: постановка проблемы и предварительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала ХХ в. / А.Ю. Андреев (отв. сост.). М., 2009. С. 183–221; Loskutova M. A Motherland with a Radius of 300 Miles: Regional Identity in Russian Secondary and Post-Elementary Education from the Early Nineteenth Century to the War and Revolution // European Review of History. 2002. Vol. 9. No. 1. P. 7–22.]).
Рассматривая взаимодействие профессиональной науки и общественного сознания 1860-х годов, важно учитывать «левославянофильские» труды историка М.О. Кояловича, связанного с западно-русскими (белорусскими) землями и противостоянием там «польскому элементу»[54 - Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. С. 202–223.]. Коялович одним из первых сознательно и последовательно рассматривал развитие русской исторической науки как составную часть эволюции русского самосознания. Эту же идею, но с обратным идеологическим знаком (в русле либеральной трактовки эволюции «русского общества») проводил в «Главных течениях русской исторической мысли» в конце ХIХ века и Павел Милюков.
Наряду с публикацией обширного источникового материала важнейшую роль в развитии исторического сознания играли «толстые журналы» – литературно-публицистические ежемесячники и историческая периодика (предмет внимания Н.Н. Родигиной, особенно важный в плане отражения и представления региональной проблематики). С 1860-х годов появляется и специализированная историческая пресса (журналы «Русский архив» П. Бартенева и «Русская старина» М. Семевского)[55 - Дмитриев С.С. Дореволюционные исторические журналы // История СССР периода капитализма / С.С. Дмитриев, В.А. Фёдоров, В.И. Бовыкин (ред.). М., 1961. С. 171–190; Дмитриев С.С. Именословие русских исторических журналов // Русская литература. 1967. № 1. С. 73–83; Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики // Источниковедение отечественной истории (1975). М., 1976. С. 272–306; Зайцев А.Д. Пётр Иванович Бартенев и журнал «Русский архивъ». М., 2001; Порох В.И. Офицер, историк, издатель: Все о М.И. Семевском. Саратов, 2000; Железнева Т.В. Задачи, структура и тематика журнала «Исторический вестник» (1880–1904) // Историографические и источниковедческие проблемы истории СССР. М., 1987. С. 51–58; Кельнер В.Е. От «Древней и новой России» к «Историческому вестнику» (С.Н. Шубинский и становление исторических научно-популярных изданий в России в 1870-е гг.) // Книжное дело в России во второй половине ХIХ – начале XX в. Л., 1988. Вып. 3. С. 156–176; Костылёва Р.Д. Историк-популяризатор С.Н. Шубинский во главе «Исторического вестника». Уссурийск, 1989; Мохначёва М.П. С.Н. Шубинский и его сборник-журнал «Древняя и новая Россия» // Труды Историко-архивного института. Т. 33. М., 1996. С. 168–176; о последнем редакторе исторического вестника см.: Иванова Г.Г. Историк-публицист Б.Б. Глинский // Вопросы истории. 2008. № 4. С. 141–145.]. Уже в 1880-е годы круг исторических журналов и изданий пополняется не только за счет специализированной периодики (включая органы различных обществ и вплоть до общеведомственного «Журнала министерства народного просвещения»)[56 - Русская историческая периодика 1861–1917 гг. Материалы к библиографии / С.Н. Ущиповский (сост.). СПб., 1992; Поникарова Н.М. Школьные учебники по русской истории в оценках Журнала министерства народного просвещения // Преподавание истории в школе. 2004. № 9. С. 26–31.], но и путем расширения идеологического репертуара журналов, посвященных прошлому, как в правой части политического спектра, так и в особенности – в левой[57 - См.: Шумейко М.Ф. Материалы архива В.Я. Богучарского по истории журнала «Былое» («Минувшие годы») // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 276–284; Шумейко М.Ф. О выявлении и собирании документов революционного движения в России второй половины XIX – начала XX века (по материалам архива В.Я. Богучарского) // Археографический ежегодник за 1981 год. С. 178–187; Болотина А.В. В.Я. Богучарский по архивным материалам и в воспоминаниях современников // Страницы истории и историографии отечества. Вып. 3. Воронеж, 2001. С. 4–84; Лурье Ф.М. Хранители прошлого. Журнал «Былое»: История, редакторы, издатели. Л., 1990.].
Самым непосредственным способом государственной «обработки» исторического сознания стала деятельность цензурного ведомства[58 - Гринченко Н.А. История цензурных учреждений в России в первой половине ХIХ в. // Цензура в России. История и современность. Вып. 1. СПб., 2001. С. 15–46; Патрушева Н.Г. История цензурных учреждений в России во второй половине XIX – начале XX века // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века. Вып. 10. СПб., 2000. С. 7–48; Добровольский Л.М. Библиографический обзор дореволюционной и советской литературы по истории русской цензуры // Труды БАН СССР и фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. Т. V. М.; Л., 1961. С. 245–252; Патрушева Н.Г. Изучение истории цензуры второй половины XIX – начала ХХ века в 1960–1990-е гг.: Библиогр. обзор // НЛО. 1998. № 30. С. 425–438.], которая распространялась и на публикации по русской истории (наиболее громкими в этом смысле станут скандал с Осипом Бодянским и запрещение издания Флетчера в «Чтениях Общества истории и древностей российских»[59 - Боярченков В.В. С.Г. Строганов, С.С. Уваров и «история Флетчера» 1848 г. // Российская история. 2009. № 5. С. 144–150.]). Помимо общих регулирующих усилий этого ведомства, очерченных в статье И.М. Чирсковой, контроль распространялся и на академическую деятельность, в частности на специальные изыскания петербургской Археографической комиссии[60 - Хартанович М.Ф. Императорская Археографическая комиссия и сеть археографических учреждений в России XIX в. // Академия наук в истории культуры XVIII–XIX вв. СПб., 2010. С. 268–311.]. Запрещая и изымая «нелегитимную» информацию о прошлом, цензура своеобразным путем тоже участвовала в процессе формирования исторических представлений и социальной памяти российского общества.
Даже после революции 1905 года и либерализации законодательства о печати власти пытались регулировать историческую память либо прямым вмешательством и попыткой судебного преследования радикальных критиков (как в случае издания «Русской истории» М.Н. Покровским)[61 - «Дерзостное неуважение Верховной власти». Материалы судебного процесса по делу об уничтожении 5-й книги М.Н. Покровского «Русская история с древнейших времен», 1912–1913 гг. / публ. подгот. Ю.В. Варфоломеев, А.А. Чернобаев // Исторический архив. 2011. № 2. С. 165–182.], либо через формирование благоприятной для правительства идейной среды и деятельность особых информационных служб (во главе одного из таких подразделений стоял историк армии К.А. Военский (1860–1928)[62 - Летенков Э.В. К истории правительственных информационных центров в России (1906–1917 гг.) // Вестник Ленинградского университета. Серия: История, язык, литература. 1973. Вып. 4. № 20. С. 80–88.]).
Развитие и усложнение российского исторического сознания второй половины XIX столетия было невозможно без задействования специализированных структур сохранения и воспроизводства памяти о прошлом – мы имеем в виду архивную отрасль, сферу археологических изысканий и консервации, а также выставочно-музейную деятельность. Эти последние области стали предметом содержательного очерка А.В. Топычканова, который проследил эволюцию разных моделей охраны памятников, указав на возрастание роли и значимости на протяжении XIX века материального «остатка» прошлого, включая его эстетическое содержание. В перспективе истории понятий особенно интересно обратить внимание на непривычно широкое для ХХ века употребление в предыдущем столетии слова «археология». Богатый материал для сопоставительного анализа в плане истории специализированных отраслей исторической науки дают программы Археологического института (открытого в Санкт-Петербурге в 1878 году) и обширные материалы дискуссий на археологических съездах, где немалую роль играли споры об охране памятников в самом широком смысле, включая архивные, а не только материальные данные[63 - Бржостовская Н.В. Вопросы архивного дела на археологических съездах в России, 1869–1911 гг. // Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972. С. 89–105; Размустова Т.О. Губернские ученые архивные комиссии и изучение памятников археологии в дореволюционной России // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1990. С. 89–104.]. Именно на II Археологическом съезде Н.В. Калачов впервые предложил программу централизации архивной отрасли. Плодом его усилий стал не только Археологический институт в Петербурге, но и появление сети специальных губернских архивных комиссий – после 1884 года[64 - Шведова О.И. Указатель «Трудов» губернских ученых архивных комиссий и отдельных их изданий // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 377–433; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991.]. А на XI Археологическом съезде в Киеве в 1899 году по докладу Д.Я. Самоквасова развернулась дискуссия, очень важная в плане будущей организации архивного управления и профессиональной консолидации (в первую очередь вокруг Союза архивных деятелей и академика А.С. Лаппо-Данилевского)[65 - Самоквасов Д.Я. Проект архивной реформы и современное состояние окончательных архивов в России. М., 1902; Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.]. Следующая глава этой истории начнется в 1918 году, когда в Петрограде при активном участии и немалой поддержке большинства ученых «старой школы» будет создан Центрархив.
С середины XIX века историки стали заниматься не просто организацией экспедиций, обработкой результатов полевых изысканий, изучением коллекций или общим «попечением» над развитием музейной и особенно архивной областей; они взялись за выработку теоретических основ сбережения, отбора и публичного представления ценных свидетельств прошлого (в первую очередь в рамках общей модели музеефикации «подлинных» памятников). Рост просвещения, в том числе исторического, учреждение (после 1863 года) университетских кафедр по истории искусства, профессионализация церковной археологии, работа археологических институтов в Петербурге и Москве и особенно капитальные труды таких крупных ученых, как Никодим Павлович Кондаков (и его последователей), Николай Петрович Лихачёв, Дмитрий Власьевич Айналов и Егор Кузьмич Редин, – все эти факторы существенно обогатили представления тогдашнего образованного общества о русском художественном наследии и повлияли на общий характер восприятия российского прошлого во второй половине XIX века[66 - Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. Гл. 8. Академическая и университетская наука. С. 210–276.]. Эпоха любителей и энтузиастов, «палеографов» постепенно уходила в прошлое. Однако «академизация» не была и не могла быть окончательной; помимо этой экспертной прослойки в России тогда расширялась и укреплялась за счет формальных институций и неформальных отношений связанная с учеными среда профессионалов, работающих с наследием практически, – реставраторов, живописцев, архитекторов, критиков (особенно стоит отметить тут фигуру И.Э. Грабаря). Многие из них занимались не только прошлым, но даже в большей степени современными художественными практиками и течениями (например, адепты неорусского или византийского стилей, очеркисты и обозреватели, авторы популярных музейных путеводителей, травелогов и т. д.).
Возвращаясь к политической ангажированности занятий минувшим, особенно важно подчеркнуть не только очевидные расхождения и полярность левой и правой историографических традиций дореволюционной России, но и некоторые важные структурные сходства[67 - См. более общие рассуждения О.Б. Леонтьевой: Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала ХХ в. Самара, 2011 (она рассматривает весьма детально историческое «воображаемое» пореформенной эпохи – от представлений о старообрядчестве до образов Ивана Грозного и Петра Великого).]. Представители как правой, так и левой общественности обращались к российской истории как к важному средству легитимации и утверждения своих базовых постулатов (включая юбилеи и различные торжества) – с характерным выбором фигур-протагонистов и антагонистов, Сусанина[68 - Киселёва Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) //Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997; Живов В.М. Сусанин и Пётр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65; Велижев М., Лавринович М. «Сусанинский миф»: становление канона // Там же. 2003. № 63.] или Пестеля, Чернышевского[69 - Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890–1917 гг. М., 1982; Критский Ю.М. Вопросы истории русской общественной мысли и революционного движения в России XVIII – начала XX века в журнале «Голос минувшего» в 1913–1923 гг. // Исторические записки. 1972. М., 1973. С. 78–106.] или Суворова. Публикуемая в монографии статья В. Каплан особенно интересна тем, что обращается к пока недостаточно изученной – и, как показывает автор, внутренне противоречивой – консервативной пропаганде массового исторического знания[70 - См. также: Urban Vera. Geschichte als Argument?: Politische Kommunikation russischer Konservativer in der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 2009; Urban V. «Geschichte» in der politischen Kommunikation konservativer Eliten im Zarenreich, 1860–1890 // Jenseits der Zarenmacht: Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800–1917 // W. Sperling (Hg.). Frankfurt am Main, 2008. S. 100–123.]. Начало ХХ века оказалось временем роста интереса к «своему» прошлому в левых кругах и в среде широкой «интеллигентской» общественности – от умеренных до радикалов[71 - Будницкий О.В. История «Народной воли» в идейной борьбе первой российской революции // Революционеры и либералы в России. М., 1990. С. 271–292; Плеханов Г.В. Предисловие к книге А. Туна «История революционного движения в России» // Тун А. История революционного движения в России. Женева, 1903. С. III–XLVII.]. Тут не только стоит отметить труды профессиональных историков или, напротив, политиков либо публицистов, пишущих на исторические темы (достаточно указать на занятия историей русской общественной мысли Р.В. Иванова-Разумника и Г.В. Плеханова[72 - Комиссарова Л.И., Ольховский Е.Р. У истоков марксистской исторической мысли в России. М., 1986. См. также: Пронина М.В. К вопросу создания Г.В. Плехановым книги «История русской общественной мысли» // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX в.: Сб. науч. тр. Вып. 9. СПб., 1998. С. 106–119.]), но и обратить внимание на становление в 1900–1910-е годы специфического слоя неакадемических историков, часть которых в будущем образует костяк советской историографии (от Б. Сыромятникова и В. Пичеты до М. Покровского и В. Волгина)[73 - Здесь важно не упустить из виду деятельность таких радикальных организаций, как Общество распространения технических знаний (его Учебного отдела), и энергичных внеакадемических историков – издателей и редакторов, вроде В. Каллаша, Д. Рязанова и др.: Гуковский А.И. Как создавалась «Русская история с древнейших времен» М.Н. Покровского // Вопросы истории. 1968. № 8. С. 122–132; № 9. С. 130–142; Rojahn J. Aus der Fr?hzeit der Marx-Engels-Forschung: Rjazanovs Studien in den Jahren 1907–1917 im Licht seiner Briefwechsel im IISG // MEGA-Studien. 1996. Bd. 1. S. 3–65.]. При этом сознание многомиллионной крестьянской массы менялось довольно медленно и едва ли было в полном смысле слова «исторично» (хотя, на наш взгляд, не стоит представлять его базисную структуру в виде некоего по сути неподвижного инварианта)[74 - См.: Чагин Г.Н. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX в. Пермь, 1999; Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992; Буганов А.В. Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX – начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 12. С. 120–127.].
Завершающий раздел книги посвящен историческому воображению – теме, для нашей историографии все еще малоизведанной. Открывается раздел обширной статьей Е.А. Вишленковой, посвященной исторической живописи и «наглядным» представлениям о прошлом первой половины XIX века. Эта тема рассматривается в более широком контексте эволюции визуальной культуры Российской империи и канонов представления (изображения) национального начала в искусстве (в соотношении с классическими образцами).
Парадоксально, но такое благодатное поле перспективных исследований, как отражение русской истории в русской литературе в XIX – начале ХХ веков оказывается при ближайшем рассмотрении едва возделанным[75 - Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968; Формозов А. Историзм русской литературы (рец. на кн.: Л.В. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968) // Новый мир. 1969. № 4. С. 267–271; Серман И.З. Ключевский и русская литература // Canadian-American Slavic Studies. 1986. Vol. 20. No. 3–4. P. 417–436.]. Даже классические произведения, от «Марфы Посадницы» Карамзина и «Истории пугачевского бунта» Пушкина[76 - Серман И.З. Пушкин и русская историческая драма 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. Л., 1969. С. 118–149; Серман И.З. Ключевский и русская литература; Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949; Эйдельман Н.Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984; Осповат А. Исторический материал и исторические аллюзии в «Капитанской дочке»: статья первая // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые-Седьмые-Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 40–67.] до «Войны и мира» и драматической трилогии А.К. Толстого[77 - См. обширную статью академика Нестора Котляревского: Котляревский Н. Трилогия А.К. Толстого как национальная трагедия // Котляревский Н. Старинные портреты. СПб., 1907. С. 273–416.], не получили сколь-либо систематического общего освещения в филологической литературе и явно недостаточно изучаются историками. Публикуемая в монографии статья Е.Н. Пенской – одна из немногих попыток такого рода синтеза, который не может не быть выборочным. Стоит указать лишь на некоторые потенциальные сюжеты: важность регионального (и шире – национального) нарратива внутри общего исторического повествования в отечественной литературе (например, произведения Н.И. Костомарова и П.А. Кулиша), нередкое сочетание в авторском мировоззрении и стиле подходов ученого и беллетриста, формирование новых горизонтов исторического письма в рамках культуры Серебряного века, в первую очередь у Мережковского (с его изображением событий начала XIX века, например, спорил Кизеветтер)[78 - Юхименко Е.М. Старообрядческие источники романа Д.С. Мережковского «Пётр и Алексей» // De visu. 1994. № 3/4. С. 47–59; Берлин П. Александр I и декабристы в искажении Д. Мережковского // Новый журнал для всех. 1913. № 4. Стлб. 169–172; Садовский Б. Оклеветанные тени (О романе Д.С. Мережковского «Александр I») // Северные записки. 1913. № 1. С. 115–119; Корнилов А. Исторический роман Д. Мережковского «Александр I» // Современник. 1913. № 11. С. 184–200; Мельгунов С.П. Роман Мережковского «Александр I» // Голос минувшего. 1914. № 12. С. 39–80 (часть отзывов представлена также в недавнем сборнике: Д.С. Мережковский: Pro et contra. СПб., 2001).]. Для адекватной реконструкции темы исторического воображения не обойтись без детального и исторически варьирующегося анализа фигуры реципиента, потребителя исторических текстов и формул самого разного жанра[79 - Только мимоходом упомянем исследования Р. Тарускина и К. Эмерсон об истории в российском оперном искусстве (от Бородина до Чайковского и Мусоргского): Taruskin R. The Present in the Past: Russian Opera and Russian Historiography, ca. 1870 // Taruskin R. Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue. Princeton, 1993. Р. 123–200; Emerson C., Oldani R.W. Modest Musorgsky and Boris Godunov: Myths, Realities, Reconsiderations. Cambridge, 1994.] – в спектре от «имперского» читателя или слушателя, зрителя до революционно ориентированного «сознательного» рабочего или интеллигента (тут явно прослеживается связь с тематикой статьи В. Парсамова, посвященной первым десятилетиям XIX века)[80 - Об исторической драматургии см. цикл работ самарского филолога В.А. Бочкарёва (Бочкарёв В.А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. М., 1988 и др.); Дотцауэр М.Ф. К вопросу об исторических источниках драматической трилогии А.К. Толстого // Ученые записки Саратовского гос. пед. ин-та. Вып. 12. Саратов, 1948. С. 29–52; Виролайнен М.Н. Историческая драматургия 50–70-х годов // История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало XX века. Л., 1987. С. 309–335; Ростоцкий Б., Чушкин П. «Царь Фёдор Иоаннович» на сцене МХАТа. М.; Л., 1940.].
В то же время на полюсе популярного исторического сознания (начиная, пожалуй, с юбилея тысячелетия России) постепенно кристаллизуются основные структуры и модусы идеологической мобилизации истории (рассмотренные в частности, в статье К.Н. Цимбаева, который на материале XIX века выделяет основные ритуальные и «консолидационные» черты юбилеев, при последовательно проводимой выключенности из торжеств «низших классов» общества). Как продолжение сюжета о юбилейной мобилизации можно читать статью С.А. Еремеевой о монументальных практиках коммеморации[81 - См. также: Антощенко А.В. Увековечивая в бронзе: правительственный замысел памятника «Тысячелетию России» и его воплощение // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М., 2005. С. 396–418.]. Она особенно подробно останавливается на «квазиобщественной» составляющей монументостроительства, связанной с почитанием в XIX веке – при самом ближайшем участии верховной власти – памяти великих писателей прошлого от Ломоносова до Пушкина[82 - Стоит в этой связи особенно подчеркнуть растущую «субъективацию», персонализацию отечественной культурной памяти и исторического сознания интеллигенции, особенно по мере роста богатства и сложности русской литературной культуры (что не отменяло, а порой парадоксально усиливало коллективистские инспирации); см.: Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 68–88 (о выражении «память сердца»); Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1859–1990-е годы) // Там же. 2010. № 103. С. 41–66.].
В известном смысле сама художественная пропаганда на материале прошлого, которая вполне сложится уже в ходе Первой мировой войны и будет обращена к максимально широким общественным слоям[83 - См.: Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; L., 1995.], закладывала основы ранней советской исторической культуры (в которой был так велик художественный, особенно авангардный, элемент). И в области профессиональной исторической науки уже в 1920-е годы стал задействоваться объяснительный потенциал и подходы, накопленные оппозиционной – народнической, эсеровской и социал-демократической – историографией еще до революции[84 - Особую роль в формировании новой исторической культуры сыграло и либеральное крыло историографии и публицистики начала ХХ века (Г. Джаншиев, И. Иванюков, А. Корнилов и др.), разумеется, весьма далекое от взглядов социал-демократов или М. Покровского.]. Вместе с историческим сознанием революционного плана (центрированном на «освободительном движении» и классовой борьбе) и леворадикальным историческим воображением[85 - Corney F.C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca, 2004.], такая наука станет одним из оснований советской исторической культуры. Но там будут работать совсем иные модусы профессионализма в соотнесении с массовым историческим просвещением и самосознанием (от книг Покровского и Каутского до «Краткого курса» истории ВКП(б) и сочинений Б.Д. Грекова и М.В. Нечкиной). Это уже будут механизмы выработки совсем другого – хотя также вполне нашего – прошлого, призванные либо вовсе перечеркнуть, либо в корне видоизменить очень схематично рассмотренную нами двухвековую традицию.
Раздел I
Историческое знание
А.Б. Каменский
У истоков русской исторической науки: Г.Ф. Миллер
Примерно с середины XIX века, когда русскими историками были сделаны первые попытки осмыслить накопленный опыт в изучении отечественной истории, сложилось представление о возникновении исторической науки в России в начале XVIII века, т. е. тогда же, когда в ходе петровских преобразований наука вообще впервые появляется как самостоятельная сфера человеческой деятельности, и с основанием в 1725 году Петербургской академии наук приобретает институциональный характер. За своего рода точку отсчета была взята деятельность В.Н. Татищева, которого принято считать первым русским ученым-историком. Подобные представления об истории русской исторической науки преобладали и в советское время, хотя уже на его излете были сделаны попытки связать ее начало с именами живших во второй половине XVII века Андрея Лызлова, Игнатия Римского-Корсакова и др.[86 - См.: Чистякова Е.П., Богданов А.П. «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о русских историках второй воловины XVII века и их трудах. М., 1988; Богданов А.П. Летописец и историк конца XVII века: Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994.] В наши дни, однако, многие исследователи, работающие в рамках науковедческих подходов, придерживаются точки зрения, согласно которой «становление истории как полноценной науки» в современном ее понимании не только в России, но и в мире в целом происходит не ранее середины – конца XIX столетия «одновременно с выделением общественных наук как самостоятельного типа знания, дифференцированного от естествознания». В это время утверждаются общественные науки «с собственными предметными областями» (психология, социология, антропология, политология, экономика) и одновременно происходит «возведение истории в ранг науки»[87 - Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 292–295; Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М., 2008. С. 21.]. Одним из важнейших признаков появления истории как науки считается учреждение в университетах исторических факультетов и специальных кафедр, осуществляющих профессиональное образование историков. В связи с этим сегодня исследователи осторожно говорят о XVIII веке как о времени перехода «от накопления исторических знаний к научному освоению исторического материала», отличающемуся «от предшествующего более научным подходом к истории»[88 - Дворниченко А.Ю. О периодизации и содержании курса русской историографии // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2005. Вып. 4. С. 32. Выражение «более научный подход» вряд ли можно признать удачным: подход может быть либо научным, либо ненаучным.].
Вполне очевидно, что за этими разногласиями стоит различное понимание существа науки и ее отличия от иных форм знаний о прошлом. Столь же очевидно и то, что становление исторической науки – это длительный процесс, связанный с формированием научных представлений о прошлом и выработкой научных методов его изучения. Создание исторического факультета университета, несомненно, знаменует собой важнейший этап этого процесса, однако очевидно, что его невозможно открыть, если там некому преподавать, но что еще важнее, к моменту его открытия должно сложиться понимание того, что преподавать, т. е. что такое профессиональное образование историка. Сама идея создания исторического факультета не может возникнуть без представления об истории как самостоятельной науке, о ее объекте и предмете, ее методе, без сложившихся исследовательских практик[89 - Характерный пример интерпретации истории исторической науки. Автор диссертации по истории судебной реформы начала XVIII века отмечает: «Историография поставленного вопроса ведет свое начало с середины XIX столетия – времени, когда российская историческая наука получила свои кафедры в главных университетах Российской империи. Если первая половина века оказалась периодом складывания исторической науки, когда начал формироваться общий взгляд на историю России, то его вторая половина дала возможность подойти к вопросам государственного устройства…» (Бородина Е.В. Проведение судебной реформы в 20-х гг. XVIII в. на Урале и в Западной Сибири: автореф. дис… канд. ист. наук. Челябинск, 2008. С. 9).]. Представляется, что окончательное разделение истории и естествознания, а также выделение иных социальных наук можно рассматривать как завершающий этап процесса превращения истории в полноценную науку, истоки которого применительно к России все же вполне оправданно искать в середине XVIII века.
Те исследователи, кто связывал зарождение русской исторической науки с деятельностью Татищева и других его современников, совершенно справедливо отмечали, что именно этим писателям принадлежат первые авторские труды по русской истории, имеющие признаки научной работы, поскольку в отличие от предшествующей летописной традиции эти труды были основаны на изучении и сравнительном критическом анализе различных исторических источников. С этой точки зрения, достаточно очевиден и вклад в начало научного изучения русской истории Герарда Фридриха Миллера (1705–1783). Ему не только принадлежат первые в историографии труды по целому ряду проблем отечественной истории, давшим точку отсчета нескольким важнейшим, продолжающим существовать и поныне научным направлениям. Весьма значительной была его роль и в расширении источниковой базы исторических исследований за счет привлечения делопроизводственных и актовых документов, а также источников иностранного происхождения. Собственно, именно Миллер был первым исследователем, кто, обратившись с научными целями к архивным документам, занялся их систематическим изучением. Само слово «источник» в современном значении было впервые употреблено именно в его трудах[90 - См.: Илизаров С.С. О формировании термина «исторический источник» в русской научной литературе XVIII в. // Источниковедение отечественной истории. 1984. М., 1986. С. 201–202.]. Хорошо известна и роль ученого, ратовавшего за создание исторического департамента Академии наук и первым получившего звание российского историографа, в институциональном становлении исторической науки в России, а также в распространении знаний по русской истории как внутри страны, так и за рубежом[91 - См. подробнее: Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 374–415.].
Однако наука не сводится лишь к содержательной части знания и даже к научно обоснованным методам. Наука – это еще и определенные, принятые научным сообществом практики, формы представления и распространения результатов исследования, их апробации и оценки в соответствии с определенными критериями – формальными либо неформальными, но также принятыми коллегами по цеху. Именно с этой точки зрения в данной статье и предлагается взглянуть на деятельность Миллера и его вклад в становление российской исторической науки. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению этой темы, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.