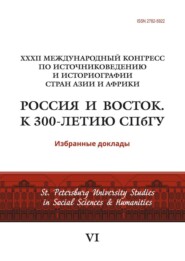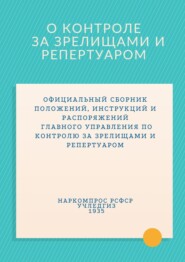По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По Эмину, Владимир избирает христианство, потому что боится обрезания. В этой – самой неканонической из всех «Историй» – кроме открытой полемики с Ломоносовым и «злободневной» апологии женского правления (тщеславному и похотливому Владимиру противопоставлялась истинная просветительница Руси Ольга), выходила на первый план та часть «Владимирского» свода, что предполагала легендарное и романическое развитие. Такое «пересечение» Лосенко с автором «Писем Эрнеста и Доравры» знаменательно, однако, как мы попытаемся показать, Лосенко не столько разрушал исторический канон, сколько утверждал иной – баснословный. Гораздо более характерным представляется другое совпадение: «Владимир перед Рогнедою» был выставлен в Академии в том же 1770 году, когда вышли в свет «Славенские древности, или Приключения славенских князей» М.И. Попова. Если прежде в чулковском «Пересмешнике» европейская новеллистическая структура была «славянизирована» на уровне имен, притом что в жанровом смысле чулковские «сказки» приближались к авантюрноплутовскому роману, то у Попова рыцари обращаются в «славенских князей», и его «Славенские древности» уже в чистом виде – волшебнорыцарский роман с элементами утопии. Наконец, в чуть более поздних «Русских сказках» Левшина фигурируют не вымышленные князья-рыцари (вроде Вельдюзя или Трухтраха), но былинные герои «киевского цикла», действие из «баснословных» дохристианских и докиевских времен переносится во времена Владимира, и это не означает «историзации» авантюрного материала, наоборот: времена исторические отныне «отдаляются», становясь «баснословными». Акцент в оппозиции «История – Басня» сдвигается, и если у Эмина события баснословные подаются как исторические, то Чулкову это кажется смешным и неуместным, а Попова всерьез заботит, чтоб читатели «не чаяли найти» в его книгах «важные исторические известия о наших древностях». В 1778 году Попов переиздает свои «сказки» под новым титулом и с «предуведомлением» о том, что «царствуют здесь одни вымыслы забавные..» и что «старый титул, как соблазнительный, превращен в Старинные диковинки, по любимой некоторых присловице Старина что диво…» [Попов:309].
О генезисе и социальных предпосылках «русских сказок» и русской массовой литературы написано немало содержательных работ. Нам остается заметить, что близкие к театральным кругам (и, как Попов, непосредственно входившие в «елагинский кружок») авторы использовали все тот же «перелагательный» принцип обращения с материалом: перелагали авантюрно-рыцарский роман на «славенские нравы». В случае лосенковского «Владимира перед Рогнедой» выделим сентиментальный акцент авторского «Изъяснения», менее всего ожидаемый в отнюдь не «сентиментальном» историческом сюжете о «разорении Полоцка». Более того, герой в этом «установочном» полотне российской исторической живописи подозрительно напоминает романных персонажей.
Возможно, в случае Лосенко имеет смысл несколько откорректировать привычное определение «высокого классицизма», равно как и уже привычную идею о типологической близости его к сумароковской трагедии. Похоже, что и в социальном, и в стилистическом отношении в конце 1760-х годов «основоположник русской исторической живописи» в большей степени сближается с «елагинским» кругом, к которому принадлежали создатели псевдоисторической славянской сюжетики Чулков и Попов. Лосенковский Владимир оказывается ближе к театрализованному «игрушечному средневековью» баженовских замков (здесь уместно напомнить, что Лосенко и Баженов – друзья, «однокурсники» и соседи по «парижской стажировке»).
Но коль скоро речь о сюжетологии, отметим, что именно в 1770-х годах возникает столь очевидная впоследствии «легендарная» и сказочная тенденция, «баснословный блеск» вокруг образа единодержавного и равноапостольного князя Владимира, а одной из главных пружин сюжета становится любострастие. В этом смысле характерна написанная полтора десятилетия спустя «масонская поэма» Хераскова. Она посвящена «выбору веры» (каноническая тема высокого Владимирского «свода»), однако интрига строится на греховной слабости князя, и пружиною сюжета становится все та же аналогия Эмина: «Но, славой окружив и пышностию трон, / Владимир под венцом был падший Соломон» [Херасков: 3].
Со ссылкой на Хераскова эта аналогия («северный Соломон во дни языческих заблуждений») несколько раз повторена в «Путешествии в полуденную Россию…» В. Измайлова, в том числе и при упоминании бедствий Гориславы, «жертвы Владимирова сластолюбия» [Измайлов: 41, 6о].
В «исторических сочинениях» на рубеже веков полоцкий эпизод довольно популярен. Причем, вопреки «рекомендательным спискам», в повестях 1790-1810-х годов чаще встречаем «сватовство Владимира», «баснословный» сюжет лосенковской картины, а не «покушение Гориславы», – философический предмет, вошедший во все проспекты и многократно там оговоренный. Выбор делается в пользу лосенковского сентиментально-галантного прочтения. По этому пути идет В.Т. Нарежный в «Рогвольде» (1798), где оссиановские пейзажи накладываются на атрибутику рыцарского романа, а Владимир из жестокого завоевателя обращается в раскаявшегося жениха и предающегося «мечтанию» «северного героя».
В повести Николая Арцыбашева «Рогнеда, или Разорение Полоцка» [Арцыбашев] от настоящей истории остались лишь имена, все прочее – баснословие и некий вполне оформившийся сюжетный канон галантно-рыцарского романа, где действующие лица – Владимир и его богатыри. Замечательна характеристика Владимира: «мужественный в битвах <… > по женолюбию последний из человеков». Соперника Владимира зовут Руальд, Владимир дважды встречается с ним в обличье таинственного незнакомца, однажды – спасает, в другой раз вступает в единоборство. Смертельно раненный Руальд произносит чувствительный монолог и уступает Рогнеду Владимиру.
Арцыбашев – активный член ВОЛСНХ, и его квазиисторические опыты следует читать в одном ряду со «славянскими» поэмами Востокова. В частности, «галантный» сюжет арцыбашевской «Рогнеды» совпадает с перипетиями «богатырской повести» «Светлана и Мстислав», которую Востоков читал на заседании ВОЛСНХ в феврале 1802 года (опубликована она была лишь четыре года спустя). Соперником Владимира в любовном поединке выступает его сын Мстислав, Владимир и здесь оказывается таинственным рыцарем, сначала – спасителем, затем – противником. Чувствительный монолог в конце произносит сам Владимир, раскаявшийся «в страсти злой» и уступивший сыну прекрасную Светлану. Поединок отца с сыном, вероятно, аллюзия на поэму Оссиана «Картон».
Таинственным рыцарем «под забралом» впервые является Владимир в анонимной повести «Рогнеда». Замечательна сцена любовных клятв и «извинений» – своего рода пояснительный текст к картине Лосенко:
Владимир, исполнив обет разорением Полоцка, делил в душе своей горести Рогнедины, которых он был виновником. <… > – Любовь, может быть, смягчит жало твоей скорби. Клянусь: каждый миг буду угадывать и предупреждать твои желания; прежде камень всплывет и хмель потонет, нежели любовь моя изменится» [Рогнеда: 85].
Клятвы галантного рыцаря выдают в нем «северного героя». Того же происхождения, надо думать, возникающие в этом тексте «тени предков». Вначале Ярополк умоляет тень родительскую (Святослава) сопутствовать ему в войнах, затем, ближе к развязке, тень Рогвольда является Рогнеде и призывает ее к мщению:
Однажды <… > нечто похожее на пар, холодом зимы ощущаемый, мелькнуло мимо Рогнеды. «Несчастная!» вещал ей голос, «Ты зришь перед собою неуспокоенную тень умершего, тень – отца твоего!» [Рогнеда: 92].
Далее следует «рекомендованный сюжет» о мести Рогнеды и о прощающем ее Владимире. Неизвестный автор вслед за Херасковым и Карамзиным дает понять, что месть присуща язычникам, тогда как прощение – добродетель христианина: Владимир отправляется за советом к христианскому старцу, после чего прощает Рогнеду.
Позже, в 1820-1830-х годах, акцент «полоцкого сюжета» вновь переносится с баснословного «сватовства Владимира» на «рекомендованную» историю о мести язычницы и прощении христианина. Сюжет этот в свое время разрабатывался в русской трагедии, «Идолопоклонники…» Хераскова восходят к «Владимиру Великому» Ф. Ключарева. Вероятно, в этом ряду должна была стоять дошедшая до нас в отрывках трагедия Андрея Муравьева «Владимир» (другое название – «Падение Перуна»). Муравьев признавался, что изобразил Рогнеду «дикой и страстной» язычницей. Пейзаж у него – оссиановский, богатыри – «северные герои», о времени действия свидетельствует реплика Ильи Муромца: «Все ныне замерло, все дремлет в тяжком сне. / Князь битвы позабыл, нет слуха о войне. / Владимир верою занялся лишь одною…» [Муравьев: 262].
Если прежде реалии оссиановских поэм переносились в старокиевские сюжеты по логике «баснословия», как дела давно минувших дней
, то несколько позже, под влиянием Карамзина, те же реалии определяют конфликт язычества и христианства, а «северный герой» становится синонимом языческого варвара. Ср.: «С варварством, свойственным любому Норманну, Владимир силою увлекает Княжну Полоцкую делить с ним трапезу и ложе» [Рогнеда: 89].
Особняком стоит рылеевская «Рогнеда» («Думы», V): как бы минуя «случай Лосенко» и сложившуюся вслед за ним баснословно-сентиментальную инерцию, Рылеев пытается вернуть «исторический предмет» высоким жанрам. Он сопрягает элементы оды, классицистической трагедии и большой «северной элегии». Баснословного «шлейфа» как не бывало, идеальный монарх Рогвольд противопоставлен «тирану» Владимиру, Рогнеда одержима языческой местью («веленье Чернобога»), однако речи ее восходят к риторике просветительской оды:
С какою б жадностию я
На брызжущую кровь глядела,
С каким восторгом бы тебя,
Тиран, угасшего узрела!..
[Рылеев: 124]
Жанровый эксперимент породил известную дискуссию (о ней см.: [Мордовченко: 82–84]), но вряд ли почитался за удачу и развития не получил. В конечном счете, как видим, в 1820-1830-х годах верх берет «рекомендованный сюжет» в карамзинском прочтении: «дееписатели» предпочитают историю о мести и прощении, истолкованную как конфликт вер и противоположение языческой дикости христианскому милосердию.
С известного момента жанровая грань между Историей и Басней проходит через эпоху Владимира: пора «языческих заблуждений» окружается «баснословным блеском», и лишь христианская история дает пищу для сочинений в историческом роде. Баснословные времена не годятся для «романов в роде Вальтера Скотта»: в них недостает «нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта», всего, что требуется для прочтения истории «домашним образом».
В этом смысле показательна литературная судьба «Аскольдовой могилы» М.Н. Загоскина. Загоскин пытается соединить баснословный материал с элементами «вальтер-скоттовского романа», он обращается к «повести из времен Владимира I» уже после успеха «Юрия Милославского» и «Рославлева». Притом «Аскольдова могила» сознательно театрализована, а зачин фактически возвращает нас к батюшковской повести «Предслава и Добрыня» и «Старинным диковинкам» Попова:
Пусть называют мой рассказ баснею: там, где безмолвствует история, где вымысел сливается с истиной, довольно одного предания для того, кто не ищет славы дееписателя, а желает только забавлять русских рассказами о древнем их отечестве [Загоскин: и].
Между тем пружиною сюжета стал конфликт исторический – попытка «языческого» реванша, столкновение «старины» (жрецы, сторонники Аскольда и Дира) и «новизны» (потомки Рюрика и христиане). «Провокатор» интриги, явившийся в Киев «Незнакомец», – вполне вальтер-скоттовский персонаж и мало похож на таинственного рыцаря под забралом, непременного героя сказочных романов. О «сватовстве Владимира» упоминается вскользь в контексте «языческих заблуждений северного Соломона», зато история о мести Рогнеды становится едва ли не кульминацией повествования. Причем характерно сгущение «северного» колорита, напоминание о «варяжских корнях» полоцкой княжны, явление варяжского скальда Фенкала, вручившего княгине «меч Рогвольда» и т. д. Однако в 1830-х годах такое смешение истории с баснословием выглядит безнадежной архаикой. Загоскин, похоже, понимает свою ошибку и переделывает квазиисторический роман в сказочную оперу: он убирает из либретто сюжет о крещении и все, что с ним связано, оставляя лишь «вымыслы». Кажется, именно поэтому, наперекор давнему замечанию Жуковского [Жуковский: IV, 469–470], заменяет он Владимира на Святослава. Если в 1810 году Жуковский объясняет выбор героя «привычкой» «окружать Владимира <.. > баснословным блеском», то к середине 1830-х История окончательно вытесняет Басню в литературную маргиналию, в «сказки, оперы, фантазии и фантасмагории» [Белинский: II, 115]. Центральным событием «Владимирского» – и шире – «киевского» сюжетного комплекса вновь становится крещение, при этом история и идеология более не оставляют места для баснословных вымыслов.
Примечания
РО РНБ. Архив Академии художеств. Д. 46.
Первый историк Академии художеств П.Н. Петров ссылался на биографическую легенду, согласно которой Дмитревский позировал для образа Рогнеды: «Дмитревский, наряженный Рогнедою и убранный руками самой Императрицы, гордился даже страстностью выражения лица своего, служившего прямою моделью художнику» [Петров: 151]. Некоторые основания для такой легенды, вероятно, существовали. Однако советские историки живописи опирались на свидетельство А. Оленина о том, что Дмитревский позировал для образа Владимира, и пытались доказать это, ссылаясь на якобы имеющее место портретное сходство. Между тем очевидно, что никакого портретного сходства с Дмитревским ни у Владимира, ни у Рогнеды нет: лица героев условны, «идеальны» и лишены какой бы то ни было портретности. Театральная экспрессия, как это и принято в классицистической живописи, заключена в позах и жестах. Не исключено, что Дмитревский представлял обоих персонажей.
Ср., например, «народную балладу» Федора Иванова «Рогнеда на могиле Ярополковой» (1808). Годом прежде Иванов переложил «русским складом» «Плач Минваны». Рогнеда оплакивает своего героя в том же шотландском пейзаже: «Вот те холмы величавые, / Прахи храбрых опочиют где; / Вот и камни те безмолвные, / Мхом седым вокруг поросшие. / Вижу сосны те печальные, / Что склоняют ветви мрачные / Над могилой друга милого…» [Поэты: 334].
Литература
Арцыбашев / Арцыбашев Н. Рогнеда, или Разорение Полоцка // Северный вестник. 1804.
Батюшков / Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.
Белинский / Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959.
Востоков / Востоков А.Х. Стихотворения. Л., 1935-
Жидков / Жидков Г.В. Русское искусство XVIII века. М., 1951.
Жуковский / Жуковский В.А. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1959–1960.
Измайлов / Измайлов В. Путешествие в полуденную Россию в 1799 году. М., 1805.
Загоскин / Загоскин М. Аскольдова могила. М., 1833.
Каганович / Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963.
Карамзин / Карамзин Н.М. О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств. Письмо к господину N.N. // Вестник Европы. 1802. Ч.6. С. 289–308.
Левин / Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе: Конец XVIII – первая треть XIX в. Л., 1980.
Ломоносов / Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В и т. М.; Л., 1950–1983.
Молева, Белютин / Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств в XVIII веке. М., 1956.
Мордовченко / Мордовченко Н.И. Рылеев // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1953. Т. 6.
Муравьев / Муравьев А. Рогнеда. Отрывок из лирической трагедии // Атеней. 1830. Ч. I. С. 259–267.
Петров / Петров П.Н. Антон Лосенко // Северное сияние. СПб., 1864.
Писарев / Писарев А. Предметы для художников, избранные из Российской истории, Славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе. СПб., 1807.
Погодин / Погодин М. Письмо о русских романах // Северная лира на 1827 год. М., 1984.
Попов / [Попов М.И.] Старинные диковинки // Библиотека русской фантастики: В 20 т. М., 1992. Т. 3.
Поэты / Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971.