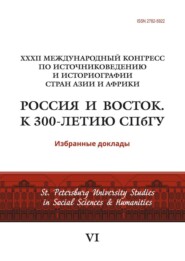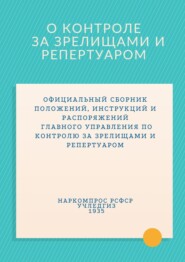По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культура и мир
Автор
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наряду с проектами конного монумента Растрелли в 1722 г. выполнил модель колоссальной статуи Петра, которую предполагалось поставить на Васильевском острове против заложенного в том же году здания Двенадцати коллегий. Годом позже Растрелли создал бронзовый бюст императора.
В конечном варианте конная статуя, выполненная Растрелли, примыкает к традиции, которую широко развила в европейской культуре эпоха абсолютизма в целях прославления властелина и военачальника. Истоки этой традиции восходят к позднеантичной пластике, в частности, статуе римского императора Марка Аврелия (II в до н. э.), которая стала источником воодушевления для художников Возрождения и барокко. Европейским скульпторам XV–XVIII веков эта статуя представлялась классическим образцом монумента, прославляющего монарха и победителя. Создавая статую Петра I, Растрелли опирался на концепцию памятников, оформившуюся в эпоху абсолютизма. Глубокой идейной основой монументальной скульптуры итальянского барокко и французского классицизма стала социально-политическая доктрина, возникшая в европейской общественной мысли на исходе XVI в., когда монархия возглавила процессы централизации и национального объединения. Во второй половине XVII в. в центре европейского абсолютизма – при дворе Людовика XIV – идеи монархии развивал и обосновывал Жак-Беннинь-Боссюэ. Публицистика формировала в общественном сознании идеализированный образ монарха – благодетеля своей страны, победителя внешних врагов и мудрого законодателя, непрестанно заботящегося о благе подданных. Растрелли принадлежал своей эпохе и разделял ее политические воззрения. Своим монументом он вводил Петра в ряд выдающихся монархов Европы. Используя достижения сложившейся традиции (статуя Людовика XIV Жирардона, монумент Фридриху-Вильгельму II бранденбургского курфюрста работы Андреаса Шлютера и других), Растрелли создал импозантный образ Петра как воплощение идеала абсолютизма. Семантика памятника раскрывает эту идею: Петр изображен в одежде римского цезаря, на нем горностаевая мантия с изображениями двухглавых орлов – имперская символика, в руке он держит маршальский жезл – атрибут полководца. Петр представлен победителем, увенчанным лавровым венком, листья которого простираются ввысь подобно языкам пламени. Фигура всадника и коня представляют собою гармоничную, торжественно-монолитную пластическую группу. Главной темой монумента является не борьба за новую Россию, как это было в дальнейшем реализовано в памятнике Петру работы Фальконе, а торжественный апофеоз исторического подвига. Следует отметить, что впоследствии Э. Фальконе создавал свой монумент, опираясь на существовавшие к тому времени исторические оценки личности и деяний Петра Великого, данные, в том числе, Вольтером и Ломоносовым. Его миф о герое-преобразователе отвечал идеалами просвещенного абсолютизма, активно продвигаемого в качестве своего сценария власти Екатериной II. Растрелли же был современником Петра, его творчество непосредственно служило художественному воплощению сценария власти, идеологом и созидателем которого был сам основатель Российской империи. В этом отношении очень показательно сравнить бюст Петра, созданный Растрелли и конную статую императора. Все впечатления от Петра как личности, проявленные в скульптурном портрете (бюсте) переплавляются в монументе в обобщенный образ «персоны» императора.
Монологизм абсолютной власти предполагал запрет на сомнения. Миф о непогрешимости монарха мог быть развенчан лишь в следствие смены парадигмы власти.
После смерти Петра в 1725 году и скульптора Растрелли в 1744 г. судьба памятника оказалась заложницей сценария дворцовых переворотов и династических интриг, когда по образному выражению В. О. Ключевского, государственная власть замкнулась «во дворце со случайными и быстро меняющимися хозяевами» (Ключевский 1958: 330). Интерес к памятнику, работу над которым продолжил сын скульптора, архитектор В. В. Растрелли, сохранили лишь приверженцы дела Петра, которые дорожили традициями его преобразований. М. В. Ломоносов в 1750 г. подготовил несколько стихотворных надписей к статуе. Семантика образов стихотворного текста отвечает общему мифогероическому сценарию петровской эпохи. Петр – «премудрый герой», чьи деяния, служение направленные на созидание. Он должен восприниматься благодарными потомками как «земное божество», которому воздвигнуты алтари благодарными сердцами.
Се образ изваян премудрого героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
………………………………
И словом, се есть Петр, отечества отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько алтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.
(Ломоносов 1954: 184)
В целом коммеморативная традиция абсолютной монархии создавала образ «идеальных предков». Действующий монарх мог избирательно обращаться к образу «идеального предка», обозначая тем самым линию преемственности в своем сценарии власти. Это фиксировалось, в частности, в том, кому именно из предшественников возводились памятники с волеизъявления правящего монарха. Памятник Петру Великому, созданный К. Б. Растрелли, был в конечном итоге установлен волей Павла с символической надписью «Прадеду правнук. 1800». Эта лаконичная надпись была символической формулой династического сценария власти, закреплявшей легитимность наследования от великого героического предка Петра законным обладателем императорской короны – Павлом. Она создавалась в пандан надписи на монументе Фальконе «Петру I – Екатерина II», закреплявший ее сценарий преемственности власти как продолжательницы дела великого преобразователя России.
Установка монументов в честь того или иного предшественника отражала тенденцию поиска «идеального предка», подкреплявшего эпическими деяниями сценарий власти потомка. Так, например, в эпоху Николая I не было случаев установки памятников Екатерине II. Николай Павлович не любил своей бабки, ее либеральный сценарий власти был ему чужд. Идеал надличностного порядка, который был основой сценария Николая I, олицетворял для него образ отца – Павла I. В царствование Николая I было установлено два памятника Павлу перед его бывшими резиденциями – в Гатчине и Павловске. Памятники прабабке установил Александр II, разделявший ее дух либерализма, стремившийся к смягчению сценария самодержавия законом и культурой.
Историческая традиция абсолютной монархии – это мир эпопеи. «Мир эпопеи – национальное героическое прошлое, мир «начал» и «вершин» национальной истории, мир отцов и родоначальников, мир «первых» и «лучших» (Бахтин 1975: 447–483). Эпопея, как известно, обращена к прошлому. Имманентная эпопее установка – благоговейная установка потомка. Эпопея предполагает «эпическую дистанцию» между прошлым и настоящим. В пространстве мифологизированного образа власти, свойственного абсолютной монархии, представители господствующих групп в известном смысле принадлежат как таковые к миру «отцов». Они отделены от остальных почти «эпической» дистанцией. Героический индивидуум (как правило, монарх) мыслится в ней в какой-то устойчивой и, с точки зрения наблюдателя, даже неподвижной картине идеального прошлого.
Библиография
1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Худож. лит., 1975.
2. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. – М., 1958.
3. Лихачев Д. С. Мифы о России. Старые и новые / Раздумья о России. – СПб.: Logos, 2001.
4. Ломоносов М. В. Стихотворения. – Л., 1954.
5. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.-Т. 7. Изд. 2-е. – М., 1958.
В. А. Авксентьев. Юг России. Природа современной конфликтности и политика идентичности[9 - Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям», программапо Югу России «Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических процессов в полиэтническом макрорегионе».]
Юг России традиционно относится к самым проблемным регионам страны и зачастую воспринимается общественным сознанием как средоточие различных рисков и конфликтов. Отчасти такое наблюдение соответствует действительности, хотя, как это обычно бывает в стереотипизированных образах, оно редуцирует многообразие процессов, происходящих в регионе, к нескольким стандартным сюжетам.
На основе экспертного опроса, проведенного в 2006 и 2007 гг. в рамках исследовательского проекта «Разработка теоретико-методологических основ региональной конфликтологии» нами было выявлено, что вторая половина первого десятилетия XXI века характеризуется умеренной динамикой конфликтного процесса на Юге России: в регионе реализуется умеренно-негативный конфликтологический сценарий (Авксентьев и др. 2008: 162–201). Ядром регионального конфликтного процесса является затяжной этнополитический кризис, который дает периодические пики эскалации региональных, локальных и блоковых конфликтов, в том числе всплески террористической деятельности. Основным фактором, поддерживающим относительно высокий уровень конфликтности в регионе, является экономический. Наряду с традиционными для региона депрессивных характером экономик значительной части субрегионов, бедностью населения, безработицей, на современном этапе регионального развития появились новые: анклавный характер развития южнороссийского макрорегиона, возникновение новых линий регионального раскола на быстро модернизирующиеся территории и территории с экономической демодернизацией и архаизацией. К числу новых конфликтогенных факторов экономического порядка относятся приход в регион московского капитала и его взаимодействие с капиталом региональных этнополитических элит, передел земельной собственности и др.
Но экономические факторы и компоненты регионального конфликтного процесса не исчерпывают всего многообразия конфликтных напряжений, составляющих реальную жизнь южнороссийского социума. Во второй половине десятилетия на ведущие позиции в иерархии конфликтогенных факторов выдвинулся этнокультурный, которой в середине десятилетия занимал последнее место среди шести наиболее значимых факторов, определяющих динамику регионального конфликтного процесса (рис. 1).
Снижение значимости этнокультурного фактора в региональных конфликтных процессах в начале текущего десятилетия свидетельствует о феномене деполитизации этничности – явлении, отмеченном многими экспертами на Юге России. Относительная деполитизация этничности может быть оценена как позитивный результат этнополитического менеджмента в масштабах всей страны и Юга России в частности. Этот процесс создавал благоприятную возможность для проактивного и проективного изменения этнополитической ситуации в регионе – возможность, оставшуюся нереализованной. 2004–2005 гг. характеризуются эскалацией региональных конфликтных процессов, в ходе которых произошло новое резкое повышение значимости этнокультурного фактора в региональном политическом процессе – реполитизация этничности. И хотя этнический фактор региональной конфликтности уступает лидерство экономическому и внутриполитическому, он опережает такие важные для Юга России факторы общественной жизни, как миграционный, геополитический и конфессиональный.
Рис. 1. Динамика факторов, влияющих на региональный конфликтный процесс в середине первого десятилетия XXI века: (на основе экспертных опросов 2006 и 2007 гг.).
Условные обозначения: 1 – экономический фактор, 2 – внутриполитический, 3 – миграционный, 4 – геополитический, 5 – конфессиональный, 6 – этнокультурный (Авксентьев и др. 2008: 173)
Обращает внимание тот факт, что эксперты в указанном исследовании поместили конфессиональный фактор региональной конфликтности на последнее место, хотя конфессиональные проблемы и конфессиональная риторика занимают заметное место в общественно-политическом дискурсе. Объясняется это спецификой исследования – именно экспертным, а не массовым опросом. Эксперты четко различают собственно конфессиональные проблемы, напряжения и конфликты, действительно имеющиеся в регионе, и использование конфессионального фактора и конфессиональной риторики в политическом процессе как инструмента достижения внеконфессиональных политических целей, чаще всего связанных с групповой мобилизацией, например, в предвыборный период.
Отдавая приоритеты в детерминации регионального конфликтного процесса на Юге экономическим и внутриполитическим факторам, эксперты фиксируют определенное значение культурных компонентов и детерминант этого процесса. Однако значимость этих факторов несколько снизилась по сравнению с первым постсоветским десятилетием (табл. 1).
Таблица 1. Изменение иерархии основных конфликтогенных факторов на Юге России в первом десятилетии XXI в. по сравнению с 1990-ми гг.
Примечание. Среднее место в рейтинге исчисляется как среднеарифметический результат в рейтинге пяти наиболее значимых конфликтогенных факторов из восьми предложенных экспертам.
Из таблицы видно, что в 1990-е гг. главными факторами, определявшими динамику регионального конфликтного процесса, были факторы исторического порядка, первым из которых является нациестроительство в первые десятилетия советской власти. Его результатом является мало изменившаяся с тех пор система этнофедерального устройства страны. Вторая основная тема – депортации ряда народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Этот сюжет выступил в 1990-е гг. в качестве основной исторической травмы, вокруг которой формировалось этническое самосознание целых народов.
Обращение к историческому материалу в формировании этнического самосознания народов в постсоветский период приобрело в регионе массовый характер. Как отмечают В. А. Кузнецов и И. М. Чеченов, «этническая психология народов Кавказа, их самосознание неразрывно связаны с их историей. Свойственные кавказцам уважение к предкам и их деяниям, глубина исторической памяти, фиксированная не только в хрониках, но и в исторических преданиях, генеалогиях, эпосе, особенности социально-экономического и культурного развития – все это обусловило формирование менталитета, тяготеющего к истории… Без преувеличения можно сказать, что история сегодня стала инструментом этнокультурной самоидентификации народов, она в немалой степени формирует общественное сознание» (Кузнецов, Чеченов 2000: 55).
Наиболее важными темами исторических исследований (включая псевдо– и параисторические публикации) являются три взаимосвязанных сюжета: первый – удревление истории собственного народа, отождествление современного этноса с его этническими предками; второй – объединение истории собственного народа с какой-либо крупной региональной цивилизацией древности или средневековья; третий – актуализация исторических травм.
Однако значимость этих сюжетов в региональном социальном дискурсе постепенно сокращается. Это не означает, что они исчезают полностью – историческое сознание по-прежнему остается важнейшим компонентом самосознания северокавказских народов. Однако из центра социального дискурса эти сюжеты перемещаются на периферию, на их место приходят факторы современной жизни, прежде всего экономический и политический. Можно с осторожностью констатировать, что вектор самосознания северокавказского социума постепенно перемещается с прошлого на настоящее. Хотя по-прежнему северокавказские общества можно считать традиционалистскими, и на их жизнедеятельность оказывают значительное влияние традиционные социальные институты, действующие зачастую на основе многовековой истории, активные миграционные процессы, горизонтальная мобильность населения, высокий уровень образования, в том числе высокая ценность высшего образования, содействуют становлению новых мотивов социального поведения людей, особенно молодежи. Сами традиционные институты активно вовлечены в современные социально-экономические и политические процессы, в первую очередь в борьбу за собственность и власть.
Все это позволяет говорить о том, что переходный период закончился и в южнороссийском макрорегионе и что дальнейшее развитие этой территории происходит на новых основаниях, противоречивых, конфликтогенных, но тем не менее, содержащих определенный потенциал модернизационного развития. Уменьшилось влияние таких популярных в 1990-е гг. конфликтогенных мифов, как миф о несовместимости кавказцев и славян, об особой «кавказской цивилизации» и др., им на смену приходят современные мифы и идеологемы.
Вместе с тем, окончание переходного периода на Юге России не означает, что в регионе сформировалась определенная система социально-политических и духовных процессов: региональный социум, вместе со всей страной оказался в состоянии транзита, в котором изменения становятся самоцелью, имитируют целеполагание. Такое состояние социальных процессов препятствует преодолению современного кризиса идентичностей в России, который на Юге осложняется рядом факторов.
Кризис идентичности – явление, хотя эмоционально тяжело переживаемое его носителями, сам по себе, как и большинство кризисов, имеет функциональный характер. Как отмечает В. Хесле, «несмотря на серьезную опасность нестабильности, кроющуюся за каждым кризисом коллективной идентичности, невозможно оценивать последние исключительно отрицательно. Если бы не было кризисов идентичности, не было бы и прогресса индивидов и институтов; значит, следует не избегать кризисов идентичности, но направлять их в правильное русло. Можно даже сказать, что более глубокий кризис идентичности всегда является результатом умелого преодоления кризиса» (Хёсле 1994: 112–123). Вслед за Эриксоном, считавшим кризисы идентичности нормативным явлением в развитии человека, можно утверждать, что кризисы коллективной идентичности – нормативные социокультурные явления, обеспечивающие саморазвитие социума и его подсистем. Вместе с тем, функциональность кризиса идентичности, как и любого кризиса, заключается не в нём самом, а в выходе из него, который может состояться как по конструктивному, так и по деструктивному пути.
Позитивная сторона кризисов коллективной идентичности заключается в том, что они стимулируют активную интеллектуальную деятельность, в рамках которой продуцируются многие новые и пересматриваются и уточняются прежние концепции. В этих условиях выдвигаются интеллектуальные лидеры, способные существенно влиять на духовно-нравственные процессы в том или ином социуме.
Важно отметить, что целенаправленное формирование новых идентичностей в условиях быстроменяющегося мира является одной из ключевых задач социального управления в современной России и инструментом преодоления ряда негативных тенденций в общественной жизни. Что касается России как страны-цивилизации, формированию российской позитивной идентичности уделяется серьезное государственное внимание только последние два-три года. В постсоветский период российское общество прошло через несколько этапов стихийно-негативного формирования новой идентичности.
Первый – ранний романтический период реформирования российского общества – этап чёткой ориентации на западные ценности и нормы жизни. Для этого периода было характерно убеждение в том, что в течение короткого исторического отрезка Россия, по представлению реформаторов раннего постсоветского периода, не имеющая аутентичной ценностной системы, отвечающей реалиям современного мира, интегрируется в западный мир в качестве равноправного партнера, построит общество по западному образцу и вступит в политические структуры западной цивилизации. Необходимо отметить, что, несмотря на очевидный провал этой стратегии, она по-прежнему имеет немало приверженцев среди российской политической, интеллектуальной и бизнесэлиты.
Второй этап – с середины 1990-х гг. – характеризуется отходом значительной части интеллектуальной элиты от столь упрощённой схемы, рост популярности неоевразийства, появление идей автаркии как защитной реакции на изменяющуюся ситуацию в мире. Этот период можно обозначить как кризис западного вектора российской идентичности.
Третий этап – первое десятилетие XXI века – характеризуется новым поиском своеобразной интегрированной российской идентичности, которая бы была основана на собственном цивилизационном фундаменте и в то же время отражала реалии XXI века.
Несмотря на благоприятный социально-экономический и политический фон формирования современной позитивной российской идентичности, пока не определены пути гармонизации нескольких уровней идентичностей: гражданской, страновой, региональной, этнической, локальной и др.
Для Юга России эта проблема является одной из наиболее важных. Конфликт общероссийской и региональной идентичностей, становление мощных этнополитических идентичностей и реализация концепции «этнической правосубъектности» в советский и постсоветский периоды привели к необходимости согласования по крайней мере двух «конфликтующих» пластов макросоциальной идентичности – общегосударственной, надэтнической, цивилизационной или этатистской, с одной стороны, и этнической, культурной – с другой. При этом последняя функционирует в современном российском обществе не столько в социокультурном контексте, сколько в политико-правовом. Для преодоления гипертрофированности этнополитических идентичностей в современной России (что, действительно, является актуальной задачей) была реанимирована идея «российской нации», которая, по мнению ее сторонников, должна стимулировать становление современной этатистской, гражданской идентичности, в чём действительно так нуждается российское общество.
Современный либерально-западный социум, формально декларируя диалог культур, нивелирует культурное своеобразие в пользу идеи мультикультурализма, следствием чего является актуализация ценностных компонентов социальных конфликтов. Это вызывает ответную реакцию со стороны традиционалистских обществ, реакцию отторжения не столько содержания самих ценностей, сколько декларирования их универсального и обязательного для всех характера. Возникают радикальные антизападные гиперидентичности, которые существенно актуализируют роль региональных идентификационных маркеров (этничность, конфессия) как альтернативы мультикультурному универсализму.
Одним из ключевых компонентов этого конфликта идентичностей в постсоветской и современной России является религиозный ренессанс. Этот процесс выходит далеко за рамки собственно конфессиональной сферы и породил ряд новых явлений. В южнороссийском социуме, в частности, это проявляется в виде религиозного фундаментализма и экстремизма, участия религиозных деятелей в политических и электоральных процессах, использование конфессионального фактора в целях политической мобилизации. Роль политизированной религиозности в северокавказском регионе усилилась к концу 1990-х и в начале 2000-х гг. на фоне снижения роли политизированной этничности, но одновременно снижается с середины первого десятилетия XXI века на фоне реполитизации этничности. Также серьёзной проблемой для стабильности современного российского общества становятся внутриконфессиональные противоречия, существующие как в православии, так и в исламе.
Религиозный фактор может стать одним из важнейших инструментов этнополитической мобилизации на Юге России, что требует своевременного учёта новых идентификационных вызовов. Сегодня в России обращение к религии становится скорее актом макросоциальной идентификации, чем результатом духовных исканий современного россиянина. В таком случае конфессиональный фактор, не выступая в качестве потенциального источника конфликтов сам по себе, может сыграть заметную роль в формировании базы конфликтов идентичностей (Авксентьев и др. 2006: 41).
Интерес российских граждан к религии обусловлен как мировыми тенденциями – повышением значимости конфессиональных идентичностей на фоне относительного снижения роли этнических идентичностей, так и собственно российскими особенностями – массовым распространением аномалий социокультурной субъектности. В условиях посткризисного развития российского социума возникает потребность в реальной или символической компенсации последствий кризисного этапа развития, нередко принимающей крайние формы в виде религиозного фанатизма, нетерпимости и агрессии по отношению к неверующим и представителям других конфессий. И хотя вероятность конфликтов, которые с достаточной корректностью можно идентифицировать как религиозные (межконфессиональные), невелика (Авксентьев и др. 2005: 44–50), эскалация напряжённости в поликонфессиональных регионах вполне возможна, причём по различным направлениям: как внутри одной религии, между ее деноминациями или группами, так и между разными религиями или между религиозным и секулярным миром. Фундаментализм стремится установить и поддерживать основные, не подлежащие обсуждению критерии истинной религиозной идентичности. Серьёзную проблему на Юге России для становления современной российской идентичности представляют новые религиозные движения, выхолащивающие внутреннюю структуру христианства и ислама и разрушающие традиционные для российского социокультурного пространства механизмы групповой и индивидуальной идентификации.
Библиография
1. Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Хоц А. Ю. Конфессиональная идентичность в конфликтном регионе // Социс. – 2006. – № 10.
2. Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Хоц А. Ю., Шнюков В. В. Исследование конфликтного и деструктивного потенциала религиозной сферы Ставропольского края: постановка проблемы и предварительные результаты исследовательского проекта // Вестник отдела социально-политических проблем Кавказа Южного научного центра РАН. – 2005. – № 1.