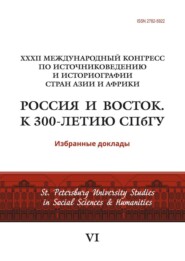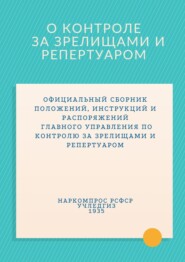По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…История вкладывает ему [писателю. – С. З.] в руки богато украшенный, хотя и компрометирующий инструмент – письмо, унаследованное от прошедшей и уже чужой для него Истории, письмо, за которое он не несет никакой ответственности, но которым, однако, только и может пользоваться[46 - Барт Ролан. Нулевая степень письма. С. 112. Перевод Г. К. Косикова.].
Итак, образуется оппозиция между двумя формами ответственности, которые имплицитно противостоят друг другу как в традиционном понятии «языка», так и в новоизобретенном понятии «письма» и которые соответствуют двум осям этого отношения: наряду с частной ответственностью перед другими людьми (единомышленниками, партнерами и т. д.), вытекающей из более или менее осознанного выбора, предполагающей селекцию конкретных форм – что-то одно, а не другое, – бывает еще и тотальная ответственность за не всегда осознанное и даже вынужденное приятие общих форм. Эти две разные ответственности мы берем на себя посредством «выбора» (choix) или «согласия» (assentiment); различение этих понятий Барт намечал еще в одной из своих театральных рецензий 1956 года[47 - Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. I. P. 556.], а затем посвятил ему специальный фрагмент «Согласие, а не выбор» в книге «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975). «Выбирать» – это воинственный акт разрыва, его совершают «как бык вылетает на окруженную людьми арену», а «соглашаться» – значит «молчаливо идти навстречу», без противопоставления «своего» и «чужого», без драматической негативности[48 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 57.]. Можно определить две формы ответственности как ответственность относительную и абсолютную; или как ответственность селективную и интегральную; или, наконец, как ответственность социополитическую и экзистенциальную.
Последний термин обусловлен вероятным источником данной оппозиции у Барта: это философия Сартра, который оказывал сильное влияние на него в послевоенные годы. «Частная» ответственность близко соответствует сартровскому понятию ангажированности. Любопытно, однако, что в книге «Что такое литература?» (1948), где специально обосновывается понятие ангажированности, Сартр лишь очень редко пользуется словом «ответственность», причем в значении существенно отличном от писательской ангажированности:
…писатель намеревается обнажить мир, и в особенности человека, для других людей, чтобы эти последние, перед лицом обнаженного таким образом объекта, взяли на себя полную ответственность за него[49 - Сартр Жан-Поль. Ситуации. М.: Ладомир, 1997. С. 32. Перевод С. Р. Брахман.].
Сходную мысль высказывает и Барт в конце «Мифологий», ставя перед семиотической наукой о мифах задачу разоблачения (у Сартра – «обнажения») самих мифов и затемняемой ими действительности:
…таким образом, ее разоблачения – политический акт; опираясь на идею ответственности языка, она тем самым постулирует и его свободу[50 - Барт Ролан. Мифологии. С. 320 («Необходимость и пределы мифологии»).].
Ответственность здесь возлагается не столько на писателя (по Сартру) или «мифолога» (по Барту), сколько на его читателей, которых он стремится сделать ответственными с помощью своих книг, и именно в таком делании ответственными в конечном счете состоит его ангажированность и их «политический акт»[51 - Ср. позднейшую авторскую оценку книги «Мифологии» и теоретического послесловия к ней: «…в научном отношении оно, быть может, и устарело, но то был эйфорический текст, так как он ободрял ангажированного интеллектуала, давая ему в руки инструмент для анализа, а исследование смысла делал ответственным, наделяя политической действенностью» (Ролан Барт о Ролане Барте. С. 227, статья «Семиологическое приключение», 1974).]. Он ответствен за то, чтобы ставить других людей «перед лицом» реальности, выводить их из неосознанного состояния «в-себе» к рефлективности «для-себя»; такая ответственность относится к сфере экзистенциальной морали, к числу обязанностей бытия-перед-лицом-мира.
И все же такая глобальная ответственность сама по себе вытекает из выбора – выбора определенной карьеры и профессиональной корпорации. Сартр трактует об этом аспекте проблемы в той же своей книге «Что такое литература?»:
…писать <…> значит заниматься определенным ремеслом. Ремеслом, которое требует обучения, постоянного труда, профессиональной добросовестности и чувства ответственности. Эту ответственность открыли не мы, напротив, целых сто лет писатель мечтает унестись в своем искусстве в некую сферу невинности, находящуюся над Добром и над Злом, так сказать, в сферу догреховную[52 - Сартр Жан-Поль. Указ. соч. С. 194. Перевод С. Р. Брахман.].
Сартр здесь разоблачает иллюзорную «невинность» писателя, основанную на слишком узко понимаемой, чисто профессиональной ответственности. Барт предлагает более объективный, не моралистический, а социологический подход в статье «Писатели и пишущие» (1960). Оппозиция двух ее заглавных терминов в целом соответствует оппозиции «чистых писателей» и «ангажированных интеллектуалов»: последние совершают выбор между разными культурными «диалектами (например, марксистским, христианским, экзистенциалистским)»[53 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 138.] – между конфликтующими между собой «социолектами», как назовет их Барт позднее (в статье «Война языков», 1973). Пишущие – «люди „транзитивного“ типа»[54 - Там же. С. 137.], люди проекта, за который они отвечают как за однажды сделанный выбор. Тем более примечательно, что термин «ответственность» применяется в статье не к ним, а как раз к другой категории литераторов, к «писателям», практикующим нетранзитивное, самодостаточное письмо:
От писателя можно требовать ответственности, но и здесь надо еще объясниться. Тот факт, что писатель несет ответственность за свои мнения, здесь несуществен; не так важно даже, принимает ли он более или менее осознанно идеологические выводы, вытекающие из его произведения; настоящая ответственность писателя в том, чтобы переживать литературу как неудавшуюся ангажированность, как взгляд Моисея на обетованную землю действительности (такова, например, ответственность Кафки)[55 - Там же. С. 136–137. Упоминание Кафки может отсылать к статьям Мориса Бланшо об этом писателе, напечатанным, например, в его книге «Пространство литературы» (1955). Эссеистика Бланшо, его анализ безмолвия как предела речи – еще один вероятный философский источник идеи писательской ответственности у Барта.].
Таким образом, писателю присуща своеобразная «ограниченная ответственность», точнее, ответственность за неответственность: она заключается не в том, чтобы занимать некоторую идеологическую позицию (посредством «мнений» и «идеологических выводов»), а как раз наоборот – в том, чтобы не делать выбора, улавливая мир и язык в самой их неоднозначности. Литературное письмо – это искусство нейтральности, которая в 70-х годах станет одной из главных идей Барта, темой одного из его лекционных курсов; это искусство не занимать ангажированную позицию, глядеть на нее со стороны, словно на недостижимую землю, и – диалектический переворот – только такой ценой оно может взять на себя ответственность за мир, принимаемый как человеческая свобода. Такая идея интегральной ответственности все более преобладает у Барта, и именно поэтому в 1978 году он может позволить себе вызывающе отречься от селективной ответственности, готовности безотлагательно отвечать, занимать позицию по тому или иному вопросу[56 - Ср. в «Писателях и пишущих»: «Функция пишущего – всегда и всюду без промедления высказывать то, что он думает» (Барт Ролан. Избранные работы. С. 139); и, с другой стороны, тенденцию позднего Барта «временно» откладывать свои реакции: «Закрыто для суждений по случаю ежегодного отпуска» (Barthes Roland. Le Neutre. P. 254).]. Но, еще раз, не будем забывать: ответственность писателя является профессиональной (в ее основе, по Сартру, «ремесло» [mеtier] или, по Барту, «стиль как ремесло»[57 - Барт Ролан. Нулевая степень письма. С. 94. Перевод Г. К. Косикова.] [artisanat du style]), то есть она сама опирается на некоторый изначальный выбор – выбор писательской карьеры. В основе ее внепозиционного универсализма лежит определенная социальная позиция.
Эту двойную идею ответственности можно проследить в ряде концептуальных оппозиций Барта – на разных, эксплицитных или имплицитных уровнях его мысли и даже на уровне развития его собственного творчества и последовательных форм, которые оно принимало.
На семиотическом уровне это понятийная пара денотация/коннотация. Чисто денотативный «реальный язык дровосека»[58 - Барт Ролан. Мифологии. С. 309.] (на самом деле сугубо гипотетический и утопический) определяется целостным и при этом ответственным действием, которое субъект совершает над объектом: «посредством этого языка я делаю предмет»[59 - Там же. С. 308.]. В противоположность этому коннотативные языки являются множественными и ангажированными, связанными с тем или иным классом, группой или политическим движением; принципиальная множественность коннотативных кодов и смыслов особенно четко заявлена в книге Барта «S/Z» (1970); правда, некоторые из них могут и сосуществовать друг с другом, не требуя выбора.
На грамматическом уровне, затронутом уже в ранней статье «Ответственность грамматики», это оппозиция субъект/предикат. Имена существительные, которые Барт часто пишет с «эссенциалистской» заглавной буквы (Литература, История)[60 - См.: Мильнер Жан-Клод. Философский шаг Ролана Барта // Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 58–100.], обладают в его глазах абсолютной, даже «конститутивной властью»[61 - Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. II. 1994. P. 1370 (статья «Пруст и имена», 1967).] над миром, как это характерно для имен собственных у Пруста. Напротив того, предикаты, особенно прилагательные, модулирующие и направляющие эту власть для тех или иных конкретных нужд, вызывают недоверие своей относительностью. Барт говорит об этом не раз, например в длинном пассаже «Прилагательное», входящем в состав лекционного курса о Нейтральном: «Нейтральному был бы нужен язык без предикации, где темы, „сюжеты“ [sujets: «темы»/«субъекты». – С. З.] не были бы ни к чему приписаны (переписаны и привязаны) их предикатом (прилагательным)»[62 - Barthes Roland. Le Neutre. P. 85.]. Иными словами, глобально-конститутивная ответственность Имени противостоит односторонней по определению ответственности предиката.
На литературном уровне это уже рассмотренная выше оппозиция язык/письмо, оба термина которой существенно эволюционировали у Барта по своему содержанию. Если в его первой книге «Нулевая степень письма» множественные и ангажированные виды письма [еcritures] противостояли единству невыбираемого, «природного» национального языка, то в позднем творчестве язык рассматривается уже не как природный, а как социально-властный, «фашистски» принудительный[63 - См.: Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. III. 1995. P. 803.], в то время как слово еcriture утрачивает множественное число и начинает пониматься как интегральная деятельность Текста, который «ощущается только в процессе работы, производства»[64 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 415 (статья «От произведения к тексту», 1971).] и снимает вариативность ангажированных «социолектов». Залогом тотальной ответственности остается «работа»: если гипотетический «дровосек» из «Мифологий» своим целостным актом труда преобразовывал конкретный объект (превращал дерево в поленья), то современный писатель через производительную деятельность Текста достигает ответственности за весь мир и вырабатывает «ответственное представление о языке», отсутствующее в «произведениях», «приписанных» к определенной цели. Подчеркивая глобальный характер «письма» (и его ответственности), Барт даже предлагал заменить им понятие личностного Автора, посредством которого новоевропейская культура привыкла осмыслять писательскую ответственность (статья «Смерть Автора», 1968); впрочем, позднее, в своем оказавшемся последним лекционном курсе он отступает от этой слишком радикальной позиции и восстанавливает идею авторства[65 - См.: Barthes Roland. La Prеparation du roman I et II. P. 276.].
На литературно-критическом уровне это оппозиция науки о литературе/критики. В книге «Критика и истина» (1967) первая из этих форм определялась (с предположительной оговоркой: «Если подобная наука однажды возникнет…»)[66 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 355. Перевод Г. К. Косикова.] как «тот общий дискурс, объектом которого является не какой-либо конкретный смысл произведения, но сама множественность этих смыслов»[67 - Там же.], а вторая – как «другой дискурс, который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу наделить произведение тем или иным смыслом»[68 - Там же. Мне уже приходилось указывать, что эта структуралистская иерархия дисциплин – глобально-унитарная «наука», надстраивающаяся над множественностью критических интерпретаций, – обратна герменевтической, которую тогда же предложил Жан Старобинский («Отношение критики», 1967). По Старобинскому, развивавшему идею герменевтического «круга» или «пути», интегрально-личностный характер этого пути противостоит множественности интерпретационных «техник»: критический путь позволяет переходить от одной техники к другой. См.: Зенкин Сергей. Теория литературы: Проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 31–37.]. Прямо выраженная здесь идея ответственности («который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу…») относится к «критике», к тому или иному ангажированному, свободно избираемому методу интерпретации; однако у «науки о литературе», интегрирующей множественность смыслов текста, есть и своя ответственность, обусловленная историческими обстоятельствами ее возникновения; мы к этому еще вернемся.
На социокультурном уровне это различение писателей и пишущих, которое уже послужило нам для выделения основополагающей оппозиции двух видов ответственности. Как и в случаях денотации/коннотации и языка/письма, различительным признаком этой оппозиции служит отношение к действию и труду. Писатель «действует, но его действие имманентно своему объекту, оно парадоксальным образом производится над своим собственным орудием – языком. Писатель – тот, кто обрабатывает (хотя бы даже вдохновенно) свое слово, и его функции полностью поглощаются этой работой»[69 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 134.]. Напротив того, «пишущие» – это «люди „транзитивного“ типа»[70 - Там же. С. 137.], и их «слово несет в себе дело, но само таковым не является»[71 - Там же. С. 138.]. Писатель ответствен за мир постольку, поскольку этот мир совпадает с языком (то есть на самом деле – не вполне); а для «пишущего» объект и инструмент, мир и язык различаются, но это не сближает его с «дровосеком», человеком другого «транзитивного типа»: его «дело» опосредовано все тем же языком и потому не является прямым ответственным изменением мира. Можно сказать, что оппозиция писателей/пишущих характеризует не просто две разные формы ответственности, но и две разные формы ее социального отчуждения – с одной стороны, сакрализацию, то есть десоциализацию и деполитизацию писательского труда, а с другой стороны, девальвацию торопливых и разноречивых высказываний, с которыми выступают ангажированные интеллектуалы. Средством отчуждения в обоих случаях выступает язык как инстанция общества и власти.
На феноменологическом (или психоаналитическом) уровне это оппозиция тело/образ, которая нигде эксплицитно не сформулирована у Барта, хотя каждый из ее членов по отдельности выполняет важнейшие функции в его мысли. Возможно, это объясняется неустойчивостью второго члена оппозиции. В «Мифологиях», опять-таки в знаменитом пассаже о дровосеке, слово «образ» означает отчуждение, которому коннотация подвергает первичный смысл труда: стоит только языку утратить свою чистую практическую операциональность, перестать быть «орудием для моего дела-дерева»[72 - Барт Ролан. Мифологии. С. 309.] – и вот уже «дерево более не составляет для меня смысл реальности как человеческого поступка, теперь это образ-в-моем-распоряжении»[73 - Там же.]. Позднее, в «структуралистский» период Барта образ трактовался главным образом как визуальный образ, позитивный предмет семиотических штудий (статьи «Фотографическое сообщение», 1961; «Риторика образа», 1964)[74 - См. подробнее: Зенкин Сергей. Семиотика визуального образа: Ролан Барт и Юрий Лотман // Зенкин Сергей. Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 262–274.], но после 1970 года он все больше утрачивает этот удобный смысл объекта «в распоряжении» исследователя, превращаясь во властную, даже порабощающую силу, которая противостоит субъекту. Это может быть образ любимого человека («Фрагменты речи влюбленного», 1977) или же формируемый извне образ собственной личности, элемент Воображаемого по Лакану, но в любом случае имеет место отчуждение субъекта, которому подвергает его Другой или другие: «„образ“ – это то, что, как мне кажется, думает обо мне другой»[75 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 241 (статья «Образ», 1978).]. В противоположность этому тело, «слово-мана» позднего Барта[76 - Там же. С. 146.], образует точку опоры и идентичности:
Друзья из «Тель кель» <…> они готовы говорить на заурядно-общем, бестелесном языке политики, притом что каждый из них говорит на нем всем своим телом. – Ну, а почему вы сами так не делаете? – Вероятно, именно потому, что у меня тело не такое; мое тело не может смириться с обобщенностью, с той силой обобщения, что заключена в языке[77 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 195. «Расширить приложение своего тела» можно помимо прочего в любительской живописи – принципиально абстрактной, без-образной! – которой занимался сам Барт и которая, по его мысли, позволяет не попасть «в ловушку языка, в ответственность, фатально связанную с любой фразой» (Barthes Roland. Cuvres compl?tes. III. P. 821, заметка «Нулевой уровень окраски», 1978).].
Интегральный характер тела не следует путать с его обобщенностью – напротив, индивидуальное тело противопоставляется множественности обобщающих образов. Тело воплощает в себе целостность индивида, тогда как образы суть его внешние проекции, подчиненные общим (общественным), но чуждым ему смысловым системам. Подобно языку, тело – это нечто большее, чем наша «природа»: мы не выбираем его, и тем не менее мы ответственны за его вкусы, страсти и движения, даже невольные; напротив того, я не в ответе за свои образы, которые могут возникнуть в представлениях других людей, и они даже раздражают меня своей неадекватностью моему внутреннему существу.
Наконец, на биографическом (и одновременно эпистемологическом) уровне различием двух видов ответственности объясняется эволюция Барта между наукой и литературой. Науку, которой он занимался в свой «структуралистский» период, он определял через понятие деятельность (статья «Структурализм как деятельность», 1963), и этим акцентом на активном ее характере[78 - См. недавний анализ Жана-Мари Шеффера: Schaeffer Jean-Marie. Lettre ? Roland Barthes. Vincennes, Thierry Marchaisse, 2015. P. 60–76.] имплицитно предполагалась ее ответственность: мы ответственны за свою деятельность (за ее результаты), но не за свои «знания» или «теории», постольку поскольку не навязываем их другим. Однако ответственность науки двойственна. Притязая на тотальный охват мира, наука сама разделяется на дисциплины (которые, правда, не столько конкурируют, сколько сотрудничают одна с другой) и осуществляется как ряд частных операций, методических и контролируемых шагов, совершаемых по сознательному, иногда рискованному выбору. Как мы видели, в «Критике и истине» Барт приписывал «науке» (разумеется, структуральной) о литературе интегральную ответственность за познание своего предмета. В дальнейшем он убедился – и не раз говорил об этом, особенно в своих интервью рубежа 60–70-х годов, – что структуралистская наука сама в свою очередь институционализируется, то есть становится предметом социально обусловленного выбора, как и выбор идеологии, вообще выбор любой устойчивой смысловой системы[79 - Всякий выбор означает включение в некоторую систему; в этом смысле ответственность предполагает и отчуждение, о чем Барт говорил в 1968 году в беседе с Пьером Дексом: «…существует социально-историческая ответственность не просто разных смыслов (это было известно и раньше), но также, и прежде всего, смысла как такового: нашей мишенью является отчуждение не самих символов, а символических систем…» (Barthes R. Cuvres compl?tes. T. II. P. 525).]. Его отход от политической ангажированности после 1960 года объяснялся теми же мотивами, что и отход от научно-методологической ангажированности семь или восемь лет спустя, скорее всего не случайно совпавший с его «несостоявшейся ангажированностью» во время студенческого бунта в мае 1968 года.
В поздние свои годы Барт обосновывал эволюцию структурализма «от науки к литературе» (название его статьи 1967 года) и искал интегральную и нейтральную – свободную от оппозиций, требующих выбора, – продуктивную деятельность в литературном творчестве, в Тексте как производстве. Во вступительной лекции в Коллеж де Франс литература определяется своими «силами свободы», и это новое определение заставляет Барта вновь вспомнить об «ответственности форм»:
Здесь я имею в виду ответственность формы; эта ответственность, однако, не может быть оценена при помощи идеологических критериев; вот почему, собственно, науки об идеологии всегда так мало могли сказать о ней[80 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 551.].
Вбирая в себя и делая подвижными разнообразные знания, в том числе знания научные, литература берет на себя ответственность за их освобождение, за интегральную деятельность, превосходящую специальный характер не только отдельных наук, но и Науки вообще[81 - Ср.: «В политическом плане литература революционна постольку, поскольку признает и демонстрирует, что ни один язык не бывает политически непорочным, и пользуется своего рода „целостным языком“. Сегодня, таким образом, одна лишь литература берет на себя полную ответственность за язык; наука, разумеется, нуждается в языке, но, в отличие от литературы, она не живет внутри него» (там же. С. 377, статья «От науки к литературе»).]. И все же, чтобы прийти к этому, Барт должен был выбрать литературу, отдаляясь от науки[82 - В научной среде, в частности российской, это до какой-то степени составило ему репутацию «безответственного постмодерниста».], а значит, вписывая свой собственный жизненный путь в структурную оппозицию наука/литература; его литературная, писательская ответственность в конечном счете все-таки селективна, как мы уже отмечали при анализе статьи «Писатели и пишущие». Пройдя через фазу структуралистской «науки», бартовская «литература» уже не могла вернуться к «невинности» «природы», она могла стать лишь другим, новым ответственным выбором.
Таким образом, две формы, две оси ответственности оказываются взаимообратимыми, и их обращения соответствуют разворотам Барта, двигавшегося между разными дискурсами культуры. Его структуралистская, научная ангажированность была столь же необходимым этапом на пути к псевдороманному письму последних лет, как и его политическая ангажированность 50-х годов. И дело тут не только в законах литературной карьеры – в том смысле, что без этой ангажированности он вряд ли достиг бы мировой славы как один из мэтров «французской теории», не накопил бы символический капитал, реализованный им позднее в «неангажированных» литературно-эссеистических книгах. Здесь была и внутренняя, более глубокая диалектика: чтобы тотализировать себя и принять на себя ответственность за мир, нужно занимать конкретные партийно-политические или научно-методологические позиции, тем самым становясь частным, относительным элементом этого мира. Или иначе, если еще раз воспользоваться грамматической и семантической двойственностью глагола «отвечать»: чтобы отвечать за равномощный миру язык – отвечать безмолвно, ибо как может высказываться то, что вбирает в себя весь язык? – необходимо делаться отдельным словом, высказыванием, серьезно отвечающим на чужие слова и высказывания и в пределе превращающимся в значимый поступок.
Язык дровосека
Транзитивность знака против теории «бездельничающего языка»
Павел Арсеньев
Женевский университет (Швейцария)
Язык всегда вызывал подозрения – в неадекватности миру, сокрытии истинных целей высказывающегося, в конечном счете в двусмысленном выполнении тех функций, которые вроде бы являются его raison d’?tre. Ввиду опасностей, которые таит в себе язык как медиум, в рефлексии о нем регулярно предлагается ряд превентивных мер, призванных дисциплинировать его поведение, предотвратить ситуацию, в которой он может отбиться от рук, манкировать своими непосредственными сигнификативными и коммуникативными обязанностями. Подобные предписания часто уподобляют языковые операции трудовым или даже военным, что подразумевает представление о «чрезвычайном положении», которое оправдывает режим речевого дефицита, требует отказаться от языковой роскоши и налагает запрет на нецелевое расходование выразительных средств. Очевидно, что главной мишенью такой доктрины нужды является искусство, понятое как «целеполагание без цели» (Кант), «плохая коммуникация» (Шкловский) или «самонаправленный язык», и вообще всякого рода непрошеная искусность. Именно поэтому в суждениях здравого смысла суверенитет языка так же редко подвергается критике со сколько-нибудь просвещенных позиций, как и автономия литературы. Одним из редких исключений из этого правила является критика раннего Ролана Барта, направленная на самообращенность и самосознание знака и выраженная в фигуре «языка дровосека»:
Здесь вновь следует вернуться к различению языка-объекта и метаязыка. Если я дровосек и мне нужно как-то назвать дерево, которое я рублю, то, независимо от формы моей фразы, я высказываю в ней само дерево, а не высказываюсь по поводу него. Стало быть, мой язык – операторный, транзитивно связанный со своим объектом: между деревом и мною нет ничего кроме моего труда, то есть поступка. Это род политического языка: в нем природа представлена лишь постольку, поскольку я собираюсь ее преобразовать, посредством этого языка я делаю предмет; дерево для меня не образ, а просто смысл моего поступка [Барт 1996: 272].
Язык дровосека
Кто угодно мог бы выбрать этого загадочного концептуального персонажа в качестве протагониста своей теории языка и кому угодно он бы подошел больше, чем Ролану Барту. Скорее всего, Барт заимствует этого концептуального персонажа у Бриса Парена[83 - Сам Парен, французский философ, автор работ по философии языка (Вrice Parain, 1897–1971), говорит не о дровосеке, а о крестьянине-земледельце, который в идеале вообще молчит. Это влияние, кроме того, могло быть опосредовано статьей Сартра о Парене. См.: [Зенкин 2006: 45, 53]. См. также: [Parain 1942].], встраивая его в свою мифологию языка без коннотаций. Если в мифе вещи теряют память о своем изготовлении, то в критическом письме Барта в известной степени натурализуется само это понятие, представая как случайно попавшийся простейший пример[84 - Парен упоминается Бартом как пример «эссеиста, выдвигающего обвинения против языка и строящего свое творчество на его осмеянии» [Барт 1989: 292].]. (И в особенности в одной из версий перевода «Мифологий» на русский язык соответствующий отрывок тяготеет к еще большей натурализованности «лесоруба» – то есть того, кто всего лишь рубит лес [Барт 1989: 115].)
Однако же ни это понятие, ни сам концептуальный персонаж не являются такими уж безобидными и еще менее нейтральными. Будучи рассмотрено сколько-нибудь подробно, это понятие рискует обнаружить трещину в самой концепции «мифологий». При всей очевидной противопоставленности языка дровосека некоему более усложненному языку мифа их отношения оказываются не так однозначны. Барт называет деполитизированным (мифическим) словом такое, которое скрывает свою погруженность в условные отношения сигнификации и натурализует вещи, подразумевая, что они могут что-то значить сами по себе, то есть в известной степени подразумевая прозрачность знака. Но и речевая практика дровосека определяется тем, чтобы сократить число опосредований между говорящим, или, точнее, между действующим, и объектом приложения его усилий («между деревом и мною нет ничего кроме моего труда»).
Этот парадокс несколько проясняется, если понимать стремление «высказывать само дерево, а не высказываться по поводу него» как претендующее на что-то вроде пролетарско-феноменологичекой редукции. Впрочем, если наше высказывание не ограничивается усмотрением дерева, но имеет с ним дело «постольку, поскольку намеревается его преобразовывать», то редукция должна носить скорее название прагматической[85 - По мнению Ю. С. Степанова, многие понятия прагматики в качестве отдельных концептов оформились в феноменологии, хотя еще и не составили единой философии языка. См. соответствующие главы книги: [Степанов 1985].]. С другой стороны, такой агрессивно транзитивный характер высказывания с прямым дополнением («высказывать само дерево») явно не может сводиться к действию, но сохраняет свои чисто лингвистические или интенционалистские амбиции (в противном случае Барт должен был бы просто предложить «перейти от слов к делу»). О схожем мысленном эксперименте Гегель писал:
Если они действительно хотели выразить в словах этот клочок бумаги, то это невозможно, потому что чувственное «это», которое подразумевается, недостижимо для языка. При действительном осуществлении попытки выразить в словах этот клочок бумаги он от этого истлел бы. Те, кто начали бы описание его, не могли бы закончить это описание, а должны были бы предоставить это другим, которые в конце концов сами признали бы, что говорят о вещи, которой нет [Гегель 1959: 58].
Резонно предположить, что «высказать само дерево» не проще, чем «выразить в словах этот клочок бумаги», даже если разрушение объекта не только допускается, но и в известной степени требуется операциональным языком дровосека. Тем не менее очевидно, что ситуация, в которой «между деревом и мною нет ничего кроме моего труда», оказывается не проще, а сложнее семиологически устроена в сравнении с обыденной формой языка.
В результате этой прагматической редукции слово становится не меньше, но больше, будучи вынуждено теперь включать потенцию или историю отношений человека с вещами, которые привели к его возникновению (ср. потенциально бесконечное развертывание названия «дома, который построил Джек»)[86 - Историю конструирования объектов/фактов требует подробно учитывать и Б. Латур: [Латур 2015].]. Таким образом, «единственным языком, сохраняющим свой политический характер» Барт называет такой тип выражения, который весьма напоминает язык обитателей Лапуты из памфлета Свифта, решивших, из верности вещам, использовать их вместо слов [Свифт 2003][87 - Ср. «Но если я не лесоруб, то не могу иметь дело непосредственно с этим деревом, я могу только высказываться о дереве, по поводу дерева; мой язык уже не является орудием воздействия на него; наоборот, воспеваемое дерево становится орудием моего языка; теперь между мной и деревом имеется нетранзитивное отношение; дерево не является более смыслом реальности как объекта человеческого действия, а становится образом, поступающим в мое распоряжение. По отношению к реальному языку лесоруба я создаю вторичный язык, то есть метаязык, с помощью которого манипулирую не вещами, а их именами…» [Барт 1989: 115].].
На этом фоне язык мифа кажется не такой уж плохой идеей: он упрощает вещи, элиминируя историю, и позволяет говорить на вторичном языке, не касаясь вещей, то есть упоминая, но не работая их. Кроме политической неблагонадежности, это все еще сохраняет известную противоречивость, так как «упрощение вещей» достигается за счет усложнения языковой иерархии и требует от нас введения понятия вторичного языка или метаязыка (который к тому же скрывает свои натурализующие функции). Простой (объектный) язык делает вещи сложными (а их выражение громоздким), язык же сложный, вторичный (метаязык) вещи подозрительно упрощает и, кроме того, деполитизирует говорящего.
Но это не последнее противоречие, рискующее изменить распределение симпатий читателя между мифическим языком и языком дровосека. Несложно заметить, что в противопоставлении принимает участие как (скрываемая) натурализация, так и сама натура (которой для собственной манифестации требуется, напротив, обнаруживать включенность в производственные и сигнификативные отношения). С одной стороны, именно мифическое слово представляет себя как невинное и природное, с другой – дровосек работает именно с деревом, то есть чем-то не только эмблематически материальным, но и эмблематически природным и натуральным[88 - См. у Барта: «Разумеется, для того, чтобы деформировать такой предмет, как дерево, мифу потребуется гораздо меньше усилий, чем для деформации образа суданского солдата; в последнем случае политический заряд совершенно очевиден, и необходимо большое количество мнимой природы, чтобы нейтрализовать его; в первом же случае политический заряд далеко не очевиден, он нейтрализован вековыми наслоениями метаязыка» [Барт 1989: 113].].
Одним словом, такая увриеристская философия языка (фр. ouvriеrisme, от ouvrier – рабочий), противопоставленная всякой другой, более спекулятивной работе языка, не лишена ресентимента (см.: [Серио 2012]). Ведь если в словаре Барта существует такая отличная от стиля категория, как мораль формы [Барт 1983: 313], то, вероятно, можно говорить и о морализаторстве, опасность которого возникает в подчеркнуто аскетической модели выражения. Однако для того, чтобы точно описать маршрут раннего Барта в этой одиссее прозрачного языка, необходимо описать следующие измерения.
Дровосек в трехмерном пространстве языка
По мнению Ю. С. Степанова, описавшего трехмерное пространство языка как определяемое осями семантики, синтактики и прагматики, в парадигме имени господствует представление о мире как совокупности вещей, размещенных в пустом пространстве, а проблемой соответствующей философии языка является даже не столько имя, сколько именно процедура именования. В синтаксической философии языка главной оказывается предикация, которая скорее выражает отношения между вещами, нежели именует сущности. Наконец, в третьем – прагматическом – измерении языка играют определяющую роль дейктические частицы, которые указывают на ситуацию и субъекта высказывания, единственно помогающих с точностью определить, о чем идет речь.
Итак, образуется оппозиция между двумя формами ответственности, которые имплицитно противостоят друг другу как в традиционном понятии «языка», так и в новоизобретенном понятии «письма» и которые соответствуют двум осям этого отношения: наряду с частной ответственностью перед другими людьми (единомышленниками, партнерами и т. д.), вытекающей из более или менее осознанного выбора, предполагающей селекцию конкретных форм – что-то одно, а не другое, – бывает еще и тотальная ответственность за не всегда осознанное и даже вынужденное приятие общих форм. Эти две разные ответственности мы берем на себя посредством «выбора» (choix) или «согласия» (assentiment); различение этих понятий Барт намечал еще в одной из своих театральных рецензий 1956 года[47 - Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. I. P. 556.], а затем посвятил ему специальный фрагмент «Согласие, а не выбор» в книге «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975). «Выбирать» – это воинственный акт разрыва, его совершают «как бык вылетает на окруженную людьми арену», а «соглашаться» – значит «молчаливо идти навстречу», без противопоставления «своего» и «чужого», без драматической негативности[48 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 57.]. Можно определить две формы ответственности как ответственность относительную и абсолютную; или как ответственность селективную и интегральную; или, наконец, как ответственность социополитическую и экзистенциальную.
Последний термин обусловлен вероятным источником данной оппозиции у Барта: это философия Сартра, который оказывал сильное влияние на него в послевоенные годы. «Частная» ответственность близко соответствует сартровскому понятию ангажированности. Любопытно, однако, что в книге «Что такое литература?» (1948), где специально обосновывается понятие ангажированности, Сартр лишь очень редко пользуется словом «ответственность», причем в значении существенно отличном от писательской ангажированности:
…писатель намеревается обнажить мир, и в особенности человека, для других людей, чтобы эти последние, перед лицом обнаженного таким образом объекта, взяли на себя полную ответственность за него[49 - Сартр Жан-Поль. Ситуации. М.: Ладомир, 1997. С. 32. Перевод С. Р. Брахман.].
Сходную мысль высказывает и Барт в конце «Мифологий», ставя перед семиотической наукой о мифах задачу разоблачения (у Сартра – «обнажения») самих мифов и затемняемой ими действительности:
…таким образом, ее разоблачения – политический акт; опираясь на идею ответственности языка, она тем самым постулирует и его свободу[50 - Барт Ролан. Мифологии. С. 320 («Необходимость и пределы мифологии»).].
Ответственность здесь возлагается не столько на писателя (по Сартру) или «мифолога» (по Барту), сколько на его читателей, которых он стремится сделать ответственными с помощью своих книг, и именно в таком делании ответственными в конечном счете состоит его ангажированность и их «политический акт»[51 - Ср. позднейшую авторскую оценку книги «Мифологии» и теоретического послесловия к ней: «…в научном отношении оно, быть может, и устарело, но то был эйфорический текст, так как он ободрял ангажированного интеллектуала, давая ему в руки инструмент для анализа, а исследование смысла делал ответственным, наделяя политической действенностью» (Ролан Барт о Ролане Барте. С. 227, статья «Семиологическое приключение», 1974).]. Он ответствен за то, чтобы ставить других людей «перед лицом» реальности, выводить их из неосознанного состояния «в-себе» к рефлективности «для-себя»; такая ответственность относится к сфере экзистенциальной морали, к числу обязанностей бытия-перед-лицом-мира.
И все же такая глобальная ответственность сама по себе вытекает из выбора – выбора определенной карьеры и профессиональной корпорации. Сартр трактует об этом аспекте проблемы в той же своей книге «Что такое литература?»:
…писать <…> значит заниматься определенным ремеслом. Ремеслом, которое требует обучения, постоянного труда, профессиональной добросовестности и чувства ответственности. Эту ответственность открыли не мы, напротив, целых сто лет писатель мечтает унестись в своем искусстве в некую сферу невинности, находящуюся над Добром и над Злом, так сказать, в сферу догреховную[52 - Сартр Жан-Поль. Указ. соч. С. 194. Перевод С. Р. Брахман.].
Сартр здесь разоблачает иллюзорную «невинность» писателя, основанную на слишком узко понимаемой, чисто профессиональной ответственности. Барт предлагает более объективный, не моралистический, а социологический подход в статье «Писатели и пишущие» (1960). Оппозиция двух ее заглавных терминов в целом соответствует оппозиции «чистых писателей» и «ангажированных интеллектуалов»: последние совершают выбор между разными культурными «диалектами (например, марксистским, христианским, экзистенциалистским)»[53 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 138.] – между конфликтующими между собой «социолектами», как назовет их Барт позднее (в статье «Война языков», 1973). Пишущие – «люди „транзитивного“ типа»[54 - Там же. С. 137.], люди проекта, за который они отвечают как за однажды сделанный выбор. Тем более примечательно, что термин «ответственность» применяется в статье не к ним, а как раз к другой категории литераторов, к «писателям», практикующим нетранзитивное, самодостаточное письмо:
От писателя можно требовать ответственности, но и здесь надо еще объясниться. Тот факт, что писатель несет ответственность за свои мнения, здесь несуществен; не так важно даже, принимает ли он более или менее осознанно идеологические выводы, вытекающие из его произведения; настоящая ответственность писателя в том, чтобы переживать литературу как неудавшуюся ангажированность, как взгляд Моисея на обетованную землю действительности (такова, например, ответственность Кафки)[55 - Там же. С. 136–137. Упоминание Кафки может отсылать к статьям Мориса Бланшо об этом писателе, напечатанным, например, в его книге «Пространство литературы» (1955). Эссеистика Бланшо, его анализ безмолвия как предела речи – еще один вероятный философский источник идеи писательской ответственности у Барта.].
Таким образом, писателю присуща своеобразная «ограниченная ответственность», точнее, ответственность за неответственность: она заключается не в том, чтобы занимать некоторую идеологическую позицию (посредством «мнений» и «идеологических выводов»), а как раз наоборот – в том, чтобы не делать выбора, улавливая мир и язык в самой их неоднозначности. Литературное письмо – это искусство нейтральности, которая в 70-х годах станет одной из главных идей Барта, темой одного из его лекционных курсов; это искусство не занимать ангажированную позицию, глядеть на нее со стороны, словно на недостижимую землю, и – диалектический переворот – только такой ценой оно может взять на себя ответственность за мир, принимаемый как человеческая свобода. Такая идея интегральной ответственности все более преобладает у Барта, и именно поэтому в 1978 году он может позволить себе вызывающе отречься от селективной ответственности, готовности безотлагательно отвечать, занимать позицию по тому или иному вопросу[56 - Ср. в «Писателях и пишущих»: «Функция пишущего – всегда и всюду без промедления высказывать то, что он думает» (Барт Ролан. Избранные работы. С. 139); и, с другой стороны, тенденцию позднего Барта «временно» откладывать свои реакции: «Закрыто для суждений по случаю ежегодного отпуска» (Barthes Roland. Le Neutre. P. 254).]. Но, еще раз, не будем забывать: ответственность писателя является профессиональной (в ее основе, по Сартру, «ремесло» [mеtier] или, по Барту, «стиль как ремесло»[57 - Барт Ролан. Нулевая степень письма. С. 94. Перевод Г. К. Косикова.] [artisanat du style]), то есть она сама опирается на некоторый изначальный выбор – выбор писательской карьеры. В основе ее внепозиционного универсализма лежит определенная социальная позиция.
Эту двойную идею ответственности можно проследить в ряде концептуальных оппозиций Барта – на разных, эксплицитных или имплицитных уровнях его мысли и даже на уровне развития его собственного творчества и последовательных форм, которые оно принимало.
На семиотическом уровне это понятийная пара денотация/коннотация. Чисто денотативный «реальный язык дровосека»[58 - Барт Ролан. Мифологии. С. 309.] (на самом деле сугубо гипотетический и утопический) определяется целостным и при этом ответственным действием, которое субъект совершает над объектом: «посредством этого языка я делаю предмет»[59 - Там же. С. 308.]. В противоположность этому коннотативные языки являются множественными и ангажированными, связанными с тем или иным классом, группой или политическим движением; принципиальная множественность коннотативных кодов и смыслов особенно четко заявлена в книге Барта «S/Z» (1970); правда, некоторые из них могут и сосуществовать друг с другом, не требуя выбора.
На грамматическом уровне, затронутом уже в ранней статье «Ответственность грамматики», это оппозиция субъект/предикат. Имена существительные, которые Барт часто пишет с «эссенциалистской» заглавной буквы (Литература, История)[60 - См.: Мильнер Жан-Клод. Философский шаг Ролана Барта // Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 58–100.], обладают в его глазах абсолютной, даже «конститутивной властью»[61 - Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. II. 1994. P. 1370 (статья «Пруст и имена», 1967).] над миром, как это характерно для имен собственных у Пруста. Напротив того, предикаты, особенно прилагательные, модулирующие и направляющие эту власть для тех или иных конкретных нужд, вызывают недоверие своей относительностью. Барт говорит об этом не раз, например в длинном пассаже «Прилагательное», входящем в состав лекционного курса о Нейтральном: «Нейтральному был бы нужен язык без предикации, где темы, „сюжеты“ [sujets: «темы»/«субъекты». – С. З.] не были бы ни к чему приписаны (переписаны и привязаны) их предикатом (прилагательным)»[62 - Barthes Roland. Le Neutre. P. 85.]. Иными словами, глобально-конститутивная ответственность Имени противостоит односторонней по определению ответственности предиката.
На литературном уровне это уже рассмотренная выше оппозиция язык/письмо, оба термина которой существенно эволюционировали у Барта по своему содержанию. Если в его первой книге «Нулевая степень письма» множественные и ангажированные виды письма [еcritures] противостояли единству невыбираемого, «природного» национального языка, то в позднем творчестве язык рассматривается уже не как природный, а как социально-властный, «фашистски» принудительный[63 - См.: Barthes Roland. Cuvres compl?tes. T. III. 1995. P. 803.], в то время как слово еcriture утрачивает множественное число и начинает пониматься как интегральная деятельность Текста, который «ощущается только в процессе работы, производства»[64 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 415 (статья «От произведения к тексту», 1971).] и снимает вариативность ангажированных «социолектов». Залогом тотальной ответственности остается «работа»: если гипотетический «дровосек» из «Мифологий» своим целостным актом труда преобразовывал конкретный объект (превращал дерево в поленья), то современный писатель через производительную деятельность Текста достигает ответственности за весь мир и вырабатывает «ответственное представление о языке», отсутствующее в «произведениях», «приписанных» к определенной цели. Подчеркивая глобальный характер «письма» (и его ответственности), Барт даже предлагал заменить им понятие личностного Автора, посредством которого новоевропейская культура привыкла осмыслять писательскую ответственность (статья «Смерть Автора», 1968); впрочем, позднее, в своем оказавшемся последним лекционном курсе он отступает от этой слишком радикальной позиции и восстанавливает идею авторства[65 - См.: Barthes Roland. La Prеparation du roman I et II. P. 276.].
На литературно-критическом уровне это оппозиция науки о литературе/критики. В книге «Критика и истина» (1967) первая из этих форм определялась (с предположительной оговоркой: «Если подобная наука однажды возникнет…»)[66 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 355. Перевод Г. К. Косикова.] как «тот общий дискурс, объектом которого является не какой-либо конкретный смысл произведения, но сама множественность этих смыслов»[67 - Там же.], а вторая – как «другой дискурс, который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу наделить произведение тем или иным смыслом»[68 - Там же. Мне уже приходилось указывать, что эта структуралистская иерархия дисциплин – глобально-унитарная «наука», надстраивающаяся над множественностью критических интерпретаций, – обратна герменевтической, которую тогда же предложил Жан Старобинский («Отношение критики», 1967). По Старобинскому, развивавшему идею герменевтического «круга» или «пути», интегрально-личностный характер этого пути противостоит множественности интерпретационных «техник»: критический путь позволяет переходить от одной техники к другой. См.: Зенкин Сергей. Теория литературы: Проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 31–37.]. Прямо выраженная здесь идея ответственности («который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу…») относится к «критике», к тому или иному ангажированному, свободно избираемому методу интерпретации; однако у «науки о литературе», интегрирующей множественность смыслов текста, есть и своя ответственность, обусловленная историческими обстоятельствами ее возникновения; мы к этому еще вернемся.
На социокультурном уровне это различение писателей и пишущих, которое уже послужило нам для выделения основополагающей оппозиции двух видов ответственности. Как и в случаях денотации/коннотации и языка/письма, различительным признаком этой оппозиции служит отношение к действию и труду. Писатель «действует, но его действие имманентно своему объекту, оно парадоксальным образом производится над своим собственным орудием – языком. Писатель – тот, кто обрабатывает (хотя бы даже вдохновенно) свое слово, и его функции полностью поглощаются этой работой»[69 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 134.]. Напротив того, «пишущие» – это «люди „транзитивного“ типа»[70 - Там же. С. 137.], и их «слово несет в себе дело, но само таковым не является»[71 - Там же. С. 138.]. Писатель ответствен за мир постольку, поскольку этот мир совпадает с языком (то есть на самом деле – не вполне); а для «пишущего» объект и инструмент, мир и язык различаются, но это не сближает его с «дровосеком», человеком другого «транзитивного типа»: его «дело» опосредовано все тем же языком и потому не является прямым ответственным изменением мира. Можно сказать, что оппозиция писателей/пишущих характеризует не просто две разные формы ответственности, но и две разные формы ее социального отчуждения – с одной стороны, сакрализацию, то есть десоциализацию и деполитизацию писательского труда, а с другой стороны, девальвацию торопливых и разноречивых высказываний, с которыми выступают ангажированные интеллектуалы. Средством отчуждения в обоих случаях выступает язык как инстанция общества и власти.
На феноменологическом (или психоаналитическом) уровне это оппозиция тело/образ, которая нигде эксплицитно не сформулирована у Барта, хотя каждый из ее членов по отдельности выполняет важнейшие функции в его мысли. Возможно, это объясняется неустойчивостью второго члена оппозиции. В «Мифологиях», опять-таки в знаменитом пассаже о дровосеке, слово «образ» означает отчуждение, которому коннотация подвергает первичный смысл труда: стоит только языку утратить свою чистую практическую операциональность, перестать быть «орудием для моего дела-дерева»[72 - Барт Ролан. Мифологии. С. 309.] – и вот уже «дерево более не составляет для меня смысл реальности как человеческого поступка, теперь это образ-в-моем-распоряжении»[73 - Там же.]. Позднее, в «структуралистский» период Барта образ трактовался главным образом как визуальный образ, позитивный предмет семиотических штудий (статьи «Фотографическое сообщение», 1961; «Риторика образа», 1964)[74 - См. подробнее: Зенкин Сергей. Семиотика визуального образа: Ролан Барт и Юрий Лотман // Зенкин Сергей. Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 262–274.], но после 1970 года он все больше утрачивает этот удобный смысл объекта «в распоряжении» исследователя, превращаясь во властную, даже порабощающую силу, которая противостоит субъекту. Это может быть образ любимого человека («Фрагменты речи влюбленного», 1977) или же формируемый извне образ собственной личности, элемент Воображаемого по Лакану, но в любом случае имеет место отчуждение субъекта, которому подвергает его Другой или другие: «„образ“ – это то, что, как мне кажется, думает обо мне другой»[75 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 241 (статья «Образ», 1978).]. В противоположность этому тело, «слово-мана» позднего Барта[76 - Там же. С. 146.], образует точку опоры и идентичности:
Друзья из «Тель кель» <…> они готовы говорить на заурядно-общем, бестелесном языке политики, притом что каждый из них говорит на нем всем своим телом. – Ну, а почему вы сами так не делаете? – Вероятно, именно потому, что у меня тело не такое; мое тело не может смириться с обобщенностью, с той силой обобщения, что заключена в языке[77 - Ролан Барт о Ролане Барте. С. 195. «Расширить приложение своего тела» можно помимо прочего в любительской живописи – принципиально абстрактной, без-образной! – которой занимался сам Барт и которая, по его мысли, позволяет не попасть «в ловушку языка, в ответственность, фатально связанную с любой фразой» (Barthes Roland. Cuvres compl?tes. III. P. 821, заметка «Нулевой уровень окраски», 1978).].
Интегральный характер тела не следует путать с его обобщенностью – напротив, индивидуальное тело противопоставляется множественности обобщающих образов. Тело воплощает в себе целостность индивида, тогда как образы суть его внешние проекции, подчиненные общим (общественным), но чуждым ему смысловым системам. Подобно языку, тело – это нечто большее, чем наша «природа»: мы не выбираем его, и тем не менее мы ответственны за его вкусы, страсти и движения, даже невольные; напротив того, я не в ответе за свои образы, которые могут возникнуть в представлениях других людей, и они даже раздражают меня своей неадекватностью моему внутреннему существу.
Наконец, на биографическом (и одновременно эпистемологическом) уровне различием двух видов ответственности объясняется эволюция Барта между наукой и литературой. Науку, которой он занимался в свой «структуралистский» период, он определял через понятие деятельность (статья «Структурализм как деятельность», 1963), и этим акцентом на активном ее характере[78 - См. недавний анализ Жана-Мари Шеффера: Schaeffer Jean-Marie. Lettre ? Roland Barthes. Vincennes, Thierry Marchaisse, 2015. P. 60–76.] имплицитно предполагалась ее ответственность: мы ответственны за свою деятельность (за ее результаты), но не за свои «знания» или «теории», постольку поскольку не навязываем их другим. Однако ответственность науки двойственна. Притязая на тотальный охват мира, наука сама разделяется на дисциплины (которые, правда, не столько конкурируют, сколько сотрудничают одна с другой) и осуществляется как ряд частных операций, методических и контролируемых шагов, совершаемых по сознательному, иногда рискованному выбору. Как мы видели, в «Критике и истине» Барт приписывал «науке» (разумеется, структуральной) о литературе интегральную ответственность за познание своего предмета. В дальнейшем он убедился – и не раз говорил об этом, особенно в своих интервью рубежа 60–70-х годов, – что структуралистская наука сама в свою очередь институционализируется, то есть становится предметом социально обусловленного выбора, как и выбор идеологии, вообще выбор любой устойчивой смысловой системы[79 - Всякий выбор означает включение в некоторую систему; в этом смысле ответственность предполагает и отчуждение, о чем Барт говорил в 1968 году в беседе с Пьером Дексом: «…существует социально-историческая ответственность не просто разных смыслов (это было известно и раньше), но также, и прежде всего, смысла как такового: нашей мишенью является отчуждение не самих символов, а символических систем…» (Barthes R. Cuvres compl?tes. T. II. P. 525).]. Его отход от политической ангажированности после 1960 года объяснялся теми же мотивами, что и отход от научно-методологической ангажированности семь или восемь лет спустя, скорее всего не случайно совпавший с его «несостоявшейся ангажированностью» во время студенческого бунта в мае 1968 года.
В поздние свои годы Барт обосновывал эволюцию структурализма «от науки к литературе» (название его статьи 1967 года) и искал интегральную и нейтральную – свободную от оппозиций, требующих выбора, – продуктивную деятельность в литературном творчестве, в Тексте как производстве. Во вступительной лекции в Коллеж де Франс литература определяется своими «силами свободы», и это новое определение заставляет Барта вновь вспомнить об «ответственности форм»:
Здесь я имею в виду ответственность формы; эта ответственность, однако, не может быть оценена при помощи идеологических критериев; вот почему, собственно, науки об идеологии всегда так мало могли сказать о ней[80 - Барт Ролан. Избранные работы. С. 551.].
Вбирая в себя и делая подвижными разнообразные знания, в том числе знания научные, литература берет на себя ответственность за их освобождение, за интегральную деятельность, превосходящую специальный характер не только отдельных наук, но и Науки вообще[81 - Ср.: «В политическом плане литература революционна постольку, поскольку признает и демонстрирует, что ни один язык не бывает политически непорочным, и пользуется своего рода „целостным языком“. Сегодня, таким образом, одна лишь литература берет на себя полную ответственность за язык; наука, разумеется, нуждается в языке, но, в отличие от литературы, она не живет внутри него» (там же. С. 377, статья «От науки к литературе»).]. И все же, чтобы прийти к этому, Барт должен был выбрать литературу, отдаляясь от науки[82 - В научной среде, в частности российской, это до какой-то степени составило ему репутацию «безответственного постмодерниста».], а значит, вписывая свой собственный жизненный путь в структурную оппозицию наука/литература; его литературная, писательская ответственность в конечном счете все-таки селективна, как мы уже отмечали при анализе статьи «Писатели и пишущие». Пройдя через фазу структуралистской «науки», бартовская «литература» уже не могла вернуться к «невинности» «природы», она могла стать лишь другим, новым ответственным выбором.
Таким образом, две формы, две оси ответственности оказываются взаимообратимыми, и их обращения соответствуют разворотам Барта, двигавшегося между разными дискурсами культуры. Его структуралистская, научная ангажированность была столь же необходимым этапом на пути к псевдороманному письму последних лет, как и его политическая ангажированность 50-х годов. И дело тут не только в законах литературной карьеры – в том смысле, что без этой ангажированности он вряд ли достиг бы мировой славы как один из мэтров «французской теории», не накопил бы символический капитал, реализованный им позднее в «неангажированных» литературно-эссеистических книгах. Здесь была и внутренняя, более глубокая диалектика: чтобы тотализировать себя и принять на себя ответственность за мир, нужно занимать конкретные партийно-политические или научно-методологические позиции, тем самым становясь частным, относительным элементом этого мира. Или иначе, если еще раз воспользоваться грамматической и семантической двойственностью глагола «отвечать»: чтобы отвечать за равномощный миру язык – отвечать безмолвно, ибо как может высказываться то, что вбирает в себя весь язык? – необходимо делаться отдельным словом, высказыванием, серьезно отвечающим на чужие слова и высказывания и в пределе превращающимся в значимый поступок.
Язык дровосека
Транзитивность знака против теории «бездельничающего языка»
Павел Арсеньев
Женевский университет (Швейцария)
Язык всегда вызывал подозрения – в неадекватности миру, сокрытии истинных целей высказывающегося, в конечном счете в двусмысленном выполнении тех функций, которые вроде бы являются его raison d’?tre. Ввиду опасностей, которые таит в себе язык как медиум, в рефлексии о нем регулярно предлагается ряд превентивных мер, призванных дисциплинировать его поведение, предотвратить ситуацию, в которой он может отбиться от рук, манкировать своими непосредственными сигнификативными и коммуникативными обязанностями. Подобные предписания часто уподобляют языковые операции трудовым или даже военным, что подразумевает представление о «чрезвычайном положении», которое оправдывает режим речевого дефицита, требует отказаться от языковой роскоши и налагает запрет на нецелевое расходование выразительных средств. Очевидно, что главной мишенью такой доктрины нужды является искусство, понятое как «целеполагание без цели» (Кант), «плохая коммуникация» (Шкловский) или «самонаправленный язык», и вообще всякого рода непрошеная искусность. Именно поэтому в суждениях здравого смысла суверенитет языка так же редко подвергается критике со сколько-нибудь просвещенных позиций, как и автономия литературы. Одним из редких исключений из этого правила является критика раннего Ролана Барта, направленная на самообращенность и самосознание знака и выраженная в фигуре «языка дровосека»:
Здесь вновь следует вернуться к различению языка-объекта и метаязыка. Если я дровосек и мне нужно как-то назвать дерево, которое я рублю, то, независимо от формы моей фразы, я высказываю в ней само дерево, а не высказываюсь по поводу него. Стало быть, мой язык – операторный, транзитивно связанный со своим объектом: между деревом и мною нет ничего кроме моего труда, то есть поступка. Это род политического языка: в нем природа представлена лишь постольку, поскольку я собираюсь ее преобразовать, посредством этого языка я делаю предмет; дерево для меня не образ, а просто смысл моего поступка [Барт 1996: 272].
Язык дровосека
Кто угодно мог бы выбрать этого загадочного концептуального персонажа в качестве протагониста своей теории языка и кому угодно он бы подошел больше, чем Ролану Барту. Скорее всего, Барт заимствует этого концептуального персонажа у Бриса Парена[83 - Сам Парен, французский философ, автор работ по философии языка (Вrice Parain, 1897–1971), говорит не о дровосеке, а о крестьянине-земледельце, который в идеале вообще молчит. Это влияние, кроме того, могло быть опосредовано статьей Сартра о Парене. См.: [Зенкин 2006: 45, 53]. См. также: [Parain 1942].], встраивая его в свою мифологию языка без коннотаций. Если в мифе вещи теряют память о своем изготовлении, то в критическом письме Барта в известной степени натурализуется само это понятие, представая как случайно попавшийся простейший пример[84 - Парен упоминается Бартом как пример «эссеиста, выдвигающего обвинения против языка и строящего свое творчество на его осмеянии» [Барт 1989: 292].]. (И в особенности в одной из версий перевода «Мифологий» на русский язык соответствующий отрывок тяготеет к еще большей натурализованности «лесоруба» – то есть того, кто всего лишь рубит лес [Барт 1989: 115].)
Однако же ни это понятие, ни сам концептуальный персонаж не являются такими уж безобидными и еще менее нейтральными. Будучи рассмотрено сколько-нибудь подробно, это понятие рискует обнаружить трещину в самой концепции «мифологий». При всей очевидной противопоставленности языка дровосека некоему более усложненному языку мифа их отношения оказываются не так однозначны. Барт называет деполитизированным (мифическим) словом такое, которое скрывает свою погруженность в условные отношения сигнификации и натурализует вещи, подразумевая, что они могут что-то значить сами по себе, то есть в известной степени подразумевая прозрачность знака. Но и речевая практика дровосека определяется тем, чтобы сократить число опосредований между говорящим, или, точнее, между действующим, и объектом приложения его усилий («между деревом и мною нет ничего кроме моего труда»).
Этот парадокс несколько проясняется, если понимать стремление «высказывать само дерево, а не высказываться по поводу него» как претендующее на что-то вроде пролетарско-феноменологичекой редукции. Впрочем, если наше высказывание не ограничивается усмотрением дерева, но имеет с ним дело «постольку, поскольку намеревается его преобразовывать», то редукция должна носить скорее название прагматической[85 - По мнению Ю. С. Степанова, многие понятия прагматики в качестве отдельных концептов оформились в феноменологии, хотя еще и не составили единой философии языка. См. соответствующие главы книги: [Степанов 1985].]. С другой стороны, такой агрессивно транзитивный характер высказывания с прямым дополнением («высказывать само дерево») явно не может сводиться к действию, но сохраняет свои чисто лингвистические или интенционалистские амбиции (в противном случае Барт должен был бы просто предложить «перейти от слов к делу»). О схожем мысленном эксперименте Гегель писал:
Если они действительно хотели выразить в словах этот клочок бумаги, то это невозможно, потому что чувственное «это», которое подразумевается, недостижимо для языка. При действительном осуществлении попытки выразить в словах этот клочок бумаги он от этого истлел бы. Те, кто начали бы описание его, не могли бы закончить это описание, а должны были бы предоставить это другим, которые в конце концов сами признали бы, что говорят о вещи, которой нет [Гегель 1959: 58].
Резонно предположить, что «высказать само дерево» не проще, чем «выразить в словах этот клочок бумаги», даже если разрушение объекта не только допускается, но и в известной степени требуется операциональным языком дровосека. Тем не менее очевидно, что ситуация, в которой «между деревом и мною нет ничего кроме моего труда», оказывается не проще, а сложнее семиологически устроена в сравнении с обыденной формой языка.
В результате этой прагматической редукции слово становится не меньше, но больше, будучи вынуждено теперь включать потенцию или историю отношений человека с вещами, которые привели к его возникновению (ср. потенциально бесконечное развертывание названия «дома, который построил Джек»)[86 - Историю конструирования объектов/фактов требует подробно учитывать и Б. Латур: [Латур 2015].]. Таким образом, «единственным языком, сохраняющим свой политический характер» Барт называет такой тип выражения, который весьма напоминает язык обитателей Лапуты из памфлета Свифта, решивших, из верности вещам, использовать их вместо слов [Свифт 2003][87 - Ср. «Но если я не лесоруб, то не могу иметь дело непосредственно с этим деревом, я могу только высказываться о дереве, по поводу дерева; мой язык уже не является орудием воздействия на него; наоборот, воспеваемое дерево становится орудием моего языка; теперь между мной и деревом имеется нетранзитивное отношение; дерево не является более смыслом реальности как объекта человеческого действия, а становится образом, поступающим в мое распоряжение. По отношению к реальному языку лесоруба я создаю вторичный язык, то есть метаязык, с помощью которого манипулирую не вещами, а их именами…» [Барт 1989: 115].].
На этом фоне язык мифа кажется не такой уж плохой идеей: он упрощает вещи, элиминируя историю, и позволяет говорить на вторичном языке, не касаясь вещей, то есть упоминая, но не работая их. Кроме политической неблагонадежности, это все еще сохраняет известную противоречивость, так как «упрощение вещей» достигается за счет усложнения языковой иерархии и требует от нас введения понятия вторичного языка или метаязыка (который к тому же скрывает свои натурализующие функции). Простой (объектный) язык делает вещи сложными (а их выражение громоздким), язык же сложный, вторичный (метаязык) вещи подозрительно упрощает и, кроме того, деполитизирует говорящего.
Но это не последнее противоречие, рискующее изменить распределение симпатий читателя между мифическим языком и языком дровосека. Несложно заметить, что в противопоставлении принимает участие как (скрываемая) натурализация, так и сама натура (которой для собственной манифестации требуется, напротив, обнаруживать включенность в производственные и сигнификативные отношения). С одной стороны, именно мифическое слово представляет себя как невинное и природное, с другой – дровосек работает именно с деревом, то есть чем-то не только эмблематически материальным, но и эмблематически природным и натуральным[88 - См. у Барта: «Разумеется, для того, чтобы деформировать такой предмет, как дерево, мифу потребуется гораздо меньше усилий, чем для деформации образа суданского солдата; в последнем случае политический заряд совершенно очевиден, и необходимо большое количество мнимой природы, чтобы нейтрализовать его; в первом же случае политический заряд далеко не очевиден, он нейтрализован вековыми наслоениями метаязыка» [Барт 1989: 113].].
Одним словом, такая увриеристская философия языка (фр. ouvriеrisme, от ouvrier – рабочий), противопоставленная всякой другой, более спекулятивной работе языка, не лишена ресентимента (см.: [Серио 2012]). Ведь если в словаре Барта существует такая отличная от стиля категория, как мораль формы [Барт 1983: 313], то, вероятно, можно говорить и о морализаторстве, опасность которого возникает в подчеркнуто аскетической модели выражения. Однако для того, чтобы точно описать маршрут раннего Барта в этой одиссее прозрачного языка, необходимо описать следующие измерения.
Дровосек в трехмерном пространстве языка
По мнению Ю. С. Степанова, описавшего трехмерное пространство языка как определяемое осями семантики, синтактики и прагматики, в парадигме имени господствует представление о мире как совокупности вещей, размещенных в пустом пространстве, а проблемой соответствующей философии языка является даже не столько имя, сколько именно процедура именования. В синтаксической философии языка главной оказывается предикация, которая скорее выражает отношения между вещами, нежели именует сущности. Наконец, в третьем – прагматическом – измерении языка играют определяющую роль дейктические частицы, которые указывают на ситуацию и субъекта высказывания, единственно помогающих с точностью определить, о чем идет речь.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: