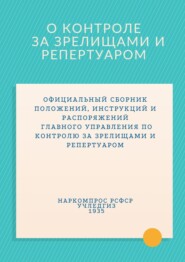По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ответственность религии и науки в современном мире
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассмотрим ситуацию, вполне очевидную для современного, достаточно далекого от науки человека. Сейчас постоянно возникает потребность в экспертной оценке различных новшеств, появляющихся на рынке. Новые лекарственные средства или методы лечения, новые виды электронной техники и информационных услуг, пищевые продукты, разработанные по каким-то невиданным ранее технологиям, – все это, с одной стороны, очень привлекает, сулит сделать жизнь более удобной, но с другой стороны, постоянно настораживает. Никто не знает, не является ли очередной предлагаемый рынком продукт опасным для здоровья, не следует ли, по соображениям безопасности, ограничить его использование или вовсе отказаться от него. Разобраться в этом самому нереально, поэтому необходимо объективное суждение эксперта. Однако очень часто эти суждения вызывают сомнение. Нередко приходится сталкиваться с тем, что мнения различных экспертов оказываются прямо противоположными. Когда при появлении какого-либо новшества мы слышим уверения в его исключительной благотворности и безопасности, раздающиеся из уст солидного обладателя ученых степеней и званий, возникает нехорошая мысль, что этот эксперт сам весьма заинтересован в продвижении оцениваемого продукта. Но и когда появляются сообщения о независимых экспертизах, установивших опасность какой-нибудь разработки, также возникает похожая мысль: не имеем ли мы дело с попыткой скомпрометировать разработчиков, предпринятой их конкурентами? Описанная ситуация представляет собой предельный случай, когда научная истина оказывается заложницей корпоративных интересов. В современных условиях научный результат, достигнутый какой-либо группой исследователей, часто оказывается почти недоступным для проверки. Это создает возможность для широких спекуляций и манипулирования общественным мнением.
Кажется, что сейчас намечается новая тенденция в жизни научного сообщества. Суть этой тенденции – принципиальное изменение форм научной деятельности, связанное с появлением концепции проекта. Рискну сказать, что если указанная тенденция будет развиваться, то научное сообщество вовсе перестанет существовать. Проект представляет собой, как правило, междисциплинарную исследовательскую задачу, в которую вовлечены как ученые (причем разных специальностей), так и специалисты иных областей, такие как менеджеры, юристы и пр. Существуют, конечно, проекты, имеющие чисто исследовательские цели, но таких, судя по всему, мало. Как правило, разработка проекта связана либо с коммерческими, либо с политическими целями. В первом случае они курируются и финансируются компаниями, заинтересованными в получении прибыли, во втором – государством. В обоих случаях деятельность, развиваемая в рамках проекта, в той или иной мере связана с коммерческой или государственной тайной. Ученый, вовлеченный в проект, осознает себя скорее членом команды разработчиков, чем членом научного сообщества. Это значит, что его главный интерес состоит в достижении цели проекта, а не в получении научной истины. О какой-либо открытости (универсальности, незаинтересованности, организованном скептицизме) говорить не приходится. Возникла подобная форма, уже достаточно давно. Оборонные заказы, обеспечивавшие ученых работой на протяжении почти всего ХХ века, представляют собой типичный пример этого способа организации науки. Сейчас, однако, появляется все больше масштабных коммерческих проектов, захватывающих разные области фундаментальных исследований. Складывающаяся ситуация ведет к очевидному росту корпоративной замкнутости научной деятельности. Кроме того, происходит постепенный сдвиг в представлении о научной истине. Истина, выявленная в рамках проекта, есть не столько согласованная практика научного сообщества, сколько коммерческий или политический успех, достигнутый на определенном промежутке времени. Иными словами, относительность истины возрастает с ростом корпоративной замкнутости. Появляется множество разных «истин», противоречащих одна другой вследствие того, что они получены работающими в рамках разных проектов исследовательскими группами. Характерный пример таких разногласий мы приводили выше. Я не думаю при этом, что когда, например, высказываются взаимоисключающие суждения об опасности той или иной разработки, мы непременно имеем дело с откровенной нечестностью. Дело в том, что такого рода оценки в самом деле не однозначны. Но когда исследования закрыты, методики не разглашаются, а эксперты, принадлежащие к разным замкнутым группам, не имеют шанса для открытой полемики, каждый из них выбирает ту часть спектра возможных оценок, которая выгоднее его корпорации.
В описанном случае мы имеем дело с очередным шагом в сторону корпоративной замкнутости и закрытости научной деятельности, который ведет к разрушению самого научного сообщества. Ситуация не новая – закрытость научных исследований, связанных с военными разработками, уже давно стала привычной. К сожалению, эта тенденция усугубляется: наука все больше опутывается сетью военных или коммерческих секретов. Я бы хотел указать на насущность прямо противоположной тенденции. Основным этическим принципам научного сообщества, вытекающим из самого понятия научной истины, соответствует максимальная открытость научной деятельности. Эта открытость отнюдь не может сводится к простой информированности общества по поводу ведущихся научных исследований. Смысл ее – в широком рациональном обсуждении направления этих исследований, их методов и возможных результатов. Иными словами, речь должна идти об открытости научного сообщества (включая и исследовательские группы, создаваемые в рамках проектов) для аргументов, традиционно воспринимаемых как ненаучные. Речь идет, прежде всего, об аргументах этического характера. Однако значимый аргументационный ресурс, могущий повлиять на научную деятельность, существует в религии.
У западной науки накопился серьезный отрицательный опыт сосуществования религии и науки. Начиная с XVIII века религия воспринимается преимущественно как источник иррациональных убеждений, принципиально чуждых науке. Эти убеждения необходимо либо разоблачать, либо просто игнорировать. Религиозные сообщества нередко отвечали весьма агрессивно, провозглашая ту или иную научную теорию неприемлемой по причине расхождения с Библией. Если говорить о ХХ веке, то больше всего досталось от них эволюционным теориям. Естественно, что подобные демарши только укрепляли предубеждения противоположной стороны. Правда, в последнее время нередки попытки сближения научных и богословских концепций. Определенную популярность приобрели рассуждения о том, что научная картина мира вполне соответствует библейской. Подобное сближение мировоззренческих позиций представляет несомненный интерес. Его позитивный смысл можно увидеть хотя бы в том, что научное сообщество (или, по крайней мере, некоторая его часть) не рассматривает религию исключительно как источник заблуждений. Однако область рационального взаимодействия религии и науки не может быть этим исчерпана. По-видимому, наиболее значимой областью возможной дискуссии является этика. Весьма насущно, на мой взгляд, совместное обсуждение моральной стороны научной деятельности. Именно в этом обсуждении требуется особое внимание к религиозной аргументации со стороны научного сообщества, поскольку религии могут представить совершенно иной, неизвестный науке, взгляд на природу человека и его отношения с миром. Весьма примечательно в этом смысле выступление Юргена Хабермаса, утверждающего, что аргументационный ресурс секулярного общества недостаточен для того, чтобы удержать человечество от опасных для него действий. Речь идет, прежде всего, о внедрении в человеческую природу на уровне генных технологий. В рамках науки не существует возможности определить ту черту, переход которой может иметь катастрофические последствия. Вопрос здесь не в научном предвидении возможных результатов, а в моральной допустимости тех или иных операций. В этой связи Хабермас настаивает на открытости секулярной части общества для аргументов, развиваемых в рамках религиозного дискурса[52 - Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Весь мир, 2002.].
В заключение замечу, что речь здесь должна идти не только об ответственности и открытости научного сообщества. Существенная проблема – готовность религиозных сообществ к такой открытости. Аргументационный ресурс религиозного дискурса сейчас почти не развит. Его раскрытие составляет сферу ответственности религии в современном мире. Пока же остается серьезный вопрос: сможет ли религиозный дискурс (в том числе и христианское богословие) представить этически релевантные соображения, могущие претендовать на универсальное значение?
Питер Ходжсон
Ответственность ученого
Проблему ответственности ученого можно разделить на две части: во-первых, это его ответственность по отношению к самим занятиям наукой и, во-вторых, его ответственность как ученого по отношению ко всему обществу. Давайте для начала посмотрим на ученого в его лаборатории, так как обычно человек много лет занимается наукой прежде, чем он начинает осознавать свою ответственность перед обществом и постигает науку в такой степени, чтобы нести эту ответственность достаточно эффективно. Еще одна причина состоит в том, что занятия наукой представляют собой отличную тренировку ума и готовят человека к исполнению обязанностей перед обществом.
Это разграничение ответственности, разумеется, относится не только к ученым – оно в такой же степени относится и к любой познавательной деятельности, которая ведется систематически и рационально. Поэтому большую часть того, о чем мы будем говорить, можно применить не только к ученым, но также ко всем, кто занят в других отраслях знания. Особенно важно, однако, что ученые должны максимально осознавать свою ответственность, так как их труд оказывает огромное воздействие на нашу жизнь сегодня, и еще большее воздействие он будет оказывать на нашу жизнь в будущем.
Итак, возвращаясь к ученому, мы хотели бы узнать: в чем именно состоит его ответственность, какими качествами он должен обладать, чтобы добиться успеха на ниве своего труда, и в каком направлении эти качества должны развиваться в ходе его научных исследований? Для этого нам необходимо понять, чего он хочет достичь и каким образом. Цель ученого – получить как можно больше сведений о мире, где мы живем. Он хочет точно знать причины того, почему все происходит так, а не иначе. Он хочет приоткрыть завесу над неведомыми пока отношениями между явлениями, которые до сих пор считались не связанными между собой. Чем больше он знает о предмете, тем большей властью над ним он обладает, так что может использовать его в качестве орудия для завоевания все более широкого пространства знаний, которое постепенно перед ним раскрывается.
В драме научных исследований участвуют два персонажа: пассивный – это данный нам материальный мир, и активный – это пытливый, вопрошающий и размышляющий человеческий ум. Сначала ученый изучает и проводит эксперименты, чтобы получить знания, а затем систематизирует и обобщает их, призывая на помощь теорию. Иногда говорят, что науку можно рассматривать просто как установление связей и систематизацию данных, полученных от наших ощущений. Эта позиция, пусть даже правильная с логической точки зрения, не может предложить достаточных оснований для научной деятельности в целом. Что бы ни говорили некоторые философы, ученый-исследователь всегда уверен в том, что он открывает о мире что-то новое. Более того, если его единственная цель – раскрытие неких закономерностей, то непонятно, почему он набирает все больше и больше фактов, усложняя себе задачу.
В самом деле, чтобы достичь успеха, ученый должен обладать многими качествами. Он должен быть внимательным и усердным наблюдателем, так как часто о тончайших открытиях свидетельствуют лишь едва различимые явления. Экспериментальные исследования часто требуют многих часов тщательных и утомительных наблюдений, нередко сопровождаемых появлением бессмысленных, на первый взгляд, данных, значение которых проясняется лишь впоследствие. Вновь и вновь его опыты будут проваливаться из какой-нибудь пустяковой или досадной ошибки, и он вынужден начать все сначала и опять трудиться с терпением и настойчивостью.
Когда ученый собрал достаточно точных данных о предмете своего исследования, перед ним встает следующая задача – попытаться объяснить их с помощью теории. Чтобы преуспеть в этом, он должен обладать богатым воображением и дерзостью в построении гипотез. Но когда он уже сформулировал свою теорию, выводы из нее он должен суметь доказать с помощью эксперимента. Почти неизбежно появятся какие-то нестыковки, и ему, возможно, придется либо вовсе отказаться от теории, совершенствованию которой он посвятил тяжкие труды, либо существенно изменить ее. Это поистине суровая школа, которая требует отказа от любой концепции, сколь бы стройной и уравновешенной она ни была, если ее не удается проверить экспериментально. Пожалуй, больше, чем какое-либо другое занятие, экспериментальная наука воспитывает целеустремленность и смирение. В конце жизни, посвященной научным трудам наивысшего порядка, лорд Кельвин писал: «Все мои усердные труды по продвижению науки вперед, которым я посвятил пятьдесят пять лет моей жизни, можно описать одним словом, и слово это – неудача». Ученому постоянно приходится признаваться себе в том, что материальный мир ведет себя не так, как он бы хотел; этот мир упрям и неподатлив. Он вынужден принять требования этого мира к выпестованной им теории и смириться с его строгими законами. Ему приходится даже радоваться, когда развенчиваются его собственные теории, если этого требует истина. <…>
С годами ученый обретает одно из наиболее характерных своих качеств, а именно – непоколебимую приверженность истине. Он прекрасно знает, что любое отклонение от нее, даже если оно принесет ему временную славу, в конце концов обнаружится. Он знает, что в конечном итоге бесполезно «подгонять» результаты опытов с тем, чтобы согласовать их со своей теорией, или же насильно притягивать теорию к результатам экспериментов. Он осознает тщетность попыток подогнать науку к заранее заданным идеям и категорически отвергает всякие поползновения ограничить свободу его творчества. Эта необходимость полной объективности и преданности истине свойственна, разумеется, не только науке, но любой исследовательской деятельности. Однако будет правильно сказать, что нигде больше ошибки, подтасовки и нечестное поведение не обнаруживаются столь быстро, как в науке. Эксперимент может повторить кто угодно и где угодно, если только он обладает необходимыми инструментами и навыками. Теории обычно приходится излагать математически, а это исключает какую бы то ни было неопределенность. Между теорией и экспериментом существует тесная связь, и их можно быстро и точно сравнить между собой. Математические формулировки в большинстве наук дают возможность подвергнуть теорию и эксперименты самой строгой проверке – более строгой, чем, например, те, что относятся к теориям, связанным с развитием цивилизаций. Контакты в науке в целом происходят быстро и продуктивно, и множество журналистов тут же доносят подробности последних достижений до всех, кто в них заинтересован. Подтверждение нового открытия или проверка новой теории облегчается тем, что в данной области работает значительное количество ученых, которые поддерживают между собою контакты, несмотря на расстояния. <…>
Все это логически подводит нас к следующим качествам хорошего ученого. Он должен проявлять любознательность по отношению к своему предмету изучения и уверенность в том, что решение может быть найдено. На пути его неизбежно постигнет так много разочарований, а также грядут такие времена, когда все пойдет наперекосяк, и ему будет казаться, что все напрасно и надежды нет. И если он не является неисправимым оптимистом, его постигнет искушение бросить свои занятия. В этом смысле его отношение к науке, особенно когда над ним больше уже не нависают экзамены, тесно связано с его жизненной философией как таковой. Если он считает, что Вселенная представляет собою просто нечто серое, скучное, бессмысленное и случайное, едва ли у него будет стимул и энергия для того, чтобы посвятить свою жизнь раскрытию ее тайн, поскольку часть ее вряд ли значит хоть сколько-нибудь больше, чем целое. <…>
Порой ученый оказывается в весьма деликатных ситуациях, когда ему некому помочь. Он должен принять решение под свою ответственность, сообразуясь со своей совестью. Например, некий теоретик может сказать экспериментатору, что опыт, который он собирается провести, неизбежно потерпит неудачу, так как это вытекает из некоторых вычислений, основанных на существующих теориях. Но можем ли мы заранее знать результат опыта, пока мы его не провели? Бесчисленное количество раз в истории науки дерзкие экспериментаторы опрокидывали предрассудки теоретиков. Тем не менее, эти предрассудки столько раз оказывались истиной, что не обращать на них внимание значит потратить месяцы и даже годы труда впустую. В конце концов, экспериментатор должен сам принять решение и взять на себя ответственность за его последствия.
В сходной ситуации оказывается человек, который много лет трудился над подтверждением своей теории и внезапно столкнулся с фактом, явно опровергающим ее. Ему нельзя поддаваться искушению проигнорировать этот факт. Однако ему приходится сталкиваться с еще более тонким искушением объяснить этот факт таким образом, чтобы просто отделаться от него. Это не просто вопрос честности перед самим собой, потому что часто ученый оправдывается приверженностью своей теории, несмотря на несколько неудобных фактов. В самом деле, многие великие ученые часто придерживались своей теории, несмотря на противоречащие им факты, и в конце концов доказали свою правоту, а казавшиеся аномальными наблюдения оказывались таковыми по причинам, о которых тогда никто даже не догадывался.
Итак, практика научных исследований может и должна вести к развитию восторженной любви к истине, под контролем объективной критики и сбалансированных суждений. Таковые качества имеют наибольшую ценность тогда, когда ученый начинает размышлять о своей ответственности перед обществом, и именно к этому вопросу мы сейчас и подходим.
За последнее десятилетие мы стали свидетелями значительного возрастания среди ученых, особенно среди физиков-ядерщиков, осознания своей ответственности перед обществом. Причиной послужил тот факт, что за последнее время научные достижения внедряются в жизнь все быстрее и быстрее, так что сам ученый имеет возможность наблюдать весь процесс – от зарождения идеи в его уме до ее широкого применения, которое происходит в течение нескольких лет. <…>
Во время войны ученые, работавшие в Лос-Аламосе, трудились под таким давлением и в таком темпе, что едва ли кто из них думал о своих нравственных обязательствах. Когда ученому с мировым именем доктору Х. А. Бету (H. A. Bethe) задали вопрос о позиции лос-аламосских ученых по поводу нравственных и гуманитарных проблем, связанных с их деятельностью, он ответил: «К сожалению, я вынужден признать, что во время войны – по крайней мере – я мало обращал на это внимание. Нам надо было сделать работу, и очень тяжелую. Прежде всего, мы хотели завершить эту работу. Нам казалось, что важнее всего для нас было внести свой вклад в победу – так, как мы могли это сделать. Только тогда, когда наши труды были закончены – когда бомба была сброшена на Японию – или, может быть, чуть раньше, мы начали задумываться над нравственными аспектами их применения». (326)
Многие ученые возражали против сбрасывания бомбы на Японию, однако последнее слово было уже не за ними. Тем не менее именно их работа стала причиной появления бомбы, и это произвело на них неизгладимое впечатление. Их глава, Дж. Роберт Оппенгеймер, подвел итог в одной незабываемой фразе: «Если говорить прямо, то никакая грубость, никакая насмешка, никакое преувеличение не смогут скрыть того факта, что физики познали грех, и от этого знания им уже никуда не спрятаться».
Поэтому после войны, когда физики захотели вернуться в свои университеты и вновь погрузиться в свои мирные академические занятия, они горели желанием искупить «грех Аламогордо», оказав влияние на национальную политику таким образом, чтобы ядерное оружие больше никогда не применялось. Вот что сказал Оппенгеймер: «У меня было ощущение тяжелой ответственности, интерес и живое участие ко всем проблемам, с которыми столкнулась наша страна в связи с развитием атомной энергии» (15). Итак, он вместе с другими физиками-ядерщиками не жалел усилий на установление международного контроля над атомной энергией с тем, чтобы способствовать широкому ее применению в мирных целях и не позволить применять ее в целях разрушения. Для этого гениальным ученым Барухом был предложен план, предусматривавший учреждение Международной Организации по Развитию Атомной Энергии для контроля над всем производственным процессом, так чтобы ни одна страна не могла бы получить такое количество ядерного материала (обогащенной урановой руды), которое можно было бы использовать в военных целях, что могло бы стать угрозой миру. Как только была основана эта Организация, Соединенные Штаты, которые в то время фактически имели монополию над подобными процессами, предложили обнародовать все имеющиеся научные данные и путем контроля и инспекции добиться, чтобы в этой области не было никакой подпольной деятельности. Этот благородный призыв был тепло встречен всеми членами ООН, за исключением СССР и стран, находящихся под его влиянием, жесткая позиция которых не позволила реализовать этот план.
Ученые продолжали консультировать Правительство, и многие из них вернулись в Лос-Аламос, чтобы приумножить убойную силу атомного оружия, которое, как они с сожалением признали, оказалось необходимым в неудовлетворительной для США международной обстановке. Их нравственное чувство еще раз подверглось испытанию в 1949 году, когда встал вопрос о производстве термоядерной или водородной бомбы. Многие из них, увидев, что за последние годы все их усилия по обеспечению международного сотрудничества потерпели крах, испытали отвращение в отношении нового предложения, так как предвидели, что оно только добавит проблем, но никак не разрешит уже имеющиеся. Бет сказал: «Мне казалось, что все это предприятие по созданию бомбы еще большей мощности было просто ужасающим, и я совершенно не знал, что мне делать… Я оказался в подвешенном состоянии. Мне казалось, что разработка термоядерного оружия не решит ни одной из проблем, с которыми мы столкнулись, и, тем не менее, я был совсем не уверен в том, должен ли я отказываться… Доктора Оппенгеймера я нашел столь же встревоженным и в том же состоянии неуверенности о том, что нужно делать… Я имел очень долгую и откровенную беседу с доктором Вайскопфом о том, какая может быть война при наличии водородного оружия. Нам пришлось согласиться с тем, что если нам и суждено будет победить в такой войне, то мир после нее будет уже совсем не таким, каким нам хотелось бы его сохранить. Мы лишимся тех вещей, за которые воевали. Это был очень долгий разговор и очень тяжелый для нас обоих… Боюсь, что мои внутренние тревоги так и остались со мной до сих пор – на этот вопрос я сам себе так и не ответил. Я до сих пор чувствую, что совершил ошибку. Однако обратного пути нет». (328–329).
Многие ученые требовали сделать еще одну попытку заключить международное соглашение до того, как будет принято решение делать водородную бомбу. Г-н Кенанн, некоторое время бывший послом Соединенных Штатов в Москве, долго обсуждал эту тему с Оппенгеймером. У Кеннана возникло впечатление, что Оппенгеймер «очень сильно озабочен чрезвычайно тяжелыми последствиями этого решения… Он осознавал, что все это может зайти слишком далеко. Что почти невозможно даже себе представить, если такого рода гонка вооружений и средств массового уничтожения будет бесконтрольно продолжаться. А потому он был очень сильно встревожен и озабочен тем, чтобы было принято максимально взвешенное и разумное решение» (358).
Тем не менее водородная бомба была сделана, а мир до сих пор разделен. Физики-ядерщики до сих пор бьются над тем, чтобы привлечь внимание к ужасающим последствиям возможной войны с применением ядерного оружия.
Физики-ядерщики больше других ученых осознают степень своей социальной ответственности, потому что результаты их труда – как благие, так и разрушительные – гораздо более очевидны, чем результаты ученых, работающих в других отраслях. Однако эту ответственность несут на себе все ученые без исключения, и очень важно, чтобы они осознавали ее как можно полнее.
Если наши действия оказывают влияние на других людей, мы отвечаем за то, чтобы они шли им на благо. И мы должны задать себе вопрос: в какой степени это относится к ученому? Нет никакого сомнения в том, что его деятельность оказывает громадное влияние на его собратьев по человечеству. Каких же действий можно, однако, от него ожидать?
Это сразу же приводит к ряду весьма сложных проблем, решения которых далеко не так очевидны. Прежде, чем мы их рассмотрим, полезно было бы прояснить некоторые недоразумения. Например, можно сказать, что ученый мог бы запросто снять с себя ответственность перед обществом, делая открытия в области, полезной для людей и не занимаясь тем, что принесет вред. Тогда воздействие его трудов на общество может быть только благим. К сожалению, однако, все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что одно и то же открытие может быть почти без изменений использоваться как во благо, так и во зло. Более того, вообще-то говоря, невозможно предсказать воздействие на общество какого-либо конкретного открытия, особенно сделанного в области чистой науки. Например, могли ли Хан и Страссман, изучавшие химическую природу вещества, полученного в результате воздействия нейтронного излучения на уран, предвидеть последствия этого уранового излучения? И если они не могли предвидеть, куда приведут их исследования, как можно требовать от них каких-то действий, нейтрализующих влияние их открытий на общество? Даже в случае прикладной науки, когда определенный хорошо известный результат приспосабливается и используется с намеченной целью, так что обычно можно предсказать его немедленный эффект, отдаленные результаты открытия все же остаются нам неизвестны. Так что необходимо согласиться с тем фактом, что обычно мы не знаем последствий ни одного конкретного открытия.
Но как только общественные следствия какого-либо открытия становятся известны, ученый начинает нести за него ответственность. Обычно должно пройти несколько лет, даже несмотря на нынешнюю быстроту научного прогресса, между открытием и его широким применением, и именно в этот критический период на ученого падает наибольшая ответственность. Например, воздействие открытия ядерного излучения на общество было осознано учеными очень скоро после того, как было сделано это открытие, однако оказывать это воздействие на общество оно стало только через много лет.
Тогда предположим, что ученый сделал открытие и осознает его социальные последствия. Каких действий можно от него ожидать? Мы уже говорили: он должен сделать все возможное, чтобы полностью обезопасить эти последствия, удостоверившись в том, что его открытие не будет использовано во зло. Однако было бы нелепо утверждать, что по причине важности науки общество должно управляться учеными, поскольку в этой сфере они не получили специального образования. Этого мнения придерживаются некоторые ученые. Все мы, к сожалению, прекрасно знаем ученых, которые демонстрируют восхитительную сдержанность и осторожность, когда речь идет о предметах, в которых они компетентны, и которые, однако отбрасывают всякую осторожность, касаясь вещей, в которых они почти не разбираются. Так что в целом придется признать, что, хотя занятия наукой развивают множество личных качеств, ценность которых невозможно недооценить, если ученый обращается к другой сфере деятельности, то никакой багаж научных знаний не гарантирует, что он может авторитетно судить и о других областях. Это, разумеется, не относится к тем, кто специально прошел обучение для того, чтобы подготовиться к общественной работе, однако, к сожалению, примеров таких ученых очень мало.
Что должен сделать ученый, так это предусмотреть, чтобы власть имущие имели бы на руках все факты, необходимые для принятия благих для общества решений. В целом это означает, что ему придется взять на себя труд перевести технические термины на язык, понятный тем, кому придется иметь с ними дело. И его обязанности не заканчиваются представлением оформленного доклада. Он должен позаботиться о том, чтобы власти полностью оценили последствия того, что он им представил. Поскольку политики слишком часто думают лишь о следующих выборах, но никак не о последующих поколениях, и частенько слишком заняты, чтобы слушать безумных ученых, приходиться прибегать к настойчивой агитации прежде, чем предмет привлечет внимание, которого он заслуживает. В настоящее время в этой стране это происходит довольно редко, так как важность науки оценивается высоко и в правительственных консультативных органах сейчас есть много специалистов высокого уровня.
Надо заменить, что все это не относится к ученому-середнячку. Он занят рутинными процессами исследования, из которых вряд ли можно ожидать какого-либо выдающегося открытия. Следует ли из этого, что он не несет конкретной ответственности? Нет, все-таки несет, потому что ответственность за то, чтобы открытие использовалось во благо, лежит не только на самом авторе, но также на тех, кто достаточно компетентен, чтобы оценить его важность и воздействие на общественную жизнь. Консультирование правительства – это только часть необходимого для того, чтобы обеспечить мудрое использование открытия. Необходимо также основанное на широкой информированности общественное мнение, по крайней мере, в демократических странах, дабы удостовериться в том, что Правительство имеет общую поддержку любых мер, которые будут необходимы. Формирование общественного мнения есть задача не для одного или нескольких ученых – это задача для них всех. Это составляет первейшую социальную ответственность ученого. Он должен делать все от него зависящее, чтобы стимулировать и вести основанную на фактах публичную дискуссию о возможностях науки. Он может это делать в основном через поддерживающие организации, такие, например, как Ассоциация физиков-атомщиков, занимающаяся распространением надежной научной информации среди широкой публики. Незаменимым помощником в этом деле служат средства массовой информации, поскольку они выходят на гораздо более широкую публику, чем это могут сделать ученые. На этом поле деятельности ученый может сотрудничать с журналистом, добиваясь чтобы общество было проинформировано о последних научных достижениях простым, но достаточно точным языком. Здесь кроется серьезное затруднение, так как для точного и лаконичного выражения своих мыслей наука разработала специальную терминологию, в основном едва ли понятную для широкого круга людей. Тем не менее, обычно при небольшом усилии основные факты без большого ущерба для точности можно объяснить достаточно простым языком. Обычно журналисты стремятся сотрудничать с учеными, хотя, к несчастью, можно привести множество примеров, когда в прошлом научные данные излагались в прессе в искаженном виде.
Недавно произошло два случая, когда ученые сочли своим долгом выступить. Первый касался вопроса об атомных электростанциях, которые, согласно некоторым газетным публикациям, выбрасывают в атмосферу тучи смертоносных радиоактивных газов. Такие истории, если только их не опровергнуть, могут легко настроить читающую публику против благотворных научных достижений. Ученым пришлось разъяснить, что, хотя радиоактивные вещества действительно производятся на атомных электростанциях в значительных количествах, все же можно принять необходимые меры предосторожности и сделать так, чтобы не позволить этим веществам проникать в атмосферу до тех пор, пока их радиоактивность не уменьшится до безопасного уровня.
Второй пример касается испытаний термоядерного оружия. Раньше было известно, что некоторые правительства стремились ограничить опасность таких испытаний для населения близлежащих островов, а также для всего остального мира. Были опубликованы статьи, нацеленные на то, чтобы успокоить общественное мнение. Однако крупные ученые, особенно генетики, были далеко не так оптимистичны. Последующие публикации были гораздо более реалистичными, благодаря ученым, взявшим на себя смелость опровергнуть предшествующие заявления. Само существование свободных и независимых ученых, готовых в случае необходимости выступать в прессе, оказывает весьма благотворное влияние на тех, кто говорит от имени правительства.
Ответственность ученого не заканчивается на том, чтобы должным образом проинформировать читающую публику, потому что по причине высокого статуса науки в современном обществе она оказывает также существенное влияние и на другие отрасли знания. Довольно часто ученый, заслуживший хорошую репутацию за свой научный труд, или, еще чаще все же возможно, некий дилетант от науки использует научные или псевдонаучные аргументы с целью поддержки философских или политических доктрин, к которым они не имеют никакого отношения. Такого рода аргументы могут вызвать грандиозную сумятицу среди тех, кто не обладает достаточными знаниями в этой области и не может подойти к ним критически, чтобы опровергнуть содержащиеся в них ложные утверждения. Ученые же несут ответственность за то, чтобы аргументированно опровергать подобные доводы. Это очевидно необходимо, когда выводы ложны, однако это тем более необходимо, когда они соответствуют истине, ибо в этом случае возникает опасность того, что истинные выводы в конце концов будут дискредитированы наравне с ложными утверждениями, приводимыми в их доказательство. <…>
Таким образом, если ученый желает занять свое законное место в современном обществе, он должен взять на себя немалый груз ответственности. От его слов и поступков в большой степени будет зависеть путь, по которому в течение последующих лет пойдет стремительно развивающаяся современная цивилизация. Было бы неправильно относиться к науке как к узким, пагубным для души поискам, которые безжалостно сводят тех, кто занимается ею, на уровень ограниченных автоматов, неспособных ни к какой другой человеческой деятельности и не могущих дать обществу ничего, кроме своих технических достижений. Напротив, изучение науки, предпринимаемое в полном осознании как ее могущества, так и ее ограниченности, развивает в человеке множество качеств, необходимых также для того, чтобы нести ответственность перед обществом. И ученый может это сделать, только если в свои отношения с остальным человечеством он привнесет ту свободу духа, целеустремленность и преданность истине, которымм он научился во время своих научных трудов.
Перевела с английского Марина Карпец
Религия и наука: поиск единых метафизических оснований
Алла Кобченко
Проблемы взаимодействия науки и религии в русской философской мысли
Во второй половине XX века (60—70-е гг.) после безуспешных попыток неопозитивистской философии науки разработать логические параметры научности возник вопрос о том, насколько рациональны сами основания научной рациональности. В результате после многочисленных дискуссий среди философов укрепилось убеждение, что проблема научной рациональности может быть решена лишь в контексте рассмотрения науки как части исторически меняющейся социокультурной реальности. Более того, научный разум, будучи исторически релятивным, а, следовательно, несамодостаточным, является всего лишь аспектом значительно более фундаментальной проблематики места и роли разума в человеческом бытии. Таким образом, современной философской стратегией в исследовании проблем науки становится так называемый онтологический поворот, то есть, по сути, наблюдаются попытки привлечь веру для обоснования знания. А стало быть, на передний план выдвигаются проблемы соотношения веры и знания, науки и религии и их соединение. Отметим, что проблема соединения разума и веры вытекает только из рационализма, утверждающего автономию разума и подчиняющего себе все движения духа, в том числе и то знание, какое заключено в вере. Исторически эта установка явилась следствием секуляризма. О последствиях последнего много написано как в философской, так и в художественной и публицистической литературе XX века: безудержный индивидуализм, или, наоборот, тоталитаризм, ничем не ограниченное вмешательство в природу, в том числе и человеческую, рабство техники и т. д. В каком-то смысле весь XX век – это фактически поэтапное освобождение от прошлого наследия Нового времени, включающего в себя веру в рационализм, представленного наукой, в ее самодостаточность и связываемый с нею прогресс. Наука, встав на путь автономии, забыв о своем происхождении и своих корнях (теперь почти уже общепризнано, что европейская наука стал возможно лишь на почве христианства), попытавшись найти собственные основания в себе самой, оказалась в ту пике, пребывание в котором все более кажется несовместимым с жизнью науки. Мы получаем технологически полезное, но полностью лишенное самоценности знание. Выход из создавшегося положения – в устранении породившей его причины. Отпадение науки от религии есть результат человеческого выбора, его свободы, которая имеет не психологическую характеристику (как, скажем, своеволие), а духовно-онтологическую. И по тому все последствия преодолеваются на этом же онтологическом уровне – внутренним изменением, внутренним переосмыслением и изживанием прежних «автономных», секуляризованных, установок, являющихся искажением духовно-религиозных основ жизни и даже отходом от них. Соответственно, в конструктивное философское обоснование границ и возможностей научного разума, расширение его познавательных сил заложено возвращение единства разума и веры, науки и религии, что предполагает расширение границ философских исследований науки и, конечно, выход за рамки версии, внутри которой проблема научной рациональности не когда приобрела столь радикальный характер.
Каковы же пути решения проблемы науки и религии? Когда мы говорим о необходимости веры для обоснования знания, то речь не идет вовсе ни об отрицании науки как человеческого творчества, ни о ее поглощении религией. Путь простого подчинения или даже внешнего согласования был до конца испробован на Западе в Средние века (в принципе, он сохранен и поныне) и был настолько дискредитирован, что возврата к нему быть не может. Соотношение современного знания и коренных идей христианства может и должно быть взаимно свободным. Решение проблемы взаимоотношения религии и науки лежит не в согласовании научных идей и основ христианского вероучении, не только в рецепции того в современном знании, что приемлемо для христианского осознания, и наоборот, а в изменении самой психологии научного творчества. Проблема – в характере самой современной науки, выросшей в атмосфере секуляризма, в ее основной ориентации, в свободе человеческого деяния и, одновременно, в характере и месте святыни в человеческой жизни. То есть в выявлении экзистенциально-бытийной подоплеки все еще возникающего конфликта науки и веры. Прежде чем перейти к рассмотрению возможных путей преодоления культурного дуализма, хотелось бы обратить внимание на то, что среди многочисленных современных подходов к решению данной проблемы прослеживаются попытки установить равновесие между знанием и верой при помощи так называемой новой научной духовности[53 - См.: Ф. Сухейль. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии, 2000, № 2. С. 170.].
Новизна присутствует только в названии данного подхода, ибо он строится на старых, натуралистических, установках. Предлагается обновление религиозного языка путем использования методологического и гносеологического инструментария современной науки. Например, американский ученый-теолог Э. Хик, по сути, отвергает идею Творения мира в Книге Бытия, ибо она отражает лишь конструкции, гносеологические принципы и лингвистические предпочтения своего времени. Само же Предание и все его толкования входят в противоречия[54 - Hick E. Evil and God of Love. London. 1975. P. 283–284.]. Понятно, что подобное решение проблемы не может дать позитивных результатов, так как оно рассматривается в русле старой дискредитировавшей себя парадигмы.
Устранение культурного дуализма возможно лишь путем пересмотра основ теоретического знания, что ставит вопрос, прежде всего, о переосмыслении понятия разума, а также истины и общезначимости знания. Попытки пересмотра основ знания были предприняты двумя мощными философскими движениями XX столетия: неокантианством и феноменологией. Решение проблемы они искали во внутренних структурах сознания познающего субъекта, пытаясь при этом совместить научный разум с историзмом, что обернулось неизбежной психологизацией субъекта познания. Ни неокантианцам, ни феноменологам не удается избавить основания научной рациональности от психологизма. А между тем в этой ситуации отчетливо была представлена иная установка: концепция «целостного разума» в русской религиозной философии. Выдвинутая в трудах И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, данная концепция стала одной из основных тем русской философии XX столетия у С. Н. Трубецкого, Е. Н. Трубецкого, Н. О. Лосского, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского и др. Родоначальники идеи «целостного разума» связывали ее с православной антропологией, аскетикой, со святоотеческим учением в целом. Этот идеал «целостного разума» и соответствующие ему нормы познания противопоставляли западному рационализму. Именно в свете идеала «целостного разума» и «цельного знания» (Вл. С. Соловьев) всякое актуальное знание и, прежде всего, научное, обретает свою истинную меру, осознается как партикулярное и неполное.
Пытаясь наметить свои варианты ответа на вопрос о соединении звания и веры, следует обратиться к историко-философской реконструкции данной концепции «целостного разума», демонстрирующей саму возможность онтологического обоснования. Понятие «разум» должно быть религиозно переосмыслено, что предполагает отход от традиционной схоластически-рациональной его схемы. Прежде всего, надо исходить из следующих аксиом: аксиома «разумности бытия» (В. В. Зеньковский), аксиома обращения всех актов духа к Абсолюту (Б. П. Вышеславцев и др.). Аксиома «разумности бытия» проявляется в том, что работа разума связана «с интуицией смысла в мире» (В. В. Зеньковский) на что указывает и на чем останавливается феноменология. В частности, остаются открытыми вопросы: откуда в душе берется эта интуиция, каковы ее смысл и основы. Ответы раскрываются только через онтологию познавательной активности. Данное постижение интуиции смысла в бытии возможно лишь в соотношении с понятием «вера», ибо она есть один из ее аспектов. Сама вера, как отмечает В. Зеньковский, определена тем, что душа изначально сопряжена с Абсолютом (Богом). Природа мысли нашей такова, что она связывает наше мышление с категорией Абсолюта: «Человек… мыслит… лишь в реляции к Абсолютному»[55 - Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 135.]; «важно понять, что если человек вообще стремится к совершенству, то только потому, что он фактически признает Его существование, каковы бы ни были его теоретические убеждения»[56 - Верховский С. Христианство // Православие в жизни. Нью-Йорк, 1953. С. 278.]. Соответственно и в интуиции смысла бытия, и в движениях веры – «одна и та же светоносная сила, источник которой есть свет Христов» (В. В. Зеньковский). Признание христоцентрической природы разума является важнейшим тезисом христианской гносеологии об исходном единстве веры и разума. Если исходить из того, что наша мысль направлена к Абсолюту, который также является ее основой, и что нашей мысли никогда не удается мыслить Абсолюта (Бога) в Нем Самом, вне мира и «все, чего может достигнуть наша мысль, чтобы охватить Бога вне мира, нам дано лишь в Откровении» (В. В. Зеньковский), то мы должны признать в качестве исходного методологического принципа нашей познавательной деятельности Откровение. И, прежде всего, такие предпосылки христианского знания, как учение о Творении мира Богом из ничего, учение о прерывности эволюции, учение о чуде, принцип телеологизма.
Итак, утверждение о сопряженности нашей мысли с Абсолютом обрекает нашу мысль на то, что она движется в линиях религиозного сознания. Поэтому сама установка самостоятельности (автономии) и независимости науки, как в целом и культуры, неправильна. Разум и вера являются двумя стихиями духа, и разъединение их означает потерю цельности духа. Данные утверждения не подразумевают упразднение ни философии, ни науки и т. д., а только вводит их в определенные границы, уясняя основной смысл свободы нашей мысли.
Достижение единства разума и веры в христианской гносеологии предполагает «обновление ума» (ап. Павел), его преображение, то есть превращение в функцию человеческого духа. Это осуществляется через духовную жизнь посредством очищения сердца. Мы, таким образом, подошли к другому важному аспекту в построении понятия «разум» – он должен быть понят динамически, так как он всегда не равен сам себе, а связан со всей жизнью личности. Необходимость такого построения связана с другим раздвоением нашей познавательной деятельности, проявляющейся в разрыве ее теоретической и оценивающей функции, в двойственности самой задачи познания (стремление познать не только действительное бытие, но и его идеальную норму), в разъединении теоретической и моральной истины, то есть в разъединении ума и сердца. О сердце как источнике знания писали как в русской философии (Киреевский, Хомяков, Достоевский, Вышеславцев и др.), так и в западной философии (Паскаль, иррационалисты XIX века, а также, например, известный французский физик, историк и философ науки начала XX века Пьер Дюгем). Рассматривая сердце как одну из познавательных сил нашего духа, речь по сути идет об укорененности интеллектуальной деятельности в духовной (в христианском смысле слова) жизни человека, что предполагает отличное от научного решение таких вопросов, как «понятие разума», «истины», «связь теоретического познания с чувствами» и др. «Понятие разума» не может быть ограничено только «созерцанием» (theoria), то есть констатированием того, что есть, так как разум непременно обращается к той норме, которая проявляется в оценочной реакции нашей деятельности. Таким образом, истина – это не только то, что есть, но и то, чем должна быть данная вещь (В. Д. Кудрявцев). Поэтому познание должно быть направлено не только на познание факта, но и на познание нормы для данного бытия. Интересны рассуждения В. В. Зеньковского о взаимосвязи теоретической работы духа с эмоциональной стороной жизни человека и его утверждение о том, что чисто теоретическая работа не может быть оторвана от нашего внутреннего состояния: «Познавательная работа нашего духа настолько связана с внутренним нашим миром, что мы должны признать возможность расширения и углубления наших познавательных сил при развитии духовной жизни человека»[57 - Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1996. С. 52.]. Если классическая рационалистическая традиция полагала, что обращение к чувствам ведет к релятивизму и субъективизму, то для христианской гносеологии «логика сердца» так же абсолютна, как законы логики нашего рассудка. Именно она гарантирует отыскание истины в ситуации неопределенности, благодаря интуитивному «чувству истины» (Паскаль), совести.
Тезис о христоцентрической природе разума предопределяет и решение вопросов о субъекте, объекте познания, самом познавательном процессе. Мы только выделим исходные моменты данной части христианской гносеологии, представленной в работах русских религиозных философов. Так, проблема соотношения объекта познания и познающего субъекта решается не путем их противопоставления, как это было характерно для классического рационализма, а путем их взаимообщения. Онтологический смысл познания трактуется как сближение с предметом познания, чтобы «перейти в любовь», то есть познание предмета возможно не со стороны, а изнутри него. Именно любовь провозглашается конечной задачей познания. При этом понимании не только открываются движущие силы познавательной активности и решаются проблемы, например, нравственного отношения к миру, но и становится ясным, что познание не есть лишь интеллектуальное обращение к миру. Аналогичные подходы можно обнаружить в античности в учении о «совпадении» софоса и агапе.
Подводя итоги, отметим, что:
– «познающий разум» покоится на предпосылках, которые он не может ни обосновать, ни отвергнуть, а это значит, что философия знания должна искать решения данной задачи не в психологии, а в онтологии познания, через понятия Абсолюта (Бога);
Кажется, что сейчас намечается новая тенденция в жизни научного сообщества. Суть этой тенденции – принципиальное изменение форм научной деятельности, связанное с появлением концепции проекта. Рискну сказать, что если указанная тенденция будет развиваться, то научное сообщество вовсе перестанет существовать. Проект представляет собой, как правило, междисциплинарную исследовательскую задачу, в которую вовлечены как ученые (причем разных специальностей), так и специалисты иных областей, такие как менеджеры, юристы и пр. Существуют, конечно, проекты, имеющие чисто исследовательские цели, но таких, судя по всему, мало. Как правило, разработка проекта связана либо с коммерческими, либо с политическими целями. В первом случае они курируются и финансируются компаниями, заинтересованными в получении прибыли, во втором – государством. В обоих случаях деятельность, развиваемая в рамках проекта, в той или иной мере связана с коммерческой или государственной тайной. Ученый, вовлеченный в проект, осознает себя скорее членом команды разработчиков, чем членом научного сообщества. Это значит, что его главный интерес состоит в достижении цели проекта, а не в получении научной истины. О какой-либо открытости (универсальности, незаинтересованности, организованном скептицизме) говорить не приходится. Возникла подобная форма, уже достаточно давно. Оборонные заказы, обеспечивавшие ученых работой на протяжении почти всего ХХ века, представляют собой типичный пример этого способа организации науки. Сейчас, однако, появляется все больше масштабных коммерческих проектов, захватывающих разные области фундаментальных исследований. Складывающаяся ситуация ведет к очевидному росту корпоративной замкнутости научной деятельности. Кроме того, происходит постепенный сдвиг в представлении о научной истине. Истина, выявленная в рамках проекта, есть не столько согласованная практика научного сообщества, сколько коммерческий или политический успех, достигнутый на определенном промежутке времени. Иными словами, относительность истины возрастает с ростом корпоративной замкнутости. Появляется множество разных «истин», противоречащих одна другой вследствие того, что они получены работающими в рамках разных проектов исследовательскими группами. Характерный пример таких разногласий мы приводили выше. Я не думаю при этом, что когда, например, высказываются взаимоисключающие суждения об опасности той или иной разработки, мы непременно имеем дело с откровенной нечестностью. Дело в том, что такого рода оценки в самом деле не однозначны. Но когда исследования закрыты, методики не разглашаются, а эксперты, принадлежащие к разным замкнутым группам, не имеют шанса для открытой полемики, каждый из них выбирает ту часть спектра возможных оценок, которая выгоднее его корпорации.
В описанном случае мы имеем дело с очередным шагом в сторону корпоративной замкнутости и закрытости научной деятельности, который ведет к разрушению самого научного сообщества. Ситуация не новая – закрытость научных исследований, связанных с военными разработками, уже давно стала привычной. К сожалению, эта тенденция усугубляется: наука все больше опутывается сетью военных или коммерческих секретов. Я бы хотел указать на насущность прямо противоположной тенденции. Основным этическим принципам научного сообщества, вытекающим из самого понятия научной истины, соответствует максимальная открытость научной деятельности. Эта открытость отнюдь не может сводится к простой информированности общества по поводу ведущихся научных исследований. Смысл ее – в широком рациональном обсуждении направления этих исследований, их методов и возможных результатов. Иными словами, речь должна идти об открытости научного сообщества (включая и исследовательские группы, создаваемые в рамках проектов) для аргументов, традиционно воспринимаемых как ненаучные. Речь идет, прежде всего, об аргументах этического характера. Однако значимый аргументационный ресурс, могущий повлиять на научную деятельность, существует в религии.
У западной науки накопился серьезный отрицательный опыт сосуществования религии и науки. Начиная с XVIII века религия воспринимается преимущественно как источник иррациональных убеждений, принципиально чуждых науке. Эти убеждения необходимо либо разоблачать, либо просто игнорировать. Религиозные сообщества нередко отвечали весьма агрессивно, провозглашая ту или иную научную теорию неприемлемой по причине расхождения с Библией. Если говорить о ХХ веке, то больше всего досталось от них эволюционным теориям. Естественно, что подобные демарши только укрепляли предубеждения противоположной стороны. Правда, в последнее время нередки попытки сближения научных и богословских концепций. Определенную популярность приобрели рассуждения о том, что научная картина мира вполне соответствует библейской. Подобное сближение мировоззренческих позиций представляет несомненный интерес. Его позитивный смысл можно увидеть хотя бы в том, что научное сообщество (или, по крайней мере, некоторая его часть) не рассматривает религию исключительно как источник заблуждений. Однако область рационального взаимодействия религии и науки не может быть этим исчерпана. По-видимому, наиболее значимой областью возможной дискуссии является этика. Весьма насущно, на мой взгляд, совместное обсуждение моральной стороны научной деятельности. Именно в этом обсуждении требуется особое внимание к религиозной аргументации со стороны научного сообщества, поскольку религии могут представить совершенно иной, неизвестный науке, взгляд на природу человека и его отношения с миром. Весьма примечательно в этом смысле выступление Юргена Хабермаса, утверждающего, что аргументационный ресурс секулярного общества недостаточен для того, чтобы удержать человечество от опасных для него действий. Речь идет, прежде всего, о внедрении в человеческую природу на уровне генных технологий. В рамках науки не существует возможности определить ту черту, переход которой может иметь катастрофические последствия. Вопрос здесь не в научном предвидении возможных результатов, а в моральной допустимости тех или иных операций. В этой связи Хабермас настаивает на открытости секулярной части общества для аргументов, развиваемых в рамках религиозного дискурса[52 - Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Весь мир, 2002.].
В заключение замечу, что речь здесь должна идти не только об ответственности и открытости научного сообщества. Существенная проблема – готовность религиозных сообществ к такой открытости. Аргументационный ресурс религиозного дискурса сейчас почти не развит. Его раскрытие составляет сферу ответственности религии в современном мире. Пока же остается серьезный вопрос: сможет ли религиозный дискурс (в том числе и христианское богословие) представить этически релевантные соображения, могущие претендовать на универсальное значение?
Питер Ходжсон
Ответственность ученого
Проблему ответственности ученого можно разделить на две части: во-первых, это его ответственность по отношению к самим занятиям наукой и, во-вторых, его ответственность как ученого по отношению ко всему обществу. Давайте для начала посмотрим на ученого в его лаборатории, так как обычно человек много лет занимается наукой прежде, чем он начинает осознавать свою ответственность перед обществом и постигает науку в такой степени, чтобы нести эту ответственность достаточно эффективно. Еще одна причина состоит в том, что занятия наукой представляют собой отличную тренировку ума и готовят человека к исполнению обязанностей перед обществом.
Это разграничение ответственности, разумеется, относится не только к ученым – оно в такой же степени относится и к любой познавательной деятельности, которая ведется систематически и рационально. Поэтому большую часть того, о чем мы будем говорить, можно применить не только к ученым, но также ко всем, кто занят в других отраслях знания. Особенно важно, однако, что ученые должны максимально осознавать свою ответственность, так как их труд оказывает огромное воздействие на нашу жизнь сегодня, и еще большее воздействие он будет оказывать на нашу жизнь в будущем.
Итак, возвращаясь к ученому, мы хотели бы узнать: в чем именно состоит его ответственность, какими качествами он должен обладать, чтобы добиться успеха на ниве своего труда, и в каком направлении эти качества должны развиваться в ходе его научных исследований? Для этого нам необходимо понять, чего он хочет достичь и каким образом. Цель ученого – получить как можно больше сведений о мире, где мы живем. Он хочет точно знать причины того, почему все происходит так, а не иначе. Он хочет приоткрыть завесу над неведомыми пока отношениями между явлениями, которые до сих пор считались не связанными между собой. Чем больше он знает о предмете, тем большей властью над ним он обладает, так что может использовать его в качестве орудия для завоевания все более широкого пространства знаний, которое постепенно перед ним раскрывается.
В драме научных исследований участвуют два персонажа: пассивный – это данный нам материальный мир, и активный – это пытливый, вопрошающий и размышляющий человеческий ум. Сначала ученый изучает и проводит эксперименты, чтобы получить знания, а затем систематизирует и обобщает их, призывая на помощь теорию. Иногда говорят, что науку можно рассматривать просто как установление связей и систематизацию данных, полученных от наших ощущений. Эта позиция, пусть даже правильная с логической точки зрения, не может предложить достаточных оснований для научной деятельности в целом. Что бы ни говорили некоторые философы, ученый-исследователь всегда уверен в том, что он открывает о мире что-то новое. Более того, если его единственная цель – раскрытие неких закономерностей, то непонятно, почему он набирает все больше и больше фактов, усложняя себе задачу.
В самом деле, чтобы достичь успеха, ученый должен обладать многими качествами. Он должен быть внимательным и усердным наблюдателем, так как часто о тончайших открытиях свидетельствуют лишь едва различимые явления. Экспериментальные исследования часто требуют многих часов тщательных и утомительных наблюдений, нередко сопровождаемых появлением бессмысленных, на первый взгляд, данных, значение которых проясняется лишь впоследствие. Вновь и вновь его опыты будут проваливаться из какой-нибудь пустяковой или досадной ошибки, и он вынужден начать все сначала и опять трудиться с терпением и настойчивостью.
Когда ученый собрал достаточно точных данных о предмете своего исследования, перед ним встает следующая задача – попытаться объяснить их с помощью теории. Чтобы преуспеть в этом, он должен обладать богатым воображением и дерзостью в построении гипотез. Но когда он уже сформулировал свою теорию, выводы из нее он должен суметь доказать с помощью эксперимента. Почти неизбежно появятся какие-то нестыковки, и ему, возможно, придется либо вовсе отказаться от теории, совершенствованию которой он посвятил тяжкие труды, либо существенно изменить ее. Это поистине суровая школа, которая требует отказа от любой концепции, сколь бы стройной и уравновешенной она ни была, если ее не удается проверить экспериментально. Пожалуй, больше, чем какое-либо другое занятие, экспериментальная наука воспитывает целеустремленность и смирение. В конце жизни, посвященной научным трудам наивысшего порядка, лорд Кельвин писал: «Все мои усердные труды по продвижению науки вперед, которым я посвятил пятьдесят пять лет моей жизни, можно описать одним словом, и слово это – неудача». Ученому постоянно приходится признаваться себе в том, что материальный мир ведет себя не так, как он бы хотел; этот мир упрям и неподатлив. Он вынужден принять требования этого мира к выпестованной им теории и смириться с его строгими законами. Ему приходится даже радоваться, когда развенчиваются его собственные теории, если этого требует истина. <…>
С годами ученый обретает одно из наиболее характерных своих качеств, а именно – непоколебимую приверженность истине. Он прекрасно знает, что любое отклонение от нее, даже если оно принесет ему временную славу, в конце концов обнаружится. Он знает, что в конечном итоге бесполезно «подгонять» результаты опытов с тем, чтобы согласовать их со своей теорией, или же насильно притягивать теорию к результатам экспериментов. Он осознает тщетность попыток подогнать науку к заранее заданным идеям и категорически отвергает всякие поползновения ограничить свободу его творчества. Эта необходимость полной объективности и преданности истине свойственна, разумеется, не только науке, но любой исследовательской деятельности. Однако будет правильно сказать, что нигде больше ошибки, подтасовки и нечестное поведение не обнаруживаются столь быстро, как в науке. Эксперимент может повторить кто угодно и где угодно, если только он обладает необходимыми инструментами и навыками. Теории обычно приходится излагать математически, а это исключает какую бы то ни было неопределенность. Между теорией и экспериментом существует тесная связь, и их можно быстро и точно сравнить между собой. Математические формулировки в большинстве наук дают возможность подвергнуть теорию и эксперименты самой строгой проверке – более строгой, чем, например, те, что относятся к теориям, связанным с развитием цивилизаций. Контакты в науке в целом происходят быстро и продуктивно, и множество журналистов тут же доносят подробности последних достижений до всех, кто в них заинтересован. Подтверждение нового открытия или проверка новой теории облегчается тем, что в данной области работает значительное количество ученых, которые поддерживают между собою контакты, несмотря на расстояния. <…>
Все это логически подводит нас к следующим качествам хорошего ученого. Он должен проявлять любознательность по отношению к своему предмету изучения и уверенность в том, что решение может быть найдено. На пути его неизбежно постигнет так много разочарований, а также грядут такие времена, когда все пойдет наперекосяк, и ему будет казаться, что все напрасно и надежды нет. И если он не является неисправимым оптимистом, его постигнет искушение бросить свои занятия. В этом смысле его отношение к науке, особенно когда над ним больше уже не нависают экзамены, тесно связано с его жизненной философией как таковой. Если он считает, что Вселенная представляет собою просто нечто серое, скучное, бессмысленное и случайное, едва ли у него будет стимул и энергия для того, чтобы посвятить свою жизнь раскрытию ее тайн, поскольку часть ее вряд ли значит хоть сколько-нибудь больше, чем целое. <…>
Порой ученый оказывается в весьма деликатных ситуациях, когда ему некому помочь. Он должен принять решение под свою ответственность, сообразуясь со своей совестью. Например, некий теоретик может сказать экспериментатору, что опыт, который он собирается провести, неизбежно потерпит неудачу, так как это вытекает из некоторых вычислений, основанных на существующих теориях. Но можем ли мы заранее знать результат опыта, пока мы его не провели? Бесчисленное количество раз в истории науки дерзкие экспериментаторы опрокидывали предрассудки теоретиков. Тем не менее, эти предрассудки столько раз оказывались истиной, что не обращать на них внимание значит потратить месяцы и даже годы труда впустую. В конце концов, экспериментатор должен сам принять решение и взять на себя ответственность за его последствия.
В сходной ситуации оказывается человек, который много лет трудился над подтверждением своей теории и внезапно столкнулся с фактом, явно опровергающим ее. Ему нельзя поддаваться искушению проигнорировать этот факт. Однако ему приходится сталкиваться с еще более тонким искушением объяснить этот факт таким образом, чтобы просто отделаться от него. Это не просто вопрос честности перед самим собой, потому что часто ученый оправдывается приверженностью своей теории, несмотря на несколько неудобных фактов. В самом деле, многие великие ученые часто придерживались своей теории, несмотря на противоречащие им факты, и в конце концов доказали свою правоту, а казавшиеся аномальными наблюдения оказывались таковыми по причинам, о которых тогда никто даже не догадывался.
Итак, практика научных исследований может и должна вести к развитию восторженной любви к истине, под контролем объективной критики и сбалансированных суждений. Таковые качества имеют наибольшую ценность тогда, когда ученый начинает размышлять о своей ответственности перед обществом, и именно к этому вопросу мы сейчас и подходим.
За последнее десятилетие мы стали свидетелями значительного возрастания среди ученых, особенно среди физиков-ядерщиков, осознания своей ответственности перед обществом. Причиной послужил тот факт, что за последнее время научные достижения внедряются в жизнь все быстрее и быстрее, так что сам ученый имеет возможность наблюдать весь процесс – от зарождения идеи в его уме до ее широкого применения, которое происходит в течение нескольких лет. <…>
Во время войны ученые, работавшие в Лос-Аламосе, трудились под таким давлением и в таком темпе, что едва ли кто из них думал о своих нравственных обязательствах. Когда ученому с мировым именем доктору Х. А. Бету (H. A. Bethe) задали вопрос о позиции лос-аламосских ученых по поводу нравственных и гуманитарных проблем, связанных с их деятельностью, он ответил: «К сожалению, я вынужден признать, что во время войны – по крайней мере – я мало обращал на это внимание. Нам надо было сделать работу, и очень тяжелую. Прежде всего, мы хотели завершить эту работу. Нам казалось, что важнее всего для нас было внести свой вклад в победу – так, как мы могли это сделать. Только тогда, когда наши труды были закончены – когда бомба была сброшена на Японию – или, может быть, чуть раньше, мы начали задумываться над нравственными аспектами их применения». (326)
Многие ученые возражали против сбрасывания бомбы на Японию, однако последнее слово было уже не за ними. Тем не менее именно их работа стала причиной появления бомбы, и это произвело на них неизгладимое впечатление. Их глава, Дж. Роберт Оппенгеймер, подвел итог в одной незабываемой фразе: «Если говорить прямо, то никакая грубость, никакая насмешка, никакое преувеличение не смогут скрыть того факта, что физики познали грех, и от этого знания им уже никуда не спрятаться».
Поэтому после войны, когда физики захотели вернуться в свои университеты и вновь погрузиться в свои мирные академические занятия, они горели желанием искупить «грех Аламогордо», оказав влияние на национальную политику таким образом, чтобы ядерное оружие больше никогда не применялось. Вот что сказал Оппенгеймер: «У меня было ощущение тяжелой ответственности, интерес и живое участие ко всем проблемам, с которыми столкнулась наша страна в связи с развитием атомной энергии» (15). Итак, он вместе с другими физиками-ядерщиками не жалел усилий на установление международного контроля над атомной энергией с тем, чтобы способствовать широкому ее применению в мирных целях и не позволить применять ее в целях разрушения. Для этого гениальным ученым Барухом был предложен план, предусматривавший учреждение Международной Организации по Развитию Атомной Энергии для контроля над всем производственным процессом, так чтобы ни одна страна не могла бы получить такое количество ядерного материала (обогащенной урановой руды), которое можно было бы использовать в военных целях, что могло бы стать угрозой миру. Как только была основана эта Организация, Соединенные Штаты, которые в то время фактически имели монополию над подобными процессами, предложили обнародовать все имеющиеся научные данные и путем контроля и инспекции добиться, чтобы в этой области не было никакой подпольной деятельности. Этот благородный призыв был тепло встречен всеми членами ООН, за исключением СССР и стран, находящихся под его влиянием, жесткая позиция которых не позволила реализовать этот план.
Ученые продолжали консультировать Правительство, и многие из них вернулись в Лос-Аламос, чтобы приумножить убойную силу атомного оружия, которое, как они с сожалением признали, оказалось необходимым в неудовлетворительной для США международной обстановке. Их нравственное чувство еще раз подверглось испытанию в 1949 году, когда встал вопрос о производстве термоядерной или водородной бомбы. Многие из них, увидев, что за последние годы все их усилия по обеспечению международного сотрудничества потерпели крах, испытали отвращение в отношении нового предложения, так как предвидели, что оно только добавит проблем, но никак не разрешит уже имеющиеся. Бет сказал: «Мне казалось, что все это предприятие по созданию бомбы еще большей мощности было просто ужасающим, и я совершенно не знал, что мне делать… Я оказался в подвешенном состоянии. Мне казалось, что разработка термоядерного оружия не решит ни одной из проблем, с которыми мы столкнулись, и, тем не менее, я был совсем не уверен в том, должен ли я отказываться… Доктора Оппенгеймера я нашел столь же встревоженным и в том же состоянии неуверенности о том, что нужно делать… Я имел очень долгую и откровенную беседу с доктором Вайскопфом о том, какая может быть война при наличии водородного оружия. Нам пришлось согласиться с тем, что если нам и суждено будет победить в такой войне, то мир после нее будет уже совсем не таким, каким нам хотелось бы его сохранить. Мы лишимся тех вещей, за которые воевали. Это был очень долгий разговор и очень тяжелый для нас обоих… Боюсь, что мои внутренние тревоги так и остались со мной до сих пор – на этот вопрос я сам себе так и не ответил. Я до сих пор чувствую, что совершил ошибку. Однако обратного пути нет». (328–329).
Многие ученые требовали сделать еще одну попытку заключить международное соглашение до того, как будет принято решение делать водородную бомбу. Г-н Кенанн, некоторое время бывший послом Соединенных Штатов в Москве, долго обсуждал эту тему с Оппенгеймером. У Кеннана возникло впечатление, что Оппенгеймер «очень сильно озабочен чрезвычайно тяжелыми последствиями этого решения… Он осознавал, что все это может зайти слишком далеко. Что почти невозможно даже себе представить, если такого рода гонка вооружений и средств массового уничтожения будет бесконтрольно продолжаться. А потому он был очень сильно встревожен и озабочен тем, чтобы было принято максимально взвешенное и разумное решение» (358).
Тем не менее водородная бомба была сделана, а мир до сих пор разделен. Физики-ядерщики до сих пор бьются над тем, чтобы привлечь внимание к ужасающим последствиям возможной войны с применением ядерного оружия.
Физики-ядерщики больше других ученых осознают степень своей социальной ответственности, потому что результаты их труда – как благие, так и разрушительные – гораздо более очевидны, чем результаты ученых, работающих в других отраслях. Однако эту ответственность несут на себе все ученые без исключения, и очень важно, чтобы они осознавали ее как можно полнее.
Если наши действия оказывают влияние на других людей, мы отвечаем за то, чтобы они шли им на благо. И мы должны задать себе вопрос: в какой степени это относится к ученому? Нет никакого сомнения в том, что его деятельность оказывает громадное влияние на его собратьев по человечеству. Каких же действий можно, однако, от него ожидать?
Это сразу же приводит к ряду весьма сложных проблем, решения которых далеко не так очевидны. Прежде, чем мы их рассмотрим, полезно было бы прояснить некоторые недоразумения. Например, можно сказать, что ученый мог бы запросто снять с себя ответственность перед обществом, делая открытия в области, полезной для людей и не занимаясь тем, что принесет вред. Тогда воздействие его трудов на общество может быть только благим. К сожалению, однако, все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что одно и то же открытие может быть почти без изменений использоваться как во благо, так и во зло. Более того, вообще-то говоря, невозможно предсказать воздействие на общество какого-либо конкретного открытия, особенно сделанного в области чистой науки. Например, могли ли Хан и Страссман, изучавшие химическую природу вещества, полученного в результате воздействия нейтронного излучения на уран, предвидеть последствия этого уранового излучения? И если они не могли предвидеть, куда приведут их исследования, как можно требовать от них каких-то действий, нейтрализующих влияние их открытий на общество? Даже в случае прикладной науки, когда определенный хорошо известный результат приспосабливается и используется с намеченной целью, так что обычно можно предсказать его немедленный эффект, отдаленные результаты открытия все же остаются нам неизвестны. Так что необходимо согласиться с тем фактом, что обычно мы не знаем последствий ни одного конкретного открытия.
Но как только общественные следствия какого-либо открытия становятся известны, ученый начинает нести за него ответственность. Обычно должно пройти несколько лет, даже несмотря на нынешнюю быстроту научного прогресса, между открытием и его широким применением, и именно в этот критический период на ученого падает наибольшая ответственность. Например, воздействие открытия ядерного излучения на общество было осознано учеными очень скоро после того, как было сделано это открытие, однако оказывать это воздействие на общество оно стало только через много лет.
Тогда предположим, что ученый сделал открытие и осознает его социальные последствия. Каких действий можно от него ожидать? Мы уже говорили: он должен сделать все возможное, чтобы полностью обезопасить эти последствия, удостоверившись в том, что его открытие не будет использовано во зло. Однако было бы нелепо утверждать, что по причине важности науки общество должно управляться учеными, поскольку в этой сфере они не получили специального образования. Этого мнения придерживаются некоторые ученые. Все мы, к сожалению, прекрасно знаем ученых, которые демонстрируют восхитительную сдержанность и осторожность, когда речь идет о предметах, в которых они компетентны, и которые, однако отбрасывают всякую осторожность, касаясь вещей, в которых они почти не разбираются. Так что в целом придется признать, что, хотя занятия наукой развивают множество личных качеств, ценность которых невозможно недооценить, если ученый обращается к другой сфере деятельности, то никакой багаж научных знаний не гарантирует, что он может авторитетно судить и о других областях. Это, разумеется, не относится к тем, кто специально прошел обучение для того, чтобы подготовиться к общественной работе, однако, к сожалению, примеров таких ученых очень мало.
Что должен сделать ученый, так это предусмотреть, чтобы власть имущие имели бы на руках все факты, необходимые для принятия благих для общества решений. В целом это означает, что ему придется взять на себя труд перевести технические термины на язык, понятный тем, кому придется иметь с ними дело. И его обязанности не заканчиваются представлением оформленного доклада. Он должен позаботиться о том, чтобы власти полностью оценили последствия того, что он им представил. Поскольку политики слишком часто думают лишь о следующих выборах, но никак не о последующих поколениях, и частенько слишком заняты, чтобы слушать безумных ученых, приходиться прибегать к настойчивой агитации прежде, чем предмет привлечет внимание, которого он заслуживает. В настоящее время в этой стране это происходит довольно редко, так как важность науки оценивается высоко и в правительственных консультативных органах сейчас есть много специалистов высокого уровня.
Надо заменить, что все это не относится к ученому-середнячку. Он занят рутинными процессами исследования, из которых вряд ли можно ожидать какого-либо выдающегося открытия. Следует ли из этого, что он не несет конкретной ответственности? Нет, все-таки несет, потому что ответственность за то, чтобы открытие использовалось во благо, лежит не только на самом авторе, но также на тех, кто достаточно компетентен, чтобы оценить его важность и воздействие на общественную жизнь. Консультирование правительства – это только часть необходимого для того, чтобы обеспечить мудрое использование открытия. Необходимо также основанное на широкой информированности общественное мнение, по крайней мере, в демократических странах, дабы удостовериться в том, что Правительство имеет общую поддержку любых мер, которые будут необходимы. Формирование общественного мнения есть задача не для одного или нескольких ученых – это задача для них всех. Это составляет первейшую социальную ответственность ученого. Он должен делать все от него зависящее, чтобы стимулировать и вести основанную на фактах публичную дискуссию о возможностях науки. Он может это делать в основном через поддерживающие организации, такие, например, как Ассоциация физиков-атомщиков, занимающаяся распространением надежной научной информации среди широкой публики. Незаменимым помощником в этом деле служат средства массовой информации, поскольку они выходят на гораздо более широкую публику, чем это могут сделать ученые. На этом поле деятельности ученый может сотрудничать с журналистом, добиваясь чтобы общество было проинформировано о последних научных достижениях простым, но достаточно точным языком. Здесь кроется серьезное затруднение, так как для точного и лаконичного выражения своих мыслей наука разработала специальную терминологию, в основном едва ли понятную для широкого круга людей. Тем не менее, обычно при небольшом усилии основные факты без большого ущерба для точности можно объяснить достаточно простым языком. Обычно журналисты стремятся сотрудничать с учеными, хотя, к несчастью, можно привести множество примеров, когда в прошлом научные данные излагались в прессе в искаженном виде.
Недавно произошло два случая, когда ученые сочли своим долгом выступить. Первый касался вопроса об атомных электростанциях, которые, согласно некоторым газетным публикациям, выбрасывают в атмосферу тучи смертоносных радиоактивных газов. Такие истории, если только их не опровергнуть, могут легко настроить читающую публику против благотворных научных достижений. Ученым пришлось разъяснить, что, хотя радиоактивные вещества действительно производятся на атомных электростанциях в значительных количествах, все же можно принять необходимые меры предосторожности и сделать так, чтобы не позволить этим веществам проникать в атмосферу до тех пор, пока их радиоактивность не уменьшится до безопасного уровня.
Второй пример касается испытаний термоядерного оружия. Раньше было известно, что некоторые правительства стремились ограничить опасность таких испытаний для населения близлежащих островов, а также для всего остального мира. Были опубликованы статьи, нацеленные на то, чтобы успокоить общественное мнение. Однако крупные ученые, особенно генетики, были далеко не так оптимистичны. Последующие публикации были гораздо более реалистичными, благодаря ученым, взявшим на себя смелость опровергнуть предшествующие заявления. Само существование свободных и независимых ученых, готовых в случае необходимости выступать в прессе, оказывает весьма благотворное влияние на тех, кто говорит от имени правительства.
Ответственность ученого не заканчивается на том, чтобы должным образом проинформировать читающую публику, потому что по причине высокого статуса науки в современном обществе она оказывает также существенное влияние и на другие отрасли знания. Довольно часто ученый, заслуживший хорошую репутацию за свой научный труд, или, еще чаще все же возможно, некий дилетант от науки использует научные или псевдонаучные аргументы с целью поддержки философских или политических доктрин, к которым они не имеют никакого отношения. Такого рода аргументы могут вызвать грандиозную сумятицу среди тех, кто не обладает достаточными знаниями в этой области и не может подойти к ним критически, чтобы опровергнуть содержащиеся в них ложные утверждения. Ученые же несут ответственность за то, чтобы аргументированно опровергать подобные доводы. Это очевидно необходимо, когда выводы ложны, однако это тем более необходимо, когда они соответствуют истине, ибо в этом случае возникает опасность того, что истинные выводы в конце концов будут дискредитированы наравне с ложными утверждениями, приводимыми в их доказательство. <…>
Таким образом, если ученый желает занять свое законное место в современном обществе, он должен взять на себя немалый груз ответственности. От его слов и поступков в большой степени будет зависеть путь, по которому в течение последующих лет пойдет стремительно развивающаяся современная цивилизация. Было бы неправильно относиться к науке как к узким, пагубным для души поискам, которые безжалостно сводят тех, кто занимается ею, на уровень ограниченных автоматов, неспособных ни к какой другой человеческой деятельности и не могущих дать обществу ничего, кроме своих технических достижений. Напротив, изучение науки, предпринимаемое в полном осознании как ее могущества, так и ее ограниченности, развивает в человеке множество качеств, необходимых также для того, чтобы нести ответственность перед обществом. И ученый может это сделать, только если в свои отношения с остальным человечеством он привнесет ту свободу духа, целеустремленность и преданность истине, которымм он научился во время своих научных трудов.
Перевела с английского Марина Карпец
Религия и наука: поиск единых метафизических оснований
Алла Кобченко
Проблемы взаимодействия науки и религии в русской философской мысли
Во второй половине XX века (60—70-е гг.) после безуспешных попыток неопозитивистской философии науки разработать логические параметры научности возник вопрос о том, насколько рациональны сами основания научной рациональности. В результате после многочисленных дискуссий среди философов укрепилось убеждение, что проблема научной рациональности может быть решена лишь в контексте рассмотрения науки как части исторически меняющейся социокультурной реальности. Более того, научный разум, будучи исторически релятивным, а, следовательно, несамодостаточным, является всего лишь аспектом значительно более фундаментальной проблематики места и роли разума в человеческом бытии. Таким образом, современной философской стратегией в исследовании проблем науки становится так называемый онтологический поворот, то есть, по сути, наблюдаются попытки привлечь веру для обоснования знания. А стало быть, на передний план выдвигаются проблемы соотношения веры и знания, науки и религии и их соединение. Отметим, что проблема соединения разума и веры вытекает только из рационализма, утверждающего автономию разума и подчиняющего себе все движения духа, в том числе и то знание, какое заключено в вере. Исторически эта установка явилась следствием секуляризма. О последствиях последнего много написано как в философской, так и в художественной и публицистической литературе XX века: безудержный индивидуализм, или, наоборот, тоталитаризм, ничем не ограниченное вмешательство в природу, в том числе и человеческую, рабство техники и т. д. В каком-то смысле весь XX век – это фактически поэтапное освобождение от прошлого наследия Нового времени, включающего в себя веру в рационализм, представленного наукой, в ее самодостаточность и связываемый с нею прогресс. Наука, встав на путь автономии, забыв о своем происхождении и своих корнях (теперь почти уже общепризнано, что европейская наука стал возможно лишь на почве христианства), попытавшись найти собственные основания в себе самой, оказалась в ту пике, пребывание в котором все более кажется несовместимым с жизнью науки. Мы получаем технологически полезное, но полностью лишенное самоценности знание. Выход из создавшегося положения – в устранении породившей его причины. Отпадение науки от религии есть результат человеческого выбора, его свободы, которая имеет не психологическую характеристику (как, скажем, своеволие), а духовно-онтологическую. И по тому все последствия преодолеваются на этом же онтологическом уровне – внутренним изменением, внутренним переосмыслением и изживанием прежних «автономных», секуляризованных, установок, являющихся искажением духовно-религиозных основ жизни и даже отходом от них. Соответственно, в конструктивное философское обоснование границ и возможностей научного разума, расширение его познавательных сил заложено возвращение единства разума и веры, науки и религии, что предполагает расширение границ философских исследований науки и, конечно, выход за рамки версии, внутри которой проблема научной рациональности не когда приобрела столь радикальный характер.
Каковы же пути решения проблемы науки и религии? Когда мы говорим о необходимости веры для обоснования знания, то речь не идет вовсе ни об отрицании науки как человеческого творчества, ни о ее поглощении религией. Путь простого подчинения или даже внешнего согласования был до конца испробован на Западе в Средние века (в принципе, он сохранен и поныне) и был настолько дискредитирован, что возврата к нему быть не может. Соотношение современного знания и коренных идей христианства может и должно быть взаимно свободным. Решение проблемы взаимоотношения религии и науки лежит не в согласовании научных идей и основ христианского вероучении, не только в рецепции того в современном знании, что приемлемо для христианского осознания, и наоборот, а в изменении самой психологии научного творчества. Проблема – в характере самой современной науки, выросшей в атмосфере секуляризма, в ее основной ориентации, в свободе человеческого деяния и, одновременно, в характере и месте святыни в человеческой жизни. То есть в выявлении экзистенциально-бытийной подоплеки все еще возникающего конфликта науки и веры. Прежде чем перейти к рассмотрению возможных путей преодоления культурного дуализма, хотелось бы обратить внимание на то, что среди многочисленных современных подходов к решению данной проблемы прослеживаются попытки установить равновесие между знанием и верой при помощи так называемой новой научной духовности[53 - См.: Ф. Сухейль. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии, 2000, № 2. С. 170.].
Новизна присутствует только в названии данного подхода, ибо он строится на старых, натуралистических, установках. Предлагается обновление религиозного языка путем использования методологического и гносеологического инструментария современной науки. Например, американский ученый-теолог Э. Хик, по сути, отвергает идею Творения мира в Книге Бытия, ибо она отражает лишь конструкции, гносеологические принципы и лингвистические предпочтения своего времени. Само же Предание и все его толкования входят в противоречия[54 - Hick E. Evil and God of Love. London. 1975. P. 283–284.]. Понятно, что подобное решение проблемы не может дать позитивных результатов, так как оно рассматривается в русле старой дискредитировавшей себя парадигмы.
Устранение культурного дуализма возможно лишь путем пересмотра основ теоретического знания, что ставит вопрос, прежде всего, о переосмыслении понятия разума, а также истины и общезначимости знания. Попытки пересмотра основ знания были предприняты двумя мощными философскими движениями XX столетия: неокантианством и феноменологией. Решение проблемы они искали во внутренних структурах сознания познающего субъекта, пытаясь при этом совместить научный разум с историзмом, что обернулось неизбежной психологизацией субъекта познания. Ни неокантианцам, ни феноменологам не удается избавить основания научной рациональности от психологизма. А между тем в этой ситуации отчетливо была представлена иная установка: концепция «целостного разума» в русской религиозной философии. Выдвинутая в трудах И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, данная концепция стала одной из основных тем русской философии XX столетия у С. Н. Трубецкого, Е. Н. Трубецкого, Н. О. Лосского, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского и др. Родоначальники идеи «целостного разума» связывали ее с православной антропологией, аскетикой, со святоотеческим учением в целом. Этот идеал «целостного разума» и соответствующие ему нормы познания противопоставляли западному рационализму. Именно в свете идеала «целостного разума» и «цельного знания» (Вл. С. Соловьев) всякое актуальное знание и, прежде всего, научное, обретает свою истинную меру, осознается как партикулярное и неполное.
Пытаясь наметить свои варианты ответа на вопрос о соединении звания и веры, следует обратиться к историко-философской реконструкции данной концепции «целостного разума», демонстрирующей саму возможность онтологического обоснования. Понятие «разум» должно быть религиозно переосмыслено, что предполагает отход от традиционной схоластически-рациональной его схемы. Прежде всего, надо исходить из следующих аксиом: аксиома «разумности бытия» (В. В. Зеньковский), аксиома обращения всех актов духа к Абсолюту (Б. П. Вышеславцев и др.). Аксиома «разумности бытия» проявляется в том, что работа разума связана «с интуицией смысла в мире» (В. В. Зеньковский) на что указывает и на чем останавливается феноменология. В частности, остаются открытыми вопросы: откуда в душе берется эта интуиция, каковы ее смысл и основы. Ответы раскрываются только через онтологию познавательной активности. Данное постижение интуиции смысла в бытии возможно лишь в соотношении с понятием «вера», ибо она есть один из ее аспектов. Сама вера, как отмечает В. Зеньковский, определена тем, что душа изначально сопряжена с Абсолютом (Богом). Природа мысли нашей такова, что она связывает наше мышление с категорией Абсолюта: «Человек… мыслит… лишь в реляции к Абсолютному»[55 - Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 135.]; «важно понять, что если человек вообще стремится к совершенству, то только потому, что он фактически признает Его существование, каковы бы ни были его теоретические убеждения»[56 - Верховский С. Христианство // Православие в жизни. Нью-Йорк, 1953. С. 278.]. Соответственно и в интуиции смысла бытия, и в движениях веры – «одна и та же светоносная сила, источник которой есть свет Христов» (В. В. Зеньковский). Признание христоцентрической природы разума является важнейшим тезисом христианской гносеологии об исходном единстве веры и разума. Если исходить из того, что наша мысль направлена к Абсолюту, который также является ее основой, и что нашей мысли никогда не удается мыслить Абсолюта (Бога) в Нем Самом, вне мира и «все, чего может достигнуть наша мысль, чтобы охватить Бога вне мира, нам дано лишь в Откровении» (В. В. Зеньковский), то мы должны признать в качестве исходного методологического принципа нашей познавательной деятельности Откровение. И, прежде всего, такие предпосылки христианского знания, как учение о Творении мира Богом из ничего, учение о прерывности эволюции, учение о чуде, принцип телеологизма.
Итак, утверждение о сопряженности нашей мысли с Абсолютом обрекает нашу мысль на то, что она движется в линиях религиозного сознания. Поэтому сама установка самостоятельности (автономии) и независимости науки, как в целом и культуры, неправильна. Разум и вера являются двумя стихиями духа, и разъединение их означает потерю цельности духа. Данные утверждения не подразумевают упразднение ни философии, ни науки и т. д., а только вводит их в определенные границы, уясняя основной смысл свободы нашей мысли.
Достижение единства разума и веры в христианской гносеологии предполагает «обновление ума» (ап. Павел), его преображение, то есть превращение в функцию человеческого духа. Это осуществляется через духовную жизнь посредством очищения сердца. Мы, таким образом, подошли к другому важному аспекту в построении понятия «разум» – он должен быть понят динамически, так как он всегда не равен сам себе, а связан со всей жизнью личности. Необходимость такого построения связана с другим раздвоением нашей познавательной деятельности, проявляющейся в разрыве ее теоретической и оценивающей функции, в двойственности самой задачи познания (стремление познать не только действительное бытие, но и его идеальную норму), в разъединении теоретической и моральной истины, то есть в разъединении ума и сердца. О сердце как источнике знания писали как в русской философии (Киреевский, Хомяков, Достоевский, Вышеславцев и др.), так и в западной философии (Паскаль, иррационалисты XIX века, а также, например, известный французский физик, историк и философ науки начала XX века Пьер Дюгем). Рассматривая сердце как одну из познавательных сил нашего духа, речь по сути идет об укорененности интеллектуальной деятельности в духовной (в христианском смысле слова) жизни человека, что предполагает отличное от научного решение таких вопросов, как «понятие разума», «истины», «связь теоретического познания с чувствами» и др. «Понятие разума» не может быть ограничено только «созерцанием» (theoria), то есть констатированием того, что есть, так как разум непременно обращается к той норме, которая проявляется в оценочной реакции нашей деятельности. Таким образом, истина – это не только то, что есть, но и то, чем должна быть данная вещь (В. Д. Кудрявцев). Поэтому познание должно быть направлено не только на познание факта, но и на познание нормы для данного бытия. Интересны рассуждения В. В. Зеньковского о взаимосвязи теоретической работы духа с эмоциональной стороной жизни человека и его утверждение о том, что чисто теоретическая работа не может быть оторвана от нашего внутреннего состояния: «Познавательная работа нашего духа настолько связана с внутренним нашим миром, что мы должны признать возможность расширения и углубления наших познавательных сил при развитии духовной жизни человека»[57 - Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1996. С. 52.]. Если классическая рационалистическая традиция полагала, что обращение к чувствам ведет к релятивизму и субъективизму, то для христианской гносеологии «логика сердца» так же абсолютна, как законы логики нашего рассудка. Именно она гарантирует отыскание истины в ситуации неопределенности, благодаря интуитивному «чувству истины» (Паскаль), совести.
Тезис о христоцентрической природе разума предопределяет и решение вопросов о субъекте, объекте познания, самом познавательном процессе. Мы только выделим исходные моменты данной части христианской гносеологии, представленной в работах русских религиозных философов. Так, проблема соотношения объекта познания и познающего субъекта решается не путем их противопоставления, как это было характерно для классического рационализма, а путем их взаимообщения. Онтологический смысл познания трактуется как сближение с предметом познания, чтобы «перейти в любовь», то есть познание предмета возможно не со стороны, а изнутри него. Именно любовь провозглашается конечной задачей познания. При этом понимании не только открываются движущие силы познавательной активности и решаются проблемы, например, нравственного отношения к миру, но и становится ясным, что познание не есть лишь интеллектуальное обращение к миру. Аналогичные подходы можно обнаружить в античности в учении о «совпадении» софоса и агапе.
Подводя итоги, отметим, что:
– «познающий разум» покоится на предпосылках, которые он не может ни обосновать, ни отвергнуть, а это значит, что философия знания должна искать решения данной задачи не в психологии, а в онтологии познания, через понятия Абсолюта (Бога);