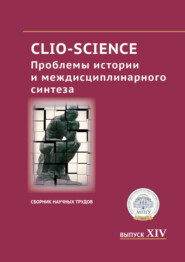По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На рубеже веков. Современное европейское кино. Творчество, производство, прокат
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ещё одна крайне важная оппозиция, которая стала конфликтной пружиной современного кино, – «повествовательное – изобразительное». Это давняя дискуссия, к какому из традиционных искусств кинематограф ближе – к литературе и театру или живописи и фотографии. Можно сказать, что две эти линии – нарративная и визуальная – всегда существовали в истории кино, то уступая первенство одна другой, то, наоборот, переплетаясь друг с другом.
Сегодня нарратив вытесняется грубой, яркой, завораживающей визуальностью. Это происходит и в голливудских блокбастерах – история может быть формульной, не оригинальной, клишированной, но это неважно: она лишь подпорка для зрелища, которое превращается в физиологический аттракцион, бьющий по глазам и нервам зрителей. Но и в авторском кино мы видим усиление этой тенденции, когда психологизм уступает место чистой пластике. Вместо мотивировок и глубокой проработки диалогов – говорящая деталь или некая пластическая фигура, которая даёт понять, что же произошло на уровне сюжета.
Итальянское кино, как и американское, всегда тяготело к традиционному нарративу и психологизму. Однако среди фильмов последних лет есть несколько картин, которые являются любопытными репликами в дискуссии по поводу повествовательности и изобразительности.
В 2012 году выходит фильм Давида Манули «Легенда о Каспаре Хаузхере» (La leggenda di Kaspar Hauser) – фильм-ловушка, который постоянно обманывает ожидания зрителей. Аннотация гласит: «Человек-загадка Каспар Хаузер был обнаружен на рыночной площади Нюрнберга 26 мая 1828 года. Подросток был одет в простое крестьянское платье, плохо ходил, почти не говорил, повторяя лишь две, ничего не значащие для него фразы – «Не знаю» и «Я хочу быть кавалеристом, как мой отец». Найдёныш скоро стал знаменитостью и объектом пристального внимания медицинского сообщества, пытавшегося разобраться в поведении и происхождении Хаузера. Ему приписывали экстрасенсорные способности, которые оказались выдумкой одного из своих покровителей».
Собственно, по аннотации это ремейк классической картины Вернера Херцога «Каждый за себя, а Бог против всех» (Jeder fur sich und Gott gegen alle, 1974). Но ни XIX века, ни Германии, ни отсылок к Херцогу в фильме нет. Действие происходит в весьма условное «наше время» на некоем малолюдном острове (съёмки велись на Сардинии). Поначалу кажется, что никакого Каспара Хаузера не будет вовсе, что это просто трюк, как лысая певица из пьесы Ионеско. Фильм начинается как музыкальное видео, снятое на модную клубную композицию в стиле «техно». Первые несколько минут настраивают на то, что никакого нарратива не будет, что перед нами фильм-клип, подобный «Кислороду» Ивана Вырыпаева. Но как только мы принимаем эти правила игры, автор переключает регистр. Появляется Каспар Хаузер, абсолютно не похожий на Бруно С. из фильма Херцога. Это молодой человек в спортивном костюме и наушниках, которого выбрасывает море. Правда, «молодой человек» – неточное определение. Хаузер – существо с ярко выраженными молочными железами и высоким пронзительным голосом, некий андрогин. Его и играет не актёр, а актриса – Сильвия Кальдерони.
Хаузер оказывается на берегу прямо в наушниках, и как только в них начинает играть музыка в стиле «техно», он оживает. Фактически Каспар на протяжении всего фильма совершает ровно два физических действия – дёргается в такт музыке и кричит «Я – Каспар Хаузер!» Он оказывается в сложном водовороте отношений между бывшим шерифом, герцогиней, наркодилером, священником и мулом, которого он упорно называет лошадью. Хаузер становится объектом, на который проецируются страхи, мечты и желания жителей острова. Герцогиня видит в нём соперника в борьбе за власть, шериф – воплощённую анархию, нарушение порядка, священник – Бога.
Собственно, легенда о Каспаре Хаузере прочитана через три основных кода. Первый – висконтиевский: Хаузер – это новое обличие Тадзио. В «Смерти Венеции» герой в последний раз видел Тадзио уходящим в море. Здесь он из моря выходит. Такой же ирреальный, несколько женоподобный, вызывающий любовь и поклонение. Символ какого-то иного измерения бытия, недоступного тебе. Второй код – евангельский: необычный юноша есть распинаемая жертва – мы видим его в маске-субституте тернового венца с табличкой на груди. Третий – традиции итальянского политического фильма: Хаузера убивает мафия в сговоре с властями. В отличие от картины Херцога, где Каспара убивает тот, кто его привёл.
Во всех этих системах координат происходит фактически одно и то же событие: затхлый, нелепый, доживающий последние дни мир расправляется с тем, кто самим фактом своего существования мешает спокойно спать, о кого постоянно спотыкаешься взглядом.
Для рассказа истории Каспара Хаузера режиссёр избрал интертекстуальную стратегию – нарратив, усложнённый отсылочными кодами, каждый из которых способствует приращению смысла. Причем Херцог и его фильм мало интересуют Манули. Он опирается скорее на Рудольфа Штейнера и его комментарий к истории о нюрнбергском найденыше: «Если бы Каспар Хаузер не жил и не умер так, как это было, то контакт между Землей и духовным миром был бы полностью прерван»[54 - Цит. по: Ляшенко В. Бог – это диджей. [Electronic resource]. URL: http:// www.gazeta.ru /culture/ 2012/08/16/a_4728385. shtml.]. Музыка как пульсация космических энергий (недаром в финале над искрящимся морем показываются летающие тарелки), Бог как диджей, управляющий этими энергиями, Бог-Иной как жертва филистерского мира. Только эта сакральная жертва переворачивает всё вверх тормашками, то есть ставит всё на свои места. Иной, казавшийся безумцем, на самом деле был индикатором ненормальности, безумия вывернутого наизнанку мира.
Причём всё это остаётся незамеченным, если интертекстуальные коды и пласты не распознаются зрителем. В этом случае фильм может показаться бессмысленным набором кадров, абсурдистским техно-клипом. Если же зритель распознает коды, картина меняется. Но самое интересное, что авторы фильма не могут контролировать процесс декодирования, это зависит исключительно от зрителя. Можно предположить несколько десятков вариантов «прочтения» картины. Таким образом, фильм Манули под маской анарративности, бесфабульного повествования прячет очень сложно устроенное повествование, интерактивную игру в духе постмодернизма.
На шлейфе постмодернизма построен и фильм Паоло Франки «И они называют это летом» (Е la chiamano estate, 2012). На первый взгляд, это эротический фильм. На Московском международном фестивале 2013 он даже шёл в программе «Дикие ночи». Перед нами Дино (великолепная работа Жан-Марка Барра, одного из любимых актёров Ларса фон Триера), днём он работает врачом-анестезиологом, а по ночам ищет сексуальную добычу. Дино ненасытен – он настоящий сексоголик. Причём все его эротические похождения показываются в режиме home video – бесстыдно-натуралистично. Однажды он встречает Анну (её очень тонко сыграла звезда итальянского кино Изабелла Феррари) и начинает вести двойную жизнь: ночные забавы становятся всё изощрённее, при этом к Анне, которую он любит до безумия, он не смеет даже притронуться. Налицо расщеплённое сознание, внутренний мир, разорванный на две изолированные части. Дино пытается навязать этот «переключаемый» мир любимой, требует, чтобы она завела любовника. И когда она это делает, заканчивает жизнь самоубийством. Или не заканчивает – с финалом здесь всё непросто.
Дело в том, что эта незамысловатая фабула нанизана на сложнейшую ризоматическую структуру, которая существует вне линейных причинно-следственных связей и может разрастаться, «расползаться» в любую сторону.
Франки намеренно запутывает зрителя: в фильме много возвратов, повторов, лейтмотивов. Всё это создаёт ощущение текучести бытия, неразличение начала и конца истории, нестабильности событийного ряда жизни, вариативности фабулы и мира вообще. Авторы предлагают нам два финала: Анна возвращается и видит на полу окровавленное тело Дино, позднее мы увидим то, что произошло часом ранее – он будет биться головой о стекло.
Второй финал – Анна возвращается, видит Дино, который лежит на кровати и тянет её к себе, они занимаются любовью. В этом варианте мир Дино, состоявший из двух разрозненных осколков, вновь гармоничен. Фильм заканчивается сценой на пляже, причём мы видим на лице Дино раны. Значит, он действительно испытал боль – не столько физическую, сколько душевную, и эта боль от измены стала тем подлинным сильным переживанием, которое вернуло его к жизни.
Вновь авторы предлагают зрителю интерактивную игру, которая требует максимального включения в фильмическую реальность. Только на этот раз правила игры – не интертекстуальность, а ризома, разветвление повествования до потери его целостности.
Очень интересно устроено художественное время и в картине Паоло и Витторио Тавиани «Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire, 2012). Удивительно, но братья Тавиани, два патриарха итальянского кино, поборники политического кинематографа прямого действия, ощутили эту тенденцию к усложненному нарративу.
Фабула фильма при этом крайне проста: известный театральный режиссёр ставит шекспировского «Юлия Цезаря» в одной из итальянских тюрем для особо опасных преступников. Сколько было подобных сюжетов – не счесть. Однако здесь это не просто представление в представлении и текст в тексте, а фильм со сжатым, как пружина, временем. Точнее – временами. С одной стороны, это эпоха Юлия Цезаря – Древний Рим. С другой стороны, эпоха Шекспира. С третьей – наши дни, на которые прекрасно проецируется история диктатора и заговорщиков. История эта отсылает и к Италии 1970-х с красными бригадами, неофашистами, убийствами Пазолини и Моро. Отсылает она и ещё ко многим странам и эпохам.
Время, на первый взгляд сконцентрированное, сжатое до нескольких месяцев в отдельно взятой тюрьме, постоянно размыкается, разворачивается в прошлое и будущее. Более того, подключается ещё и психологическое время: каждый из участников проецирует то, что играет, на своё собственное прошлое.
Прямо противоположную стратегию отстаивает режиссёр Микеланджело Фраммартино в своей картине «Четырежды» (Le quattro volte, 2010). Он не сжимает пружину художественного времени, а, наоборот, ослабляет её до предела.
«Четырежды» – это четыре новеллы, плавно перетекающие друг в друга. Первая – про глубокого старика, который живёт в маленькой итальянской деревушке и присматривает за стадом коз. Он тяжело болен, но предпочитает лечиться не таблетками, а собранной на церковном полу пылью, которую растворяет в воде. Однажды он забывает выпить «лекарство» и умирает, его похороны – финал новеллы.
Вторая новелла посвящена рождению. У одной из коз в стаде старика рождается козлёнок. И вновь всё переворачивается: после смерти старика это стадо никому не нужно, с ним попросту не знают, что делать.
Однажды козленок отбивается от стада, засыпает под высокой елью и умирает во сне.
Ель становится «героиней» третьей новеллы. Деревенские мужики рубят её и ставят на площади – дерево оказывается центром местного праздника. Четвёртая новелла – о смерти дерева и переработке его в уголь.
На первый взгляд, фильм построен на волнообразном движении от жизни к смерти, на оппозиции живого и мёртвого. Однако на самом-то деле Фрамматрино снимает все оппозиции:
– между игровым и неигровым кино (в разных источниках фильм называют то документальным, то псевдо документальным),
– между звуковым и немым кино (в фильме почти нет реплик, но при этом тишина кажется наполненной),
– между человеческим и нечеловеческим (уровень звука беспристрастно выставлен на одной отметке, что бы ни звучало: голоса персонажей, блеяние коз или завывание ветра). Сам режиссёр говорил: «Кинематограф привык помещать в центр кадра человека. Не пора ли оставить его в покое? Я попытался сосредоточить внимание на том, что обычно служит фоном: флоре и фауне»[55 - Шакина О. Четвёртое измерение. // Искусство кино. – 2012. – № 12. [Electronic resource]. URL: http://kinoart.ru/en/ archive /2010/12/nl2 – article4.].
Но самое главное – снята оппозиция жизни и смерти. Картина отрицает смерть как таковую, потому что смерть есть лишь импульс для рождения новой жизни.
Режиссёр уравнивает живое и неживое. Нам показывают, как медленно ползёт муравей: по щеке старика, по шерсти козы, по коре дерева, по камню. Для муравья живая и неживая материя перетекают друг в друга, между ними нет существенной разницы. Режиссёр присваивает нам этот взгляд медленно ползущего существа, которое видит мир более крупным планом, нежели привыкли видеть мы. Отсюда замедленный темпоритм фильма, ослабленная до предела фабула, разомкнутые причинно-следственные связи там, где мы привыкли их видеть, и жесткий детерминизм там, где, казалось бы, ему не место.
Четырежды – это и пифагоровские стадии перерождения, и концепция о стихиях, из которых состоит человек: минеральной, растительной, животной, ментальной, и традиционная структура цикла (утро – день – вечер – ночь, весна – лето – осень – зима). Но всё это не проговаривается впрямую, в фильме вообще ничего не проговаривается – ни на уровне текста, ни на уровне фабулы. Фильм построен по принципу содержательных лакун, когда кажется, что созерцательное полностью вытесняет концептуальное, напряжение создается за счёт ожидания вспышки смысла, а саму эту вспышку можно назвать субъективной, она происходит в сознании зрителя, причём может быть отложенной, произойти уже после просмотра картины. Она может возникнуть как некий накопительный эффект, но может и не возникнуть.
Перед нами вновь попытка диалога со зрителем, но с помощью исключительно изобразительных средств, которые замещают и фабулу, и текст. Смыслопорождение происходит за счёт этого замещения, причём работу по наполнению содержательных лакун выполняет сам зритель, достраивая концептуальную конструкцию в зависимости от собственного опыта.
Если Манули и Франки выступают в поддержку нарративной стихии кино, то Фраммартино настаивает на примате изобразительной стихии, действует в традициях так называемого медленного кино.
* * *
И всё-таки – прав ли был Квентин Тарантино, столь иронично и даже уничижительно отзываясь об итальянском кино? Думается, что и да, и нет. С одной стороны, национальные экраны заполонены ровно теми темами, о которых говорил американский режиссёр: взросление мужчины, взросление женщины, кризис семьи, при этом на вершине пьедестала – легкомысленные эксцентрические комедии.
С другой стороны, для итальянской культуры это не просто темы. Каждый из подобных фильмов ставит острейшие, фундаментальные, краеугольные проблемы итальянской жизни, которые каждое поколение решает заново. Кроме того, в стране очень интересно осваивается поле арт-мейнстрима, идет разработка усложнённых форм кинонарратива, в которую включаются патриархи итальянского кино, и, напротив, «редуцированного нарратива», «медленного кино». Киноиндустрия пытается не просто выжить, но разными способами вернуть национального зрителя и международный престиж. То, что эти попытки пока не очень заметны, о чём и свидетельствует реплика Тарантино, – другой вопрос. Однако уже заметен голос нового поколения, которое пришло решать эти проблемы, – поколения молодого итальянского кино.
Испания
Ольга Рейзен
«Несвобода – как это ни парадоксально – стимулирует поиск альтернативных художественных средств для выражения мыслей, идей, настроений общества». Эти слова испанского режиссёра Хуана Антонио Бардема, произнесённые им в 1954 году на встрече кинематографистов в Саламанке, многое объясняют в истории национальной кинематографии и собственно творчестве Бардема. И хотя для него, художника, тяготевшего к направлению социалистического реализма и даже состоявшего в рядах компартии Испании, символика, метафоризм и аллегории не были органичны (в его лентах образную систему отличает прямолинейность на грани дидактичности), потребность «выговориться», обходя цензурные рогатки франкизма, заставляла вновь и вновь обращаться к эзопову языку, на долгие годы остававшемуся «визитной карточкой» испанского кино.
После падения франкизма именно такая необычная образность стала причиной повышенного интереса к испанскому кинопроизводству, заставив говорить о настоящем «буме»: премии, недели, многочисленные статьи в престижных англоязычных изданиях… Фестивальные дорожки для испанских кинематографистов становились уже не красными – золотыми. И даже «Оскар», чутко отзывающийся на конъюнктурный спрос, достался весьма невзрачной картине Хосе Луис Гарей «Начать сначала» (Volver а empezar, 1981).
Однако, как это часто случается, интерес к «перестроечному» испанскому кинематографу постепенно сошёл на нет, иллюстрацией чего стала как судьба всего национального кино, так и самого известного в 1970-80-е годы за пределами Испании режиссёра, неоднократного фаворита международных (особенно Берлинского) кинофестивалей, который после падения франкизма утратил авторитет на родине, где его кинематограф критики расценивают как конъюнктурный, космополитичный, ловко спекулирующий на «национальной специфике».
Кинематограф Карлоса Сауры, по мнению видного испанского критика X. Эрнандеса Леса, – «наследник эпохи, дитя франкизма»: его фильмы сослужили свою службу и теперь не нужны. По всей видимости, подобная критика заставила режиссёра пробовать силы в других жанрах и направлениях. То он возвращается к теме люмпенов в фильме о современных «беспризорных» – «Скорей, скорей» (Deprisa, deprisa, 1980), то рассказывает о трансформации на гране гротеска своих героев-символов из «Анны и волков» (Ana у los lobos, 1973) в послефранкистской Испании (фильм «Маме исполняется сто лет» / Mama cumple cien anos, 1979), то исследует лабораторию творчества писателя («Элиза, жизнь моя» / Elisa, vida mia, 1977), театрального режиссёра («С завязанными глазами» / Los ojos vendados, 1978) или драматурга («Лос Занкос» / Los zancos, 1984). То вдруг переносит на экран три балета, поставленные Антонио Гадесом: «Кровавая свадьба» (Bodas de sangre, 1981), «Кармен» (Carmen, 1983), «Колдовская любовь» (El amor brujo, 1985). Или обращается к истории, к временам завоевания Америки – «Эльдорадо» (El Dorado, 1987).
Категоричность Леса, признающего после падения диктатуры лишь открытую борьбу с ней и её пережитками, понятна, хотя и вряд ли справедлива. Тем более что тенденция, обозначенная Капарросом Лера как «политико-интеллектуальное» кино, к которой он относит и Сауру, получила широкое распространение в послефранкистеком кинематографе, в так называемом кинематографе поколения. Объектом его исследования становятся люди, чьё детство совпало с переломным моментом испанской истории. Они, как правило, не застали гражданской войны или помнят её по отрывочным воспоминаниям детских лет. Обычно они далеки от политической борьбы. Они росли с ощущением страха, который в ту пору стучался в двери, заглядывал в окна. Неумение и нежелание что-либо изменить хотя бы в собственной жизни стало отличительной чертой их натур.
Авторы картин чаще всего – ровесники своих героев. В их лентах силён автобиографический мотив, и когда они рассказывают о современности, и когда обращаются к прошлому – собственному детству, совпавшему с гражданской войной. Повествование о фашизме здесь не связано с вооружённой борьбой, – борьбы вообще вроде бы нет. Действие замыкается в рамках одной семьи, с её, на первый взгляд, мелкими домашними проблемами. Но историческая действительность Испании неизбежно вторгается в маленький домашний мирок.
У «кинематографа поколения» была предтеча в испанской литературе, в «поколении без наставников», к которому относятся писатели Анна Мария Матуте, Кармен Лафорет, Хуан Гойтисоло, родившиеся во второй половине 1920-х годов и выразившие в произведениях свои детские ощущения. В фильмах и повестях, рисующих военное и послевоенное детство маленьких героев, часты сюжетные и тематические пересечения. Автобиографичность повествования обусловила не только искренность, непосредственную свежесть, но и общность мотивов.
«Кинематограф поколения» превратился в некую летопись жизни поколения, чья судьба складывалась при диктатуре. При этом сама диктатура не является объектом исследования, в фильмах запечатлён лишь момент её зарождения, гражданская война и крах, смерть Франко. Соответственно картины делятся на повествующие о детях («Кузина Анхелика» / La prima Angelica, 1974, и «Выкорми воронов» / Cria cuervos, 1975, Карлоса Сауры; «Демоны в саду» / Demonios еп eljardin, 1982, Мануэля Гутьерреса Арагона; «Гнездо» / El nido, 1980, Хайме де Арминьяна; «Дух улья» / El espiritu de la colmena, 1973, Виктора Эрисе) и рассказывающие о взрослых («Несданный экзамен» / Asignatura pendiente, 1977, «Одинокие на рассвете» / Solos en la madrugada, 1978, «Зеленые лужайки» / Las verdes praderas, 1979, и «Сданный экзамен» / Asignatura aprobada, 1987, Хосе Луиса Гарей; «Гари Купер, который на небесах» / Gary Cooper, que estas en los cielos, 1980, Пилар Миро и др.). Причём между первыми и вторыми существует причинно-следственная связь: авторитарность родителей, олицетворяющих франкистский режим (отец или мать, подавляющие, губящие друг друга и детей), приводит к естественному результату – к беспомощности выросших детей, их растерянности перед лицом наступивших в 1975 году перемен. Отмечая равнодушие, нежелание героев что-то менять в своей жизни и жизни общества, режиссёры отнюдь не осуждают их за это, ибо «дети эпохи, наследники франкизма» просто не в состоянии избавиться от дурной наследственности. Примером характерной для «кинематографа поколения» тематики и направленности могут служить «Дух улья» Эрисе и «Выкорми воронов» Сауры.
Признание и международный престиж, сопровождавший испанский кинематограф целую декаду после падения франкистского режима, кружил голову, не позволяя кинематографистам понять, что этот успех в большей степени связан с политической ситуацией, демократизацией общества, нежели с достижениями в области развития языка кино. Когда же мировое сообщество, устав от замысловатых аллюзий, копании в психологии нации и индивидов, переживших франкизм, перестало проявлять интерес к любому произведению под грифом made in Spain, в стране началась предсказуемая гонка за жанровым кинематографом, собранным по голливудским образцам. Однако для качественно поставленных задач не хватало ни средств, ни мастерства.
Несмотря на общий кризис, обозначившийся в испанской экономике задолго до того, как он охватил всё мировое сообщество (на рубеже 1980-90-х гг.), общая ситуация в национальном кинематографе остаётся достаточно стабильной и объём кинопроизводства удерживается на уровне 52 (1992), 56 (2003), 57 (2011) фильмов в год. Самым урожайным оказался 2005 г., когда на экраны вышло 142 полнометражных фильма. «Непревзойдённый результат за 20 лет», – так обозначила этот феномен пресса.
В то же время не стоит обольщаться таким положением дел. Картины, выходящие на испанские экраны, производятся не столько за счёт равномерного развития крупных производящих компаний, сколько на средства телевидения, с участием государственных субсидий, на средства, представляемые мелкими кинофирмами, снимающими картины на корпоративной основе. Причём в каждом конкретном случае кинопроизводства чаще всего присутствуют все три способа финансирования, поскольку ни один из них в отдельности не в состоянии обеспечить съёмку одного, пусть даже малобюджетного фильма. Вот всего несколько цифр, говорящих сами за себя:
• население страны – 46,745,807;
• кинотеатры – 4083/852;