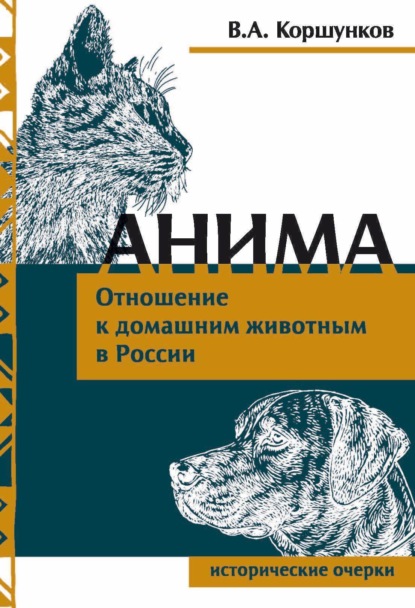По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анима. Отношение к домашним животным в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прощай, тётушка, спасибо, – сказал он».
Кажется, молодой интеллигент не всё понял, но очень заинтересовался и самим этим случаем, и рассуждением пожилой крестьянки. «Ещё более подивился Молотов бабьему смыслу, когда после оказалось, что поверье о некрещёных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно. Ему попалась баба-поэт, баба-мистик. Может быть, ей самой до сих пор не приходилось объяснять себе непонятную для неё судьбу некоторых детей, и вот, лишь только пришёл ей в голову вопрос о детях, она, не желая оставаться долго в недоумении, сразу при помощи своего вдохновения миновала все противоречия и мгновенно создала миф. И очень может быть, что этот миф перейдёт к её детям, внукам, переползёт в другие семьи, к соседям и знакомым, и чрез тридцать – сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасает предрассудки, они и ещё и ныне создаются. Удивительно то чувство, с которым простолюдин относится к природе: оно непосредственно и создаёт миф мгновенно»[24 - Помяловский Н.Г. Мещанское счастье: повесть // Помяловский Н.Г. Соч.: в 2 т. М.; Л.: Худож. лит., 1965. Т. 1. С. 134–135.].
Странные могилки в лесу оказались связанными с поверьями о душах некрещёных младенцев и с простонародными представлениями о том, где и как следует таких хоронить. Ребёнок, душа, погребение… Казалось бы, при чём здесь природа? А ведь под конец этого отрывка говорится об отношении простолюдина «к природе»: дескать, это чувство – «непосредственно» и оттого оно «создаёт миф мгновенно».
Николай Герасимович Помяловский
Когда Помяловский мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, увязывает народные поверья и обряды с отношением «к природе», то он следует отголоскам модной тогда «мифологической» теории в фольклористике. Она появилась в Германии в первой половине XIX века. Согласно этой теории, миф – грандиозное создание «народного духа» и «народной поэзии». В такой трактовке мифология, по сути, не отличалась от «народной поэзии», то есть фольклора. А фольклор толковался только как народное творчество – причём, высокопарно выражаясь, поэтическое. Ключевое понятие «народ» понималось в самом обобщённом, романтическом, идеализированном смысле. В народе и в творениях его баснословия воплощался некий улавливаемый чуткими натурами народный дух. Когда же учёные брались толковать, комментировать, исследовать миф, то они исходили из убеждения, что в его основе лежит обожествление природы. Дескать, народная фантазия использовала применительно к явлениям природы поэтические метафоры – так и сформировались мифологические сюжеты. Значит, за деяниями языческих богов и подвигами мифических героев кроются солнечные затмения, грозы и бури, чередование времён года, разливы рек и т. п.
Крупнейшим в России последователем германской «мифологической» теории был Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871). Изучая народно-поэтическое, мифологическое творчество славян, он написал трёхтомник с показательным названием «Поэтические воззрения славян на природу». Этот огромный труд вышел в 1866–1869 годах[25 - Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1866–1869. Т. 1–3. (Репринт: М.: Индрик, 1994).]. В нём рассматривались самые разные стороны древней религии и мифологии, а ключевое для «мифологической» теории слово «природа» фигурировало прямо в заголовке[26 - См. также: Топорков А. Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX в. М.: Индрик, 1997; особенно гл. 2: «Миф и славянская мифология в творческом наследии А. Н. Афанасьева».].
Правда, публикация трёхтомника Афанасьева пришлась уже на время после 1863 года, когда умер Помяловский. Но тут следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, сам Афанасьев брал за образец труды германских учёных, вместе с методами исследования и терминологией. Все эти наши «поэтические воззрения», «воззрения на природу», «мифические сказания» и т. п. – просто-напросто кальки с немецкого. В германской же науке такие термины стали применяться гораздо раньше, чем в русской. Заглавие труда Афанасьева, по сути, воспроизводит название двухтомного сочинения знаменитого учёного Вильгельма Шварца (1821–1899), первый том которого вышел за несколько лет до того, в 1864 году – «Поэтические воззрения на природу, в их отношении к мифологии, у греков, римлян и германцев»[27 - Schwartz W. Die poetischen Naturanschauungen der Griechen, Romer und Deutschen in ihrer Beziehungen zur Mythologie. Berlin: Verlag von W. Hertz, 1864. Bd. 1: Sonne, Mond und Sterne: ein Beitrag zur Mythologie und Culturgeschichte der Urzeit.]. Во-вторых, на рубеже 1840-1850-х годов, ещё до издания своего трёхтомника, Афанасьев опубликовал множество статей о «народной поэзии» в журнале «Современник» – том самом, которым Помяловский зачитывался и где в начале 1860-х печатался.
Так что Помяловский вполне мог воспринять ключевые термины и основные принципы новомодной теории мифа, передовой для того времени. Но только если он и вправду много читал. Если следил не исключительно за беллетристикой, но и за научными, научно-популярными, критическими статьями, а к тому же листал серьёзные иностранные книги по религии и мифологии. Похоже, так оно и было.
Из «иного мира»
Герой повести «Мещанское счастье», подобно самому Помяловскому, задавался вопросом, у кого душа есть, а у кого её нет. На страницах повести – столкновение человека городского и образованного, читающего и размышляющего, с наивно-суеверными людьми традиционного общества.
У восточных славян и у некоторых иных народов в России и за рубежом имелось глубоко укоренённое и повсеместно распространённое представление: мол, дети рождались не совсем людьми. Они появлялись из «иного мира», а потому считались «нечистыми» и лишь со временем, постепенно, всё больше очеловечивались. Важнейшим было таинство крещения и связанное с ним наделение христианским именем. Говорили, что до крещения и семейного празднования в честь этого (до крестин) души у ребёнка нет, только один «пар»[28 - Кабакова Г. И. Крестины // Славянские древности. 1999. Т. 2: Д – К (Крошки). С. 658. См. также: Её же. Крещение//Там же. Т. 2. С. 664–667.]. Умершего некрещёным обычно и на кладбище-то не хоронили. Если же ребёнок рождался хилым и была опасность, что он вот-вот умрёт, то иной раз сама бабка-повитуха на свой лад «крестила» его, как умела. А посмертная судьба некрещёных младенцев была плачевной: они становились неупокоенными мертвецами и вредили людям[29 - Её же. Дети некрещёные. С. 86–88; Раденкович Любинко. Названия демонов, ведущие происхождение от детей, умерших до крещения, у славян // Balcanica. 2004. Vol. 34. Р. 203–221. URL: https://www.balcanica.rs/balcanica/uploaded/balcanica/balcanica%20 34/13%20Ljubinko.pdf (дата обращения: 23.07.2022); Sedakova Irina. Unlived Life: the Death and Funeral of a Child in Slavic Traditional Culture // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2020. Vol. 80. P. 56. URL: https://www.folklore.ee/folklore/vol80/sedakova.pdf (дата обращения: 23.07.2022); Седакова И. А. «Непрожитый век»: смерть и погребение ребёнка у славян // Живая старина. 2021. № 2. С. 6–7. См. также: Королёва С. Ю. «В голбче-то у нас могильник»: детские захоронения вне общего кладбища в XX в. (практики и нарративы Северного Прикамья) //Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 3. С. 138–149.].
Так что, по народным поверьям, у человека (даже не у животного!) душа не всегда обнаруживалась с момента его появления на свет. Он мог родиться ещё без души. В одних краях считали, что душа проявляет себя уже первыми толчками ребёнка в утробе матери, в иных – указывали на обряд крестин и т. д.[30 - Толстая С.М. Славянские мифологические представления о душе. С. 62; Листова Т.А. Народные предания о душе, связанные с деторождением // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX веках: этнографические исследования и материалы ? отв. ред. О.В. Кириченко, Х.В. Поплавская. М.: Наука, 2002. С. 117–119.]
О.П. Семёнова-Тян-Шанская (1863–1906), дочь знаменитого путешественника, жила в Данковском уезде Воронежской губернии и вдумчиво наблюдала за крестьянской повседневностью тех мест. Она писала: «Случаи убийства новорожденных незаконных младенцев очень нередки. Родит баба или девка где-нибудь в клети одна, затем придушит маленького руками и бросит его либо в воду (с камнем на шее), либо в густой конопле, или на дворе, или где-нибудь в свином катухе зароет» (катух – хлев для мелкой скотины). Далее она приводила два конкретных примера: однажды дитя выкинули в пруд, другой раз – в заросли конопли. Оба случая стали известны: пруд обмелел, а из зарослей собака вытащила. «В Мураевке (большое село) почти каждый год находят одного, а то и двух мёртвых младенцев. Но редко дознаются, чьи они». Обходилось без последствий: «Крестьяне не любят дознаний и уголовщины, и если даже что и знают, то помалкивают. Так же смотрит на это дело и священник: “Случился грех, а с кем – Бог его знает. Чужая душа – потёмки – разве дознаешься… Мало ли их, девок, гуляют…”»[31 - Семёнова-Тян-Шанская Ольга. Жизнь «Ивана»: очерки из быта крестьян одной из чернозёмных губерний. М.: Ломоносовъ, 2010. С. 81–82.].
В 1864 году была опубликована повесть пермского уроженца Ф.М. Решетникова «Подлиповцы». Как явствует из подзаголовка, этот текст может восприниматься как этнографический очерк. Там описаны колоритные подробности жизни коми-пермяцких крестьян (подрабатывавших бурлачеством). Например, такой случай: «У Апроськи на семнадцатом году был ребёнок, но ребёнок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу». А когда у Сысойки умерли младшие брат и сестра, «Пила (имя другого героя. – В.К.) стал рассуждать, что делать с ребятами. Зарыть их так – поп узнает, и тогда беда; ехать к попу – будет денег просить…»[32 - Решетников Ф.М. Подлиповцы: этнографический очерк (из жизни бурлаков): в 2 ч. // Решетников Ф.М. Поли. собр. соч. Свердловск: Свердловск, обл. изд-во, 1936. Т. 1. С. 10, 14.].
У русских старообрядцев из села Усть-Цильмы в Коми крае выкидыш на второй половине беременности было принято помещать в долблёную колоду и хоронить в могиле одного из родственников. Объясняли, что это нужно для «присматривания за тельцем, не имевшим души». А если родившийся ребёнок умирал до крещения, то говорили: у него «слепая душа». По мнению некоторых тамошних людей, хоть души младенцев, умерших некрещёными, и слепые, но они не погрязли в грехах и потому пребывают в некой «южной стране», которая не связывалась в их представлении с адом[33 - Дронова Т. И. Рождение и воспитание детей в традициях русских староверов-беспоповцев Усть-Цильмы // «Жили мы у бабушки, кушали оладышки…» (детский фольклор Усть-Цильмы) ? сост. Т.Н. Дронова (отв. сост.), Т. С. Канева. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2006. С. 22, 29,213.].
С другой стороны, обычного младенчика – окрещённого и наделённого христианским именем – у добрых, православных людей принято считать безгрешным, невинным, ангелоподобным. Художник И. Е. Репин (1844–1930), детство которого прошло в украинском городе Чугуеве, вспоминал, как он мальчиком лежал больной, а соседки прибегали посмотреть, не умер ли уже Илюнька: «А тебе чего бояться умирать? До семи лет младенец – отрастут крылышки и полетишь прямо в рай: грехов у тебя нет, не то что мы, грешные, тут бьёмся, колотимся. <…> И за нас и за своих родителей там будешь богу молиться»[34 - Репин И. Далёкое близкое. Изд.5-е. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1960. С. 70.].
Так или иначе, бесёнком младенец воспринимался либо ангелочком, – в нём видели «гостя», явившегося из «иного мира».
Некрещёные и мертворождённые дети, по народным представлениям, бывали сходны с иными категориями зловредных мертвецов – с теми, которые погибли, так сказать, неестественной смертью, не прожив отпущенного им срока. Это убитые, самоубийцы, утопленники, опойцы (сгинувшие от неумеренного пития) и т. д. Таких нельзя было хоронить на освящённой земле кладбища. Их закапывали или просто клали на поверхность земли, закидывая ветвями, где-нибудь в дальнем, глухом месте – в чащобе, в овраге, на болоте, на распутье. Самый известный в XX веке специалист по народным традициям восточных славян, уроженец Вятского края Д. К. Зеленин в опубликованной в 1916 году монографии предложил называть весь обширный состав таких вредоносных мертвецов диалектным вятским словом «заложные» (их, дескать, надо было прикрыть, «заложить» ветвями). Согласно исследованиям Зеленина, и такая разновидность мифологических персонажей, как русалки, восходит к представлению о «заложных» покойниках[35 - Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественною смертью и русалки. М.: Индрик, 1995. Ср. толкования этого слова и комментарии к ним в старых словарях вятского диалекта: «Заложные – покойники, погребённые без отпевания: утопшие, опойцы, удавленники и [т.] д. В г. Уржуме заложные в былые годы погребались в конце нынешней Полстоваловской улицы, на окраине левого берега речки Шинэрки, где ныне дома Зубаревой и Скопина. По рассказам, на застроенном Скопиным пустыре ранее многим являлась старуха и просила всех встречных отпеть её. В четверг перед Троицей, в Семик, причт Казанской церкви, по пути на кладбище, против угла двора Скопина служит о “заложных” панихиду» (Магницкий B. Особенности русского говора в Уржумском уезде, Вятской губернии (сборник областных слов и выражений). Казань: Тип. Имп. ун-та, 1885. C. 21–22); «Самоубийца, погребённый без отпевания. Заложные погребались прежде на окраинах селений. Ныне в некоторых местностях по “заложным родителям” бывает панихида» (Васнецов Н.М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка: Губ. тип., 1907. С. 77). См. ещё: Левкиевская Е.Е. Покойник «заложный» // Славянские древности. 2009. Т. 4: П (Переправа через воду) – С (Сито). С. 118–124; Её же. Самоубийца//Там же. Т. 4. С. 538–541. Иной взгляд на «заложных» покойников развивает фольклорист А. А. Панченко. Согласно его выводам, это были не столько «умершие неестественною смертью», сколько оставшиеся неизвестными мертвецы, которые лишены семейного поминовения (см., например: Панченко Александр. «Заложные родители»: смерть, коллективная память и сакральное пространство // Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции: сб. ст. ? отв. ред. О.В. Белова. М., 2008. ([Сэфер]. Академическая серия. Вып. 22). С. 232–259). См. ещё: Седакова О. А. Поэтика обряда: погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: Индрик, 2004.]. В Симбирской губернии в XIX веке и начале XX века опойц и прочих опасных мертвецов называли «закладными»[36 - Сивопляс И.Э. Беспокойные «опойцы» (по материалам Государственного архива Ульяновской области) //Живая старина. 2009. № 1. С. 50.].
Бывали и другие, особенные вариации зловредной нечисти. Кое-где рассказывали об игошах – уродцах-проказниках в виде безруких, безногих младенцев, что обитали прямо в жилищах, наподобие домовых и кикимор. Знали, что они происходят от мертворождённых и от детей, умерших некрещёными. На Русском Севере и в Вятском крае верили в ичетиков – маленьких водяных существ, которые были душами утопленных своими матерями младенцев. Дети, от которых избавились их матери, часто представлялись летучими, наподобие птиц или крылатых насекомых. Родившиеся неживыми или умершие не-окрещёнными становились русалками, мавками, кикиморами. К недоношенным детишкам, находившимся на грани жизни и смерти, относились сурово: их просто укладывали в тёплое место, на печь, и почти никак за ними не ухаживали. Если такие младенцы всё же выживали, то когда они, наконец, достигали положенного срока, только тогда о них начинали заботиться как о нормальных детях. В Полесье считалось, что и выкидыши тоже должны «дозреть» – их не закапывали в землю, а оставляли «доспевать» под кучей ветвей и бурелома[37 - Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 70–73; Никитина А.В. Образ кукушки в славянском фольклоре. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. С. 138–162; Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: иллюстрированный словарь. СПб.: Северо-Запад, 1995. С. 166, 168; Русский демонологический словарь/авт. – сост. Т.А. Новичкова. СПб.: Петербургский писатель, 1995. С. 207–208; Журавлёв А.Ф. Из мелкой сволочи (русское демонологическое название игоша)//Славянские этюды. С. 203–206; Левкиевская Е.Е. Полесские поверья о некрещёных детях//Живая старина. 2009. № 4. С. 10.].
Литератор В.И. Немирович-Данченко (брат знаменитого театрального деятеля), ездивший в 1875–1876 годах по Уралу, писал о старателях-одиночках, которые в поисках золота уходили в лесную глушь и жили там – бедствовали, часто голодали, погибали. Это были не только мужчины, но и женщины, которым особенно тяжко приходилось. Одна рассказывала: «…Лесовики вот пужают, по вечерам особенно… Гу-гу-гу пойдёт по лесу… А то словно дитё малое заплачет где – это непременно младенец, который помер некрещёный»[38 - Немирович-Данченко Вас. Ив. Кама и Урал (очерки и впечатления). СПб.: Изд. П.П. Сойкина, [1904]. [Ч. 2:] Урал. С. 304.].
В Полесье выкидыши, а также дети мертворождённые, умершие до крещения и погубленные своими матерями, представлялись существами, которые не могли упокоиться на «том свете». По заключению Е.Е. Левкиевской, полесские представления о них весьма архаичны: «Они не обладают сколько-нибудь заметными вредоносными функциями и принадлежат скорее к классу “душ”, чем к классу демонов». Такие души, в отличие от умерших крещёными, не могут попасть в рай и обрести покой.
Они маются, страдают от своей «нечистоты», носятся в воздухе, блуждают возле тех мест, где их закопали[39 - Левкиевская Е.Е. Полесские поверья о некрещёных детях. С. 7–10.].
Существование духа, отделённого от тела, занимало поэта Е. А. Боратынского. Около 1835 года он написал стихотворение «Недоносок», а в 1842 году возвратился к нему и значительно переработал (известно три варианта текста). Там говорится о некоем духе – «крылатом вздохе», носящемся меж землёй и небесами. Он внимает людским стонам и страданиям, во время бури по нему бьют древесные листы, поднятые с поверхности, и прах земной удушает его. Звуки райских арф слышатся ему лишь как отдалённые отголоски. Отчего же этот дух, оторвавшийся от грешной земли и не допущенный в рай, обречён вечно витать в пространстве? «На земле // Оживил я недоносок. // Отбыл он без бытия: // Роковая скоротечность!»[40 - Боратынский Е. А. Поли. собр. соч. и писем. М.: Языки славянских культур, 2012. Т. 3. Ч. 1: «Сумерки». Стихотворения 1835–1844 годов. Juvenilia. Коллективное. Dubia. С. 33–41.] В этом стихотоворении находили отголоски из Данте[41 - Мазур Н. Н. «Недоносок» Баратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: сб. к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова /редколлегия: А.А. Вигасин [и др.]. М.: ОГИ, 1999. С. 144–147.] и Гёте[42 - Бодрова Алина «Духи высшие, не я…»: к истории текста стихотворения Е.А. Баратынского «Недоносок» // История литературы. Поэтика. Кино: сб. в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой ? ред. – сост. О. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат. М.: Новое издательство, 2012. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 9). С. 53–62.]. Недавно появилась работа, в которой смыслы произведения сопоставлены с ветхозаветными образами и понятиями (автор – известный специалист по иудаизму)[43 - Ковельман А. Б. Дух, бытие и свобода: «Недоносок» Баратынского в библейском контексте // Вопросы философии. 2021. № 1. С. 88–99.]. Однако из текста стихотворения явствует, что дух внедрился в тельце ребёнка, когда тот был ещё в утробе матери, и вскоре недоношенный плод «отбыл без бытия». В более близкой Боратынскому культуре – а именно европейской, у славян – недоношенные и мертворождённые дети считались опасными существами, которые носились по воздуху[44 - Виноградова Л.Н. Указ. соч. С. 145–148.]. Это роднило их с «нечистой силой», а также с душами колдунов и грешников[45 - Левкиевская Е.Е. Вихрь//Славянские древности.?. 1. С. 379–382; Плотникова А.А. Ветер // Там же. Т. 1. С. 358; Кабакова Г.И. Дети некрещёные // Там же. Т. 2. С. 86–87.]. Впрочем, на славянские поверья было указано в статье Н. Н. Мазур об этом стихотворении[46 - Мазур Н.Н.Указ. соч. С. 143–144.].
В средневековой Западной Европе были сходные представления. Бурхард, епископ из германского города Вормса, в начале XI века составил уложение о покаянии (то есть каталог грехов) под названием «Целитель». Из него можно узнать: некоторые женщины боялись, что некрещёный ребёнок вернётся на землю и станет вредить живым. Чтобы этого не случилось, они протыкали колом трупик и прятали[47 - См.: Поньон Эдмон. Повседневная жизнь Европы в тысячном году. М.: Мол. гвардия, 1999. С. 161.].
Подытоживая, можно заметить, что по мере взросления дети всё более и более очеловечивались. Самыми опасными для окружающих выходцами из «иного мира» считались мертворождённые и недоношенные. Несколько лучше относились к благополучно появившимся на свет совсем маленьким детишкам, ещё не получившим крещения и имени[48 - О том, что отсутствие имени придавало малым детям демонические черты, см.: Толстая С.М. Имя // Славянские древности. Т. 2. С. 408–409; Толстой Н. И., Толстая С. М. Имя в контексте народной культуры // Язык о языке: сб. ст. / под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 599–601.]. Однако даже применительно к выжившим и подросшим детям в народной речи использовались такие слова, прозвища, ругательства, которые соотносили тех с «нечистью». Детвора и подростки нередко уподоблялись нечистой силе[49 - Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука, 1990. С. 178–184; Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. С. 41–59, 95; Коршунков В. А. Игровое поведение детей и молодежи в контексте традиционной народной культуры //Игровое пространство культуры: мат. форума. 16 апр. – 19 апр. 2002 г. ? гл. ред. В.В. Чубарь. СПб.: Евразия, 2002. С. 151–152; Его же. Детско-молодёжная игра в традиционной культуре // Сквозь границы: культурологический альманах ? гл. ред. Н. И. Поспелова. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. Вып. 4. С. 112–114. Смысловой анализ простонародных бранных обозначений шаловливых детей – в работе А. Б. Мороза (Мороз А. Б. «Чтоб тя лихая немочь изняла!»//Русская речь. 2000. № 1. С. 89–94). См. также: Баранов Д. А. «Незнакомые» дети (к характеристике образа новорожденного в русской традиционной культуре) // Этнографическое обозрение. 1998. № 4. С. 110–122; Новичкова Т.А. Ангел или бес: образ ребёнка в народных верованиях и мифологических рассказах // Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001. С. 193–202.]. Скажем, в говоре уржумских крестьян – жителей южной части Вятской губернии, во второй половине XIX века имелось выражение «станица некрешшоная» (то есть некрещёная), которым, по толкованию этнографа и просветителя В.К. Магницкого, обзывали детей[50 - Магницкий В. Указ. соч. С. 61.].
Выдумать или выявить?
В общем, герой повести Помяловского предпринял собственное фольклорно-этнографическое расследование и обнаружил, что «поверье о некрещёных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно».
Это странно. Представления о «нечистоте» и опасности мертворождённых либо умерших до крещения младенцев укоренены и повсеместны. Они имеются у всех славян, да и у тех народов Европейской России, которые соседствовали с русскими. Значит, если семейство Мирона, в котором родились и сразу же скончались «некрещёные детки», закопало их в чаще леса у реки, то оно действовало в полном соответствии с устойчивой народной традицией.
Да ведь и баба, косноязычно разъяснявшая молодому барину, отчего дети были погребены в лесу, не могла сама «сочинить» миф. Насколько мы можем судить по переданным в повести её словам, она толковала вполне в духе обычных народных представлений: мол, души в некрещёном младенце нет – один пар, а уж коли мёртвый родится, то и пара нету. Вот разве что рассуждала «баба-мистик» фаталистично: если ребёнок сразу умер, ещё до того, как его успели окрестить, то значит, он и должен был сгинуть таким, не вполне вочеловечившимся. Бог бы не попустил умереть крещёному. Но и фатализм вполне соответствует народным представлениям о судьбе, доле, жизненной предопределённости.
Складывается впечатление, что герой Помяловского плохо искал, раз он уверился, будто «миф» сочинён бабой. Недаром ничего не сказано о том, как же сей собиратель народных верований действовал – с кем именно он общался, как формулировал вопросы, пытался ли через некоторое время вновь заговаривать с теми же информантами. А мужики да бабы воспринимали его, ясное дело, как чужого барина, который зачем-то выясняет про мёртвые тела. Как надлежит поступать с мёртвыми – это была неудобная для досужего разговора тема: приходской священник не одобрил бы закапывания покойников в лесу, а полицейский чиновник, узнав про мертвеца, тоже мог бы привязаться, заведя дело, потащив в кутузку. Сколь тягостным бывало полицейское разбирательство, хорошо известно и неоднократно засвидетельствовано в русской литературе XIX века. Недаром мужики, обнаружив рядом с деревней труп какого-нибудь бродяги, оттаскивали его подальше, с глаз долой, да всем односельчанам велели помалкивать. Иначе наедут, начнут допрашивать, а ты их ещё корми, а то и деньгами подмазывай! Об этом – у Н. А. Некрасова в известном его стихотворении «Похороны» (1861) и в повести Ф.М. Решетникова «Подлиповцы»[51 - Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем: в 15 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2: Стихотворения 1855–1866 гг. С. 112–114; Решетников Ф.М.Указ. соч. С. 6.].
Получается так: то, что поведала Егору Молотову «баба-поэт, баба-мистик», не ею придумано. Конечно, она говорила сбивчиво, маловразумительно – оттого у него могло сложиться впечатление, будто она на ходу сочиняет. Причём сочиняет «миф» – так решил Егор.
Да, простая деревенская баба – не оратор и не учёный-этнограф, чтобы растолковать всё согласно науке, логично и в подробностях. Сам же Егор (и стоящий за ним автор) старался уразуметь её слова, опираясь на своё фоновое знание – на впечатления от работ, пересказывавших «мифологическую» теорию. Народ как творец «поэтических сказаний», коллективный мифотворец – такое вполне в духе тогдашнего народоведения.
Современные учёные, исследующие традиционную культуру, согласны, что мифологические представления могут до поры до времени пребывать в подспудном, скрытом, неосознаваемом виде. Они выявляются, оформляясь словесно и развёрнуто (как нарратив – быличка, бывальщина, поверье, примета и т. п.), когда собиратель начинает беседу на эту тему, задаёт свой вопрос. Сторонний человек, не специалист, может даже принять такой рассказ за некую импровизацию или же «создание мифа». В общем-то это и есть импровизация. Но в условиях традиционной культуры по ходу такого рассказа-размышления, рождающегося здесь и сейчас, выявляется только то, что соответствует коренным основам народного мировосприятия. Миф вообще не создают и не выдумывают. Миф медленно вызревает в потаённых глубинах коллективного сознания и подсознания, вбирая в себя, прежде всего, обрядовые впечатления, предписания, пояснения. Именно так: в его основе не столько вызванные природными явлениями метафоры и эмоции, сколько обряды и ритуализованные ситуации.
А то, что спрашивающий самим своим вопросом побуждает к оформлению и конкретизации мифологических представлений, – это верно. Тем осторожнее надо быть собирателю, чтобы невольно не навязать информанту свою систему координат и не предопределить ответ. Особенно когда отвечающий, беседуя с заезжим горожанином, ведёт себя деликатно, искренне готов ему помочь и с ним во всём согласиться.
Пример из повести Помяловского «Мещанское счастье» показывает, что интеллигент-разночинец в начале 1860-х годов воспринимал свой народ смутно, да и романтично. Это не его вина – даже тогдашнее народоведение, которое герою повести явно было не чуждо, толковало народную культуру, как мы сейчас понимаем, весьма приблизительно.
А ведь искренний интерес к народу, стремление помочь ему – всё это уже тогда увлекало многие тысячи честных юношей и девушек. Однако и те решительные люди, кто «пошёл в народ» ради политической агитации, призывая к революции, и те, кто лишь мечтал о крестьянской общине как ячейке социализма, и те, кто работал в земских учреждениях, – почти все они, начав близко общаться с простым народом, испытали разочарование. Крестьяне оказались совсем не такими, какими их воображали. Даже идеи о русском народе-богоносце и о всемирной его отзывчивости тоже могли появиться только при идеализированном восприятии деревенских.
В начале XX века образованная публика всё ещё во многом находилась под обаянием созданных ею же мифов о народе. Он представлялся то сообществом праведно-умудрённым, то каким-то исполинским существом, сочетавшим в себе зверя и ребёнка, то «самым-самым» – самым угнетённым, загадочным, великим… Грянувшие одна за другой революции выявили печальную правоту умного Чехова, жёлчного Бунина и прочих, сравнительно немногих, писателей и мыслителей, кто не разделял увлечения лубочной народностью.
Но тогда было уже поздно.
Владимир Маяковский в написанной во время Гражданской войны поэме «150000 000» грезил о скором будущем и пророчествовал:
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар[52 - Маяковский В. В. 150 000 000. Поэма (1919–1920) // Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: в 13 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 2: 1917–1921. С. 125.].
По Маяковскому, душа у нового человека ещё на месте. Да только веры в ней нет – традиционной веры, религиозной. Взамен того – пар, пронизываемый синими электрическими разрядами. Впечатляющее зрелище.
Грядущий голем-терминатор слишком уж был схож со зверем, упырём, «заложным» покойником. Правда, это инфернальное существо скоро банализировалось, рассыпавшись и обернувшись тысячами зощенковских персонажей, которые тянули разве что на мелких бесов.
Рассмотренные же здесь свидетельства демонстрируют, что ещё не так давно, в XIX веке, у нас не то что животным в наличии души отказывали – иной раз не признавали её у младенцев. И даже (пусть вроде бы не всерьёз) – у женщин. А попробуй сейчас скажи при кошатниках и собачниках, что их любимцы бездушны! Да и о лошадке нынче так не скажешь…
«Какой же я буду мужик без лошади?»
В наших краях лошадь издавна была тягловым рабочим животным: её держали ради пахоты и перевозки тяжестей (ещё и навоз использовали для удобрения полей). Поэтому лошадей в хозяйстве заводили именно крестьяне.
К примеру, в античном мире поля обычно вспахивали на быках и волах, а лошади нужны были для быстрого передвижения верхом, для охоты, спорта, войны. Они высоко ценились, стоили дорого, их приобретали честолюбивые и богатые аристократы. Недаром множество имён, образованных от древнегреческого слова «(х)иппос» (конь), считались звучными и аристократическими: Гиппий, Гиппарх, Гиппократ, Гиппоник, Филипп, Аристипп, Хрисипп и т. п. Корни, с которыми сочеталось в этих звонких именах слово «(х)иппос» тоже выразительны: «архэ» и «кратос» – власть, «никэ» – победа, «филео» – люблю, «аристос» – наилучший, «хрисос» – золото[53 - Коршунков В. А. Греколатиника: классика в отражениях. 2-е изд., перераб. М.: Неолит, 2022. С. 28–29.].
Судя по наблюдениям лингвистов, когда в XIX–XX веках люди называли кого-либо «лошадью», они тем самым почти всегда отзывались о человеке негативно, пренебрежительно, насмешливо. И главным значением этой метафоры было указание на тяжёлый, постоянный, малопроизводительный труд[54 - См., например: Мушникова Е.Н. Семантическая структура зоометафоры лошадь: динамика становления // Вестник Удмуртского гос. ун-та. 2011. Сер. 5: История и филология. Вып. 2. С. 19–25. (См. особенно на с. 20: «В системе языка зооним лошадь не приобрёл положительных метафорических значений, хотя предпосылки для этого есть: это любовь к животному, высокая оценка его красоты, стати, гордого нрава, преданности не каждому своему хозяину, как это происходит у собаки, а только к тому, кто проявляет настоящую заботу о нём»).].
Образ крестьянской лошадёнки выразительно обрисован в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» (1885). Да, это иносказательное описание мужика-трудяги, но без реалистичных черт конской житухи писатель-сатирик обойтись не мог. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для неё он зачат и рождён, и вне её он не только никому не нужен, но, как говорят расчётливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живёт, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нём той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его – никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы». И ещё: «Бьют его чем ни попадя, а он живёт; кормят его соломою, а он живёт!»[55 - Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки. Л.: Наука, 1988. С. 147–148.]