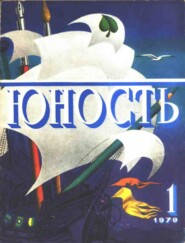По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Журнал «Юность» №11/2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По пятому каналу с утра передавали, что днем будет жара под тридцать градусов, но бабушка говорит, что до середины июля купаться ни в коем случае нельзя – вода в реке еще не прогрелась, ледяная, – это у берега, если рукой потрогать, кажется, что уже теплая, а как заплывешь на глубину, так тебе сразу и сведет ледяной судорогой ноги, ноги и отнимутся, и пойдешь ты камнем на дно – и никто тебя не спасет, а чтобы судорогу эту остановить, нужно изо всей силы воткнуть в бедро булавку, прямо до самой головки ее вогнать, поэтому бабушка аккуратно прячет нам по булавке в резинки трусов, стараясь, чтобы они не кололись, но булавки все равно колются, и приходится их перекалывать, потом мы их выбрасываем, врем бабушке, что потеряли, и она, ворча, вкалывает новые. Но все-таки это на самый крайний случай, а вообще купаться нам в речке запрещено: ни до середины июля, ни после, потому что даже если мы не утонем от судороги, то все равно замерзнем и простудимся, это только так кажется, что тепло, «тепло, тепло, с носу потекло», любит повторять бабушка, в эту жару достаточно малейшего сквозняка, чтобы простудиться, в такую-то жару люди и хватают самую страшную простуду и воспаление легких, так что если узнаю, что вы в речку эту говнотечку свою полезли, я вам такого дрозда задам, что вы у меня до конца лета помнить будете. Так что, чтобы не схватить простуду посередь этой жары, мы ходим в теплых фланелевых халатах с цветочками: сестра в красном, а я в синем, ей рукава немного коротки, а мне приходится их подворачивать, так что мне в моем халате еще жарче, но когда мы идем на речку, неся с собой тяжелые тазы с выстиранным бельем, то обе обливаемся потом и пытаемся хоть как-то извернуться, чтобы теплая фланелевая ткань немного отстала от тела и пропустила слабый летний ветерок, но знойный воздух недвижим, и слышно только, как в нем гудят шмели и зудят почуявшие добычу слепни.
Вода в реке низкая, и, чтобы хорошо выполоскать белье, приходится, встав на мостки коленями и придерживаясь за деревянный столбик, наклоняться и тянуться изо всех сил, иначе белье будет елозить по опорам мостков и соберет с них весь ил и грязь. Над водой вьются маленькие прозрачные комарики, у самых мостков мечутся по колышущейся глади водомерки, которые разбегаются, едва завидев дедовы майки и бабушкины белые кальсоны, то и дело всплывает, чтобы глотнуть воздуха, жук-вертячка, к одной из опор мостков прицепились два больших прудовика: мы их любим вытащить на воздух и посмотреть, как они закрывают вход в свой домик крышечкой, чтобы потом положить обратно в воду и ждать, когда крышечка откроется и улитка осторожно высунется наружу. От воды веет приятной прохладой, сквозь толщу ее видно бурое дно: на днях деревенские мужики чистили реку и вытащили на берег большущие снопы зеленой тины.
– Давай искупнемся, – говорит сестра, с трудом волохая в воде простыню, – сил же уже нет…
– В одних трусах, что ли?
– Ой, ну кому там нужно с микроскопом твои сиськи разглядывать! – насмешливо говорит сестра, но ясно, что без купальника она тоже лезть в воду боится: увидят деревенские мальчишки, потом стыда не оберемся.
Мы с трудом вытаскиваем из реки простыню, стараясь, чтобы она не коснулась мостков, и принимаемся за наволочки и ночнушки, потом выполаскиваем всякую мелочь, отправив заодно в плавание еще две пары дедовых носков, и тут-то сестра, широко раскинув руки, как будто готовясь нырнуть на глубину, ухнулась с мостков прямо в халате. На мгновение она скрылась под водой, но тотчас вынырнула, смеясь и отплевываясь, и ухватилась за край мостков. Ее намокшая челка распласталась по лбу, похожая на нити речных водорослей.
– Ну-у, а ты чего?
– Да бабушка ведь заругает…
– Она теперь все равно ругаться будет.
До дома мы шли вдвое медленнее обычного: насквозь мокрые халаты были тяжелыми, к тому же на них быстро налипала мелкая глиняная пыль, при каждом шаге поднимавшаяся с дороги. Встречавшиеся нам по пути взрослые смотрели на нас с любопытством, и нам казалось, что они точно знают, что это мы нарочно залезли в воду, и считают, что пыль мы тоже поднимаем нарочно, шаркая ногами, все назло бабушке. Мне даже показалось, что какая-то женщина сказала нам вслед: «Ну и влетит же вам дома от вашей бабки», и стало стыдно, что мы так долго возились в реке, увязая голыми ногами в илистом дне, смеялись и брызгали друг на друга водой и даже когда уже порядком замерзли, не хотели вылезать и возвращаться, хотя понятно было, что бабушка давно волнуется и скоро побежит искать нас по всей деревне.
– Ну, я вас спрашиваю, засранки такие, – повторила бабушка. – Куда вы залезли, что с вас льет, как с мокрых мышей? В речку эту говнотечку полезли купаться? Ну, отвечайте мне немедленно, в речке купались, да?!
– Бабуль… ну, бабуль… да мы просто в канаву упали! – вдруг выдает сестра. – Я упала, а она мне помочь хотела, вот мы вдвоем и упали!
– Вот мы вдвоем и упали! – подхватываю я за сестрой.
– В какую это такую канаву вы упали? – не сразу понимает бабушка.
– Ну, в эту, в канаву, в эту самую, которая возле нашего дома, – говорит сестра, и я поддакиваю: – Которая возле нашего дома канава, бабуль, правда-правда.
– Ах вы… – Бабушкина рука с хворостиной бессильно опускается. – Вот дряни-то две, а, вруши, что из вас обеих вырастет… дождя две недели как не было, сохнет все, а они в канаву упали! Да эта канава вам по колено, вруши вы растакие! В огороде все сохнет, поле сухое стоит, а они в канаву упали, посмотрите на них, мокрые две, как мыши! Идите, переоденьтесь, дряни такие… сколько раз вам говорено, сведет судорогой ноги, и на тот свет… и не спасет никто… – Бабушка жалостно всхлипывает. – Секунда – и все, и нет человека, а они лезут в эту свою речку, как будто им там медом намазано… Идите с глаз моих долой, не дети, а сволочи, как мне еще месяц с вами маяться, а… подсуропили мне ваши родители таких сволочей…
– Господи, Пресвятая Дева Богородица и святые угодники, – уложив нас спать, молится бабушка на кухне за стенкой, – Заступница наша, помилуй нас, грешных… прости нам, Господи, грехи наши, вольные и невольные… прости, Господи, и меня, великую грешницу… Спаси и сохрани, Господи… вот ведь дуры-то, сил моих больше нет, вот дуры две… прости, Господи, помилуй…
Мы засыпаем, но долго еще слышим доносящееся сквозь сон бабушкино бормотание.
– Ну, и куда мне его теперь? – Бабушка, похоже, так растерялась, что даже рассердиться на нас забыла. – Куда мне его теперь, я вас спрашиваю? Вот гадина, эта в магазине, видит, что перед ней маленькие дети, дрянь такая, ей дети слова поперек сказать не могут, и она им втюхивает! Вот что втюхала-то? Я вам что говорила купить?! – Наконец бабушка все-таки сердится. – Два килограмма сахарного песку на варенье! А это что такое?! – Она встряхивает перед нашими лицами синюшным оредежским цыпленком, которого держит за длинную тощую шею. Покрытые чешуйчатой желтой кожей плохо ощипанные ноги цыпленка бессильно мотыляются из стороны в сторону и едва не задевают сестру по носу.
– Ну, и куда мне его?! – повторяет бабушка. – Это же петушок! Из него даже хорошего супу не сваришь! Его только собакам выбросить!
– Это нам в нагрузку дали, бабуль, – наконец выговариваем мы.
– К чему это вам там дали в нагрузку?!
– Так к сахару! Светлана Кирилна сказала, на килограмм сахару нужно взять одного такого цыпленка, иначе она сахар не продаст. Она нам и так скидку сделала, за два килограмма всего одного цыпленка дала…
– Стерва! Ой, стерва! – голосит бабушка. – Ну ни стыда в ней, ни совести! Ну что ж за стерва-то такая! Где это видано, чтобы к сахару в нагрузку синие цыплята шли, а?! Вот я сейчас пойду и этим цыпленком ткну ей прямо в ее поганую харю! Что я с этим петушком синим делать буду, скажите пожалуйста! Вот же Светка гадина! – Бабушка с размаху швыряет цыпленка на разделочную доску, без сил опускается на продавленный матерчатый стул и закуривает папиросу. – Нет, ну вы только скажите… цыпленка синего она в нагрузку к сахару детям продала… вот же голь на выдумки… А эта Светка еще совсем маленькая была, когда их отец бросил, – вот в том самом доме они жили у развилки к Вырицкой дороге… Он сгорел-то всего лет десять назад, а тогда был хоро-оший дом, двухэтажный, там две семьи жили через стенку, вот этой Светки-продавщицы и другая семья, где как раз молодая баба была, к которой ушел Светкин отец. Мать Светкина при всей деревне на коленях его умоляла, ползла за ним прямо по ступеням крыльца, а он все равно ушел от них на другую половину. А Светкина мать потом повесилась. – Бабушка задумчиво выдыхает синий папиросный дым, и мы с сестрой смотрим, как он тонкими усиками поднимается к закоптелому потолку. – Вот я если узнаю, что вы в дом тот полезли, вы у меня неделю на своих задницах сидеть не сможете. А цыпленка ей завтра обратно снесите, стерве, а не возьмет, скажите, ваша бабка сама придет, пусть она мне рассказывает, как к сахару в нагрузку всякую дрянь продавать.
– Цыпленка-то, – шепчет перед сном сестра, пока бабушка гремит посудой на кухне, – завтра, может, собакам отдадим, а? А бабушке скажем, что Светлана Кирилна его обратно забрала…
– Ага, – говорю я, засыпая, – только подальше от дома отойти надо… чтобы только бабушка не узнала…
Следующим утром спозаранку мы идем через полдеревни к развилке, где стоит сгоревший дом Светланы Кирилны, а как раз напротив живет за сетчатым забором большая старая овчарка, которая, хоть на калитке и висит предупреждение, что собака злая, ни разу в жизни ни на кого не гавкнула, а если мимо идут знакомые дети, то она прижимается к металлической сетке лбом и ждет, когда почешут ее темную, густо пахнущую псиной шерсть. Мы подходим к забору, и сестра, размахнувшись, перебрасывает через него цыпленка, а спустя несколько минут он без остатка исчезает в овчаркиной пасти.
– Бабуль! Ба-абушка-а! – Мы с сестрой кричим изо всех сил, потому что бабушка глуховата, а если она на кухне, то, может, и совсем нас не услышит. – Бабуля! Ну откро-ой!
Проходит некоторое время, и мы думаем, что сейчас из соседних домов выйдут ругаться, но ничего такого не происходит, и окно нашей комнаты на втором этаже наконец распахивается. В нем показывается бабушка.
– Кто это тут такие? – строго спрашивает она.
– Это мы-ы! – орем мы что есть мочи. – Внучки тво-ои-и!
– А ну, пошли отсюда, хулиганье такое! – Тут же сердится бабушка. – Мои внучки уже давно дома, спят мои внучки, а вы тут среди ночи шляетесь, черти, пошли, пошли отсюда!
– Выпила… – шепотом говорит сестра. – Не откроет теперь.
Мы и задержались-то всего ничего: большое дело – с Комаровыми ходили за деревню смотреть на цыганский табор. Цыгане понаставили своих ярких, разукрашенных лентами палаток по всему полю, и женщины в цветастых юбках с оборками ходили туда-сюда от палаток к реке и обратно. Ближе подбираться боязно: поговаривают, что цыгане воруют детей, хотя, конечно, никого они не воруют, нужны мы им очень, бабушка так и говорит, как будто у цыган своих оглоедов мало, вас еще, сволочей, воровать, да на вас же не напасешься. Это, наверное, к местным, оседлым цыганам из Михайловки приехали их кочевые родственники и устроили здесь лагерь, чтобы передохнуть перед гостями. Мы сидим в кустах и лузгаем семечки, которые Комаровы выпросили у кассирши на станции.
– А цыганки, говорят, все ведьмы. – Старшая Комарова сплевывает на землю шелуху. – И молодые ведьмы, и старые особенно. И все гадать умеют.
– Наша бабушка тоже гадать умеет, – говорит сестра, – на картах. Только она не гадает, потому что говорит, что гадать – это грех, а еще гадать – судьбу свою прогадывать. А еще вот…
– Смотрите, к нам идет, к нам! – шипит младшая Комарова, попеременно дергая свою сестру и меня за рукава. – Цыганка же к нам идет!
Мы думали убежать, но стало стыдно: цыгане будут всем табором смеяться, как мы подрапаем от них по некошеному полю. Так и остались сидеть в кустах. Подошла цыганка – красивая, и правда чем-то похожая на ведьму.
– Вы тут, – сказала, – что делаете, девочки? Играете?
– Играем… – нестройным хором ответили мы. Не признаваться же, что мы пришли на них, на цыган посмотреть.
– А в магазин за продуктами для меня сходите? – Ласково спросила цыганка. – Мне не отойти. – Она махнула рукой в сторону палаток, и браслеты на ее запястье тихонько звякнули. – А магазин тут недалеко. Мне хлеба нужно взять, яиц пару десятков и молока. Сходите? А я вам за это погадаю.
– А молока можно от Марфы Терентьевны принести, – сказала сестра, – если вы бидон дадите.
– А не обманете меня? Я вам деньги дам, а вы…
– Не обманем, – говорим, – нас бабушка тоже через день в магазин посылает.
– Ну хорошо. – Цыганка заулыбалась, и глаза у нее стали хитрые. – А если обманете, я вас прокляну, так и знайте, ни одна замуж не выйдет, а к тридцати уже будете старухами. – Она пальцем оттянула верхнюю губу и показала нам два золотых зуба.
Вот мы и замешкались: сначала в магазин ходили, потом Марфу Терентьевну просили нам молока нацедить (цыганка дала здоровенный трехлитровый эмалированный бидон с нарисованными красными маками), потом несли все это цыганке в табор, а потом она долго нам гадала, раскладывая на куске замусоленной клеенки карты и какие-то блестящие бусины, и вышло все хорошее: каждая из нас, включая сопливую младшую Комарову, должна была выйти замуж за красивого богатого мужчину, и каждая с этим мужчиной должна была прожить в любви и согласии до глубокой старости, и еще у каждой из нас должно было родиться по семеро детей.
– Куда так много-то? – удивилась сестра.
– Это, милая моя, большое счастье, – возразила цыганка и погрозила ей пальцем с длинным красным ногтем. – Не гневи бога.
Так и вышло, что мы вернулись на час, а то и на два позже положенного, когда бабушка уже выпила свои «снотворные» сто грамм и заперла входную дверь изнутри на щеколду. Вот мы и кричим, как заведенные, под окнами:
– Ба-абушка-а! Бабуль! Это мы-ы, внучки тво-ои-и!