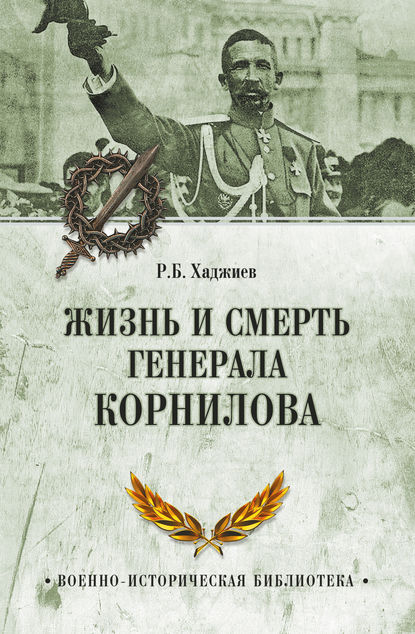По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и смерть генерала Корнилова
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И что же этот нахал после таких слов князя? – спрашивали офицеры,
– Конечно, ничего! Ему ничего и не осталось, как взять свой мокрый зонтик, надеть грязные галоши и убраться к черту!!
Все расхохотались, кроме одного полковника генерального штаба, который очень серьезно сожалел о том, что эта личность пришла к князю в его отсутствие, так как он ничуть не постеснялся бы приказать спустить Гучкову штаны и всыпать пятьдесят горячих нагаек по тому месту, где спина теряет свое благородное название.
Начало конца
В Станиславове в это время поднялась беготня и шум. В некоторых местах города послышались взрывы. Началась кое-где и одиночная стрельба. Приехавший из полка ко мне туркмен сообщил, что немцы приближаются к Станиславову и среди войск паника, а чтобы еще больше усилить ее среди бегущих товарищей, немцы с аэроплана бросают бомбы и обстреливают их из пулеметов. В городе произошла тоже паника. Все улицы были запружены госпитальными, артиллерийскими, обозными и интендантскими повозками. Все были нервно настроены и растеряны. Крик скачущих казаков, брань солдат, мольбы интендантских чиновников, обращающихся к солдатам о спасении казенного имущества, – все это создавало хаос и еще большую панику. Какие-то темные личности кричали о скором приближении немцев и без того взвинченной толпе. Узнав об этом, князь приказал вывести все конные части из города и сосредоточить в трех верстах от него, куда обещал вскоре прибыть и сам. Текинскому полку князь приказал идти туда же.
Получив приказание от князя, я выехал навстречу полку, чтобы передать последний приказ князя командиру полка. Кстати, скажу, со Станиславовом товарищи не смогли поступить так, как с Калушем, ибо здесь жители, австрийцы и немцы, не так легко дали на разграбление свое имущество, имея у себя оружие. Этим-то оружием и провожали жители бегущих товарищей.
С трудом пробравшись к приближавшемуся к городу полку, я сообщил командиру полка о приказании князя и о том, что видел в городе. Полк направился к условленному месту. Мы принуждены были ехать по полю, так как дорога была забита, о чем я говорил выше, отступающею толпой.
Вот показался Дагестанский полк во главе с князем. Головная сотня, имевшая музыкантов, играла на своих зурнах и била в барабан. В это время в городе начался пожар – горело интендантство. Доносимый ветром едкий дым давал знать, что горела кожа и одежда.
– Товарищи, берите кто что может, а то горят сапоги, одежда, амуниция и вообще всякое добро. Чай, сахар и сливочное масло обливают керосином. Ради Бога, берите, кто что может, а то все даром достанется немцам! – кричали прискакавшие из интендантства солдаты и чиновники.
– Куда к черту нам ваш чай, сахар и масло, когда здесь сидишь и думаешь, как бы самим отсюда поскорее выбраться подобру-поздорову?! А они, сволочи, такие, сякие, раньше, когда мы сидели в окопах, ничего нам не давали, а теперь кричат: «Спасайте и берите!» Пусть все пропадет, а вместе с ним пропадайте и вы! – отвечали солдаты.
Все сидевшие на возах и стоявшие на шоссе солдаты были враждебно настроены против чиновников армии. В их взглядах я читал, что они за все эти беспорядки будут мстить всем тем, кто, по их мнению, явился причиной. Со стороны города доносилась стрельба. Дивизия стояла на месте, ожидая присоединения конных частей. Текинский полк готовился к отбытию дальше – в Каменец-Подольск. В это время откуда ни возьмись, с криком, стрелой пролетела верхом на лошади мимо дивизии сестра милосердия с распущенными волосами. Очевидно, лошадь, почуяв на своей спине неопытного седока, решила сбросить его. Сестра взывала о спасении. Выделенные из дивизии на поимку скачущей лошади всадники развели такую тревогу среди лошадей нашего полка, что сумятица поднялась по всему полю. Не было конца брани туркмен по адресу виновницы этой неожиданной тревоги.
– Разак-бек, вы когда-то спрашивали меня, что называется паническим бегством? Вот то, что вы сейчас видите, называется так, – сказал поручик Раевский, подходя ко мне.
– Садись! – послышалась команда.
Мы тронулись в путь. В одном месте, в глубоком нашем тылу, группа аэропланов неприятеля сбросила на нас несколько бомб и, обстреляв из пулеметов без ущерба для нас, быстро исчезла. Проехав двое суток, мы решили к вечеру остановиться в местечке, кажется Чертково. Место для ночлега я, мой вестовой и денщик выбрали около свиного хлева одной хаты, так как везде было битком набито солдатами. К хате, близ которой мы остановились, ежеминутно подходили и уходили солдаты с дороги, спрашивая то хлеба, то молока. Хозяйка хаты, женщина средних лет, имевшая двоих детей – девочку восьми лет и мальчика Петю, как называл его мой денщик Фока, одиннадцати лет, который приносил нам тайком хлеб и молоко, – стоя на пороге дома, отвечала приходившим солдатам: «Нима млека, нима и хлеба». На вопрос моего денщика, почему она не спит, хозяйка отвечала, что вчера ее обокрали солдаты и она теперь сторожит дом, не желая их впускать в него.
Все шоссе длинной лентой искрилось то мерцавшими, то исчезавшими в ночной темноте огоньками от закуривания папирос.
После нескольких дней, проведенных без сна, поевши, я задремал. Проснувшись перед рассветом, я отправился к моему начальнику за дальнейшими инструкциями. Возвратясь назад, я застал перепуганного денщика, который встретил меня словами:
– Ваше благородие, случилось несчастье!
Я быстро взглянул на своих лошадей и, увидев их, немного успокоился и спросил, в чем дело.
– Ночью кто-то убил хозяйку, ограбил все дочиста и увел двух свиней и корову, которая кормила ее и детей…
Я бросился в дом, и глазам моим представилась картина. В луже крови лежала хозяйка, на ее груди плакала девочка. Петя сидел, забившись в угол, и бессмысленно смотрел на всех приходивших для осмотра.
– Петя, кто убил твою маму? Почему ты не прибежал к нам за помощью? – спрашивал я и другие пехотные офицеры, тоже ночевавшие близко от хаты.
– Нима, нима! – бессмысленно отвечал мальчик, избегая разговора.
Все платье девочки было испачкано кровью матери. Она не могла ничего говорить, потеряв голос от рыданий. Комнаты были ограблены дочиста. На кровати уже не было тех подушек и покрывала, которыми я любовался, впервые увидев их. В доме все было перевернуто вверх дном. На полу валялись осколки горшков. Очевидно, искали молоко и, не найдя, со злости разбивали посуду. Убитая лежала с раздробленной ключицей и пробитой головой. От сильного удара топором глаза выскочили из орбит. Тут же, рядом с убитой, в луже крови лежал топор. Убитая была в ночной юбке, которая то вздувалась, то опускалась от ветра, проникавшего в комнату из окна и дверей. Детей куда-то забрали. Дом, в котором несколько часов тому назад била жизнь, превратился в могилу.
– Бедняжка несколько дней тому назад получила от мужа, военнопленного в России, письмо, который писал ей, что скоро война окончится и он приедет домой, чтобы забрать ее и детей и вернуться в Россию. Живется ему в России хорошо, и русские лучше, чем немцы, писал он, – сообщил моему денщику сосед убитой перед нашим отъездом.
С тяжелой душой я покинул этот дом. «За зло – злом, а за добро – добром получишь в этом мире!» – вспомнились слова Курбан Кулы.
Быть может, муж этой женщины теперь в рядах Красной армии убивает сотни женщин и детей, не шевельнув ни одним мускулом лица, мстя за смерть своей жены и за разбитое семейное счастье. Мне кажется, что это ясный ответ на вопрос, почему в чрезвычайках и в рядах Красной армии работают военнопленные.
В Каменец-Подольск
Первая половина июля.
На пути в Каменец-Подольск. Ясный солнечный день. Необъятные зеленые еще поля. На душе уныло. Перед глазами все еще крутится кошмар Калуша.
– Стой! – раздался голос командира головного эскадрона штаб-ротмистра Натензона.
Полк остановился на привал. Люди и лошади бесконечно счастливы этому случаю после утомительной и продолжительной езды. Появились огни, закурились чилимы (кальяны). Джигиты, некоторые, держа за уздечки своих лошадей, легли на спину, устремив глаза в безоблачное лазурное небо, предаваясь своим несбыточным мечтам, – уехать как можно скорее в Ахал, а там… там отдохнуть и, сидя вокруг очага в кибитке, делиться со своими тем, чему они были свидетелями в Великую войну народов, а рассказать у них было много. Другие весело смеялись, шутя друг с другом. Я, пользуясь стоянкой, отдав своего коня вестовому Бяшиму, подошел к группе офицеров головного эскадрона. Офицеры – кто лежал у канавы, а кто сидел. Один из них, поручик Раевский, читал газету «Русское Слово».
– Послушайте, послушайте! Ведь это очень смело сказано, да еще в такое время. Как красиво и сильно! Действительно! В самом деле! Наконец-то нашелся человек, который сказал всю горькую правду. Да здравствует генерал Корнилов! – говорил поручик Раевский, ударяя по странице газеты рукой.
В газете было написано: «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства – бежит! На полях, которые нельзя даже называть полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой этих немногих изменников, предателей и трусов. Я, генерал Корнилов, заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью героев, имеющих право видеть лучшие дни!»
Во время чтения газеты, помимо моей воли, слезы покатились из глаз. Предо мной рисовалась моя Хива со всей ее грязью, лестью, ложью, во главе с ее правителями. Здесь те же самые темнота, честолюбие, самолюбие, ложь, грязь. И в такой обстановке нашелся человек-пророк, пытающийся сказать ослепленным сущую правду, остановить их и направить на путь правильный. Эти слова газеты врезались в мой мозг, так как они исходили из глубины чистого сердца величайшего русского патриота и еще потому, что такое положение и. одиночество я сам не раз испытывал среди пустыни и мрака в Хиве. Предо мной предстала как живая фигура генерала Корнилова, каким я видел его, когда он в первый раз приехал в наш полк и спросил меня, указывая пальцем на мою лошадь и в то же время пронизывая меня своими узкими глазами: «Вы эту лошадь из Ахала привели?» В памяти мелькнули слова джигита: «Бай, бай, Хаджи Ага, какие глаза у этого человека! Я встретил в жизни только двух таких людей, один – Ак-Падишах, а другой – сегодняшний генерал!»
Увидя его самого, я был пленен им, а прочтя его требование сейчас, я сказал себе: «Если Аллах не послал свой гнев на Россию и эти люди не ослеплены Им, то ты – пророк, а я твой верующий ученик! Ты один только спасешь нас! Если ты позовешь верующих, то я первый из них приду к тебе».
Я бы стоял в раздумье очень долго, если бы не голос Кишик Казиева, разбудившего меня как бы от сна.
– Хаджи Ага, нэмэ хабар (какие новости в газете)?
Я подробно объяснил ему и подошедшим джигитам, охотникам до хабаров (новостей), о чем я прочел. Я заметил одно, что по мере моего рассказа по лицам джигитов прошла дрожь. Джигиты то желтели, то бледнели и вздыхали, но слушали очень внимательно.
– Ай, Хаджи Ага, нэ билэн! (я не знаю!). Ты видишь эту гору? – указал мне нагайкой довольно пожилой туркмен на высокий холм.
– Да! – ответил я.
– Если я верю в свою внутреннюю силу, то я эту гору легко положу себе на спину, конечно, при помощи моих верующих, как и я, товарищей. Если же моя вера и моих помощников чуть поколеблется, то эта гора легко нас раздавит!
Все молчали.
– А я знаю, – раз у сары уруса (рыжего русского) голова ушла, то и душа вышла. Только Аллах знает, что тут с нами! Если Кярнилоу верит в свою силу, то он может поднять Россию на свои плечи. А ведь она большая и тяжелая, может его раздавить, даже если и не будет у него на спине, как сказал мой сосед, – закончил кто-то, тоже пожилой.
– Ай, Хаджи Ага! Как бы то ни было, поскорее бы приблизиться к родному Ахалу. Я боюсь, чтобы у нас не было того, что мы сейчас видели в Калуше! – говорили другие.
– Хаджи Ага, нэ хабар? – спросил, подойдя ко мне, Баба Хан Менглиханов, ударяя меня по плечу концом нагайки и указывая мимикой бровей в сторону своего эскадрона, где нас ждало немного спирту, разбавленного с водой..
Я рассказал Баба Хану о том, что читал сейчас в газете.
– Да, да у нас в эскадроне офицеры тоже читают газеты, но не говорят нам ничего, а нам неудобно спрашивать их.
– Что?! Домой в Ахал?! Ты думаешь, в Ахале тебе сары урус (рыжий русский) так и даст отдохнуть?! Наверно, придется записываться в аламаны и делать набеги как на персов, так и на русских, ибо государство разрушено, и все вооруженные банды хлынут назад и будут грабить всех и кого попало, беспощадно проливая кровь, так как они превратились в зверей в продолжение трех лет войны, – говорил Баба Хан, услышав о желании туркмен ехать домой.
Не успели мы положить каждый в рот по куску мяса и запить всегдашней спутницей походов – водкой, как послышался голос Натензона: «По коням!»
Поспешно сев на коней, полк двинулся дальше, в Каменец-Подольск.
– Конечно, ничего! Ему ничего и не осталось, как взять свой мокрый зонтик, надеть грязные галоши и убраться к черту!!
Все расхохотались, кроме одного полковника генерального штаба, который очень серьезно сожалел о том, что эта личность пришла к князю в его отсутствие, так как он ничуть не постеснялся бы приказать спустить Гучкову штаны и всыпать пятьдесят горячих нагаек по тому месту, где спина теряет свое благородное название.
Начало конца
В Станиславове в это время поднялась беготня и шум. В некоторых местах города послышались взрывы. Началась кое-где и одиночная стрельба. Приехавший из полка ко мне туркмен сообщил, что немцы приближаются к Станиславову и среди войск паника, а чтобы еще больше усилить ее среди бегущих товарищей, немцы с аэроплана бросают бомбы и обстреливают их из пулеметов. В городе произошла тоже паника. Все улицы были запружены госпитальными, артиллерийскими, обозными и интендантскими повозками. Все были нервно настроены и растеряны. Крик скачущих казаков, брань солдат, мольбы интендантских чиновников, обращающихся к солдатам о спасении казенного имущества, – все это создавало хаос и еще большую панику. Какие-то темные личности кричали о скором приближении немцев и без того взвинченной толпе. Узнав об этом, князь приказал вывести все конные части из города и сосредоточить в трех верстах от него, куда обещал вскоре прибыть и сам. Текинскому полку князь приказал идти туда же.
Получив приказание от князя, я выехал навстречу полку, чтобы передать последний приказ князя командиру полка. Кстати, скажу, со Станиславовом товарищи не смогли поступить так, как с Калушем, ибо здесь жители, австрийцы и немцы, не так легко дали на разграбление свое имущество, имея у себя оружие. Этим-то оружием и провожали жители бегущих товарищей.
С трудом пробравшись к приближавшемуся к городу полку, я сообщил командиру полка о приказании князя и о том, что видел в городе. Полк направился к условленному месту. Мы принуждены были ехать по полю, так как дорога была забита, о чем я говорил выше, отступающею толпой.
Вот показался Дагестанский полк во главе с князем. Головная сотня, имевшая музыкантов, играла на своих зурнах и била в барабан. В это время в городе начался пожар – горело интендантство. Доносимый ветром едкий дым давал знать, что горела кожа и одежда.
– Товарищи, берите кто что может, а то горят сапоги, одежда, амуниция и вообще всякое добро. Чай, сахар и сливочное масло обливают керосином. Ради Бога, берите, кто что может, а то все даром достанется немцам! – кричали прискакавшие из интендантства солдаты и чиновники.
– Куда к черту нам ваш чай, сахар и масло, когда здесь сидишь и думаешь, как бы самим отсюда поскорее выбраться подобру-поздорову?! А они, сволочи, такие, сякие, раньше, когда мы сидели в окопах, ничего нам не давали, а теперь кричат: «Спасайте и берите!» Пусть все пропадет, а вместе с ним пропадайте и вы! – отвечали солдаты.
Все сидевшие на возах и стоявшие на шоссе солдаты были враждебно настроены против чиновников армии. В их взглядах я читал, что они за все эти беспорядки будут мстить всем тем, кто, по их мнению, явился причиной. Со стороны города доносилась стрельба. Дивизия стояла на месте, ожидая присоединения конных частей. Текинский полк готовился к отбытию дальше – в Каменец-Подольск. В это время откуда ни возьмись, с криком, стрелой пролетела верхом на лошади мимо дивизии сестра милосердия с распущенными волосами. Очевидно, лошадь, почуяв на своей спине неопытного седока, решила сбросить его. Сестра взывала о спасении. Выделенные из дивизии на поимку скачущей лошади всадники развели такую тревогу среди лошадей нашего полка, что сумятица поднялась по всему полю. Не было конца брани туркмен по адресу виновницы этой неожиданной тревоги.
– Разак-бек, вы когда-то спрашивали меня, что называется паническим бегством? Вот то, что вы сейчас видите, называется так, – сказал поручик Раевский, подходя ко мне.
– Садись! – послышалась команда.
Мы тронулись в путь. В одном месте, в глубоком нашем тылу, группа аэропланов неприятеля сбросила на нас несколько бомб и, обстреляв из пулеметов без ущерба для нас, быстро исчезла. Проехав двое суток, мы решили к вечеру остановиться в местечке, кажется Чертково. Место для ночлега я, мой вестовой и денщик выбрали около свиного хлева одной хаты, так как везде было битком набито солдатами. К хате, близ которой мы остановились, ежеминутно подходили и уходили солдаты с дороги, спрашивая то хлеба, то молока. Хозяйка хаты, женщина средних лет, имевшая двоих детей – девочку восьми лет и мальчика Петю, как называл его мой денщик Фока, одиннадцати лет, который приносил нам тайком хлеб и молоко, – стоя на пороге дома, отвечала приходившим солдатам: «Нима млека, нима и хлеба». На вопрос моего денщика, почему она не спит, хозяйка отвечала, что вчера ее обокрали солдаты и она теперь сторожит дом, не желая их впускать в него.
Все шоссе длинной лентой искрилось то мерцавшими, то исчезавшими в ночной темноте огоньками от закуривания папирос.
После нескольких дней, проведенных без сна, поевши, я задремал. Проснувшись перед рассветом, я отправился к моему начальнику за дальнейшими инструкциями. Возвратясь назад, я застал перепуганного денщика, который встретил меня словами:
– Ваше благородие, случилось несчастье!
Я быстро взглянул на своих лошадей и, увидев их, немного успокоился и спросил, в чем дело.
– Ночью кто-то убил хозяйку, ограбил все дочиста и увел двух свиней и корову, которая кормила ее и детей…
Я бросился в дом, и глазам моим представилась картина. В луже крови лежала хозяйка, на ее груди плакала девочка. Петя сидел, забившись в угол, и бессмысленно смотрел на всех приходивших для осмотра.
– Петя, кто убил твою маму? Почему ты не прибежал к нам за помощью? – спрашивал я и другие пехотные офицеры, тоже ночевавшие близко от хаты.
– Нима, нима! – бессмысленно отвечал мальчик, избегая разговора.
Все платье девочки было испачкано кровью матери. Она не могла ничего говорить, потеряв голос от рыданий. Комнаты были ограблены дочиста. На кровати уже не было тех подушек и покрывала, которыми я любовался, впервые увидев их. В доме все было перевернуто вверх дном. На полу валялись осколки горшков. Очевидно, искали молоко и, не найдя, со злости разбивали посуду. Убитая лежала с раздробленной ключицей и пробитой головой. От сильного удара топором глаза выскочили из орбит. Тут же, рядом с убитой, в луже крови лежал топор. Убитая была в ночной юбке, которая то вздувалась, то опускалась от ветра, проникавшего в комнату из окна и дверей. Детей куда-то забрали. Дом, в котором несколько часов тому назад била жизнь, превратился в могилу.
– Бедняжка несколько дней тому назад получила от мужа, военнопленного в России, письмо, который писал ей, что скоро война окончится и он приедет домой, чтобы забрать ее и детей и вернуться в Россию. Живется ему в России хорошо, и русские лучше, чем немцы, писал он, – сообщил моему денщику сосед убитой перед нашим отъездом.
С тяжелой душой я покинул этот дом. «За зло – злом, а за добро – добром получишь в этом мире!» – вспомнились слова Курбан Кулы.
Быть может, муж этой женщины теперь в рядах Красной армии убивает сотни женщин и детей, не шевельнув ни одним мускулом лица, мстя за смерть своей жены и за разбитое семейное счастье. Мне кажется, что это ясный ответ на вопрос, почему в чрезвычайках и в рядах Красной армии работают военнопленные.
В Каменец-Подольск
Первая половина июля.
На пути в Каменец-Подольск. Ясный солнечный день. Необъятные зеленые еще поля. На душе уныло. Перед глазами все еще крутится кошмар Калуша.
– Стой! – раздался голос командира головного эскадрона штаб-ротмистра Натензона.
Полк остановился на привал. Люди и лошади бесконечно счастливы этому случаю после утомительной и продолжительной езды. Появились огни, закурились чилимы (кальяны). Джигиты, некоторые, держа за уздечки своих лошадей, легли на спину, устремив глаза в безоблачное лазурное небо, предаваясь своим несбыточным мечтам, – уехать как можно скорее в Ахал, а там… там отдохнуть и, сидя вокруг очага в кибитке, делиться со своими тем, чему они были свидетелями в Великую войну народов, а рассказать у них было много. Другие весело смеялись, шутя друг с другом. Я, пользуясь стоянкой, отдав своего коня вестовому Бяшиму, подошел к группе офицеров головного эскадрона. Офицеры – кто лежал у канавы, а кто сидел. Один из них, поручик Раевский, читал газету «Русское Слово».
– Послушайте, послушайте! Ведь это очень смело сказано, да еще в такое время. Как красиво и сильно! Действительно! В самом деле! Наконец-то нашелся человек, который сказал всю горькую правду. Да здравствует генерал Корнилов! – говорил поручик Раевский, ударяя по странице газеты рукой.
В газете было написано: «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства – бежит! На полях, которые нельзя даже называть полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой этих немногих изменников, предателей и трусов. Я, генерал Корнилов, заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью героев, имеющих право видеть лучшие дни!»
Во время чтения газеты, помимо моей воли, слезы покатились из глаз. Предо мной рисовалась моя Хива со всей ее грязью, лестью, ложью, во главе с ее правителями. Здесь те же самые темнота, честолюбие, самолюбие, ложь, грязь. И в такой обстановке нашелся человек-пророк, пытающийся сказать ослепленным сущую правду, остановить их и направить на путь правильный. Эти слова газеты врезались в мой мозг, так как они исходили из глубины чистого сердца величайшего русского патриота и еще потому, что такое положение и. одиночество я сам не раз испытывал среди пустыни и мрака в Хиве. Предо мной предстала как живая фигура генерала Корнилова, каким я видел его, когда он в первый раз приехал в наш полк и спросил меня, указывая пальцем на мою лошадь и в то же время пронизывая меня своими узкими глазами: «Вы эту лошадь из Ахала привели?» В памяти мелькнули слова джигита: «Бай, бай, Хаджи Ага, какие глаза у этого человека! Я встретил в жизни только двух таких людей, один – Ак-Падишах, а другой – сегодняшний генерал!»
Увидя его самого, я был пленен им, а прочтя его требование сейчас, я сказал себе: «Если Аллах не послал свой гнев на Россию и эти люди не ослеплены Им, то ты – пророк, а я твой верующий ученик! Ты один только спасешь нас! Если ты позовешь верующих, то я первый из них приду к тебе».
Я бы стоял в раздумье очень долго, если бы не голос Кишик Казиева, разбудившего меня как бы от сна.
– Хаджи Ага, нэмэ хабар (какие новости в газете)?
Я подробно объяснил ему и подошедшим джигитам, охотникам до хабаров (новостей), о чем я прочел. Я заметил одно, что по мере моего рассказа по лицам джигитов прошла дрожь. Джигиты то желтели, то бледнели и вздыхали, но слушали очень внимательно.
– Ай, Хаджи Ага, нэ билэн! (я не знаю!). Ты видишь эту гору? – указал мне нагайкой довольно пожилой туркмен на высокий холм.
– Да! – ответил я.
– Если я верю в свою внутреннюю силу, то я эту гору легко положу себе на спину, конечно, при помощи моих верующих, как и я, товарищей. Если же моя вера и моих помощников чуть поколеблется, то эта гора легко нас раздавит!
Все молчали.
– А я знаю, – раз у сары уруса (рыжего русского) голова ушла, то и душа вышла. Только Аллах знает, что тут с нами! Если Кярнилоу верит в свою силу, то он может поднять Россию на свои плечи. А ведь она большая и тяжелая, может его раздавить, даже если и не будет у него на спине, как сказал мой сосед, – закончил кто-то, тоже пожилой.
– Ай, Хаджи Ага! Как бы то ни было, поскорее бы приблизиться к родному Ахалу. Я боюсь, чтобы у нас не было того, что мы сейчас видели в Калуше! – говорили другие.
– Хаджи Ага, нэ хабар? – спросил, подойдя ко мне, Баба Хан Менглиханов, ударяя меня по плечу концом нагайки и указывая мимикой бровей в сторону своего эскадрона, где нас ждало немного спирту, разбавленного с водой..
Я рассказал Баба Хану о том, что читал сейчас в газете.
– Да, да у нас в эскадроне офицеры тоже читают газеты, но не говорят нам ничего, а нам неудобно спрашивать их.
– Что?! Домой в Ахал?! Ты думаешь, в Ахале тебе сары урус (рыжий русский) так и даст отдохнуть?! Наверно, придется записываться в аламаны и делать набеги как на персов, так и на русских, ибо государство разрушено, и все вооруженные банды хлынут назад и будут грабить всех и кого попало, беспощадно проливая кровь, так как они превратились в зверей в продолжение трех лет войны, – говорил Баба Хан, услышав о желании туркмен ехать домой.
Не успели мы положить каждый в рот по куску мяса и запить всегдашней спутницей походов – водкой, как послышался голос Натензона: «По коням!»
Поспешно сев на коней, полк двинулся дальше, в Каменец-Подольск.