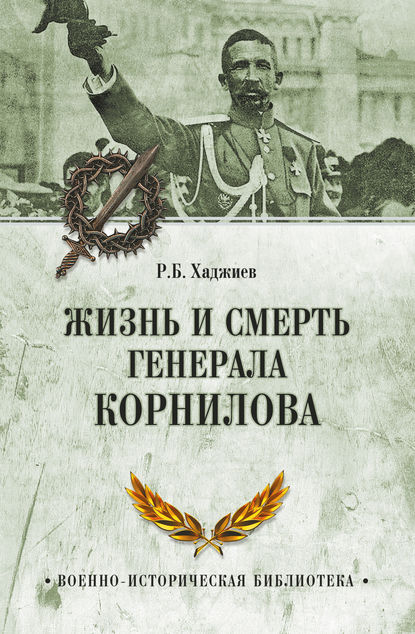По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и смерть генерала Корнилова
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баба Хан и я тщательно обыскали его и, к нашему удивлению, не могли найти.
– Где же твоя винтовка? Покажи сам! – удивленно спросил я джигита.
– Вот она, Ага! – показал он на балалайку, в грифе которой был спрятан ствол.
Азиатская балалайка имеет большой круглый корпус – в него-то джигит и спрятал затворы от трех винтовок. «Ложа нам не нужна, в Ахале сделаем сами», говорили джигиты, провозя таким образом домой много оружия. Кроме австрийских и немецких винтовок, каждый из джигитов вез револьверы, патроны, гранаты. Каждый джигит должен был вооружить свой дом и друзей, а лишнее продать по высокой цене в Хиву иомудам, персам и в Афганистан. Кстати, замечу, что хивинские иомуды вооружились за счет фронта через текинцев, а все-таки главным образом через армян, которые заполнили огнестрельным оружием Персию и Хиву за счет Кавказского фронта.
Занятый рассматриванием оружия и удивленный хитростью туркмен, я не заметил подошедшего Баба, передавшего мне приказание Сердара явиться к нему. Попрощавшись с делегацией, я отправился к Сердару, которого застал, по обыкновёнию, за гёок-чаем.
– Садись, Хаджи Ага, есть важная новость, и я хочу посоветоваться с тобой по этому поводу, – сказал Сердар, протягивая мне пиалу с гёок-чаем.
Наступила тишина, прерванная Сердаром.
– Командир полка получил телеграмму, предупреждающую о приезде комиссаров для присутствия во время присяги полка Временному правительству. По этому поводу вы, переговорив с муллой, приготовьтесь к церемонии. Мне кажется, не все джигиты хорошо знают молитву для этого случая. Если нет, то научите их! – закончил Сердар.
Наступила тишина, которую опять нарушил Сердар.
– Как мне, Хаджи Ага, не хочется присягать этой сволочи, а все-таки придется, иначе нас могут объявить бунтарями и тогда ни за что ни про что полк погибнет здесь, в этом хаосе.
– Джигиты могут сказать вам, Сердар Ага, что зачем нам присяга, если мы раз присягали на верность России. Для нечестного воина присяга не имеет цены – он ее может нарушить в любое время. Если в состав Временного правительства вошли люди не русские, а иностранцы и не доверяют нашей первой присяге, то, Сердар, разреши нам, скажут джигиты, разъехаться по домам, – сказал я.
– Вот этого-то, сын мой, я и сам боюсь! Ах, если бы была возможность избежать этой комедии, я бы с удовольствием это сделал, но, конечно, не осложняя положение полка. Кроме того, – добавил он, протягивая мне четвертую по счету пиалу, – по приказанию командира полка все приказы, получаемые из Петрограда, будешь переводить на туркменский язык ты, а читать их – мулла, так как боюсь, что джигиты по приезде в Ахал будут иметь на меня претензию, что я их не держал в курсе всех событий, – закончил Сердар.
Выслушав Сердара, я просил разрешения высказать свое мнение.
– Говори, Хаджи Ага! Я слушаю тебя!
– Сердар Ага, ведь есть выход из всякого положения, как бы ни было оно сложно.
– Ну-ка, ну-ка, обрадуй! – перебил меня Сердар и крикнул: – Баба, тащи другой чайник гёок-чая!
– Я думаю, Сердар Ага, что в присутствии приезжих комитетчиков мы прочтем молитву о даровании победы России, и весь полк поднимет руки к небу по прочтении муллой маленькой выдержки из Корана. Джигитов, если надо, предупредим об этом. Молиться будем, прося у Аллаха победы и благополучного возвращения в Ахал, это с одной стороны, а с другой – помолимся по убитым туркменам в эту войну! – предложил я.
Сердар не знал, что делать от радости, и сейчас же, забыв о своем приказании подать новый чайник гёок-чая, ушел к командиру полка.
Командир полка Зыков был очень рад этой идее и, вызвав меня, пожал руку.
– Жидам? Присягнуть? Нет! Я верю в Промысел Господа Бога. Эта нечисть долго держаться не будет. Разлетятся! Не правда ли, корнет Хаджиев, – обратился Зыков, протягивая мне гёок-чай. Он тоже любил пить его, но, конечно, не в таком количестве, как Сердар.
Была пасмурная погода, когда полк молча, в пешем строю, при штандарте, выстроился в поле. Пришлось ждать довольно долго товарищей-комитетчиков. В конце концов они прибыли. Лица их не внушали доверия, по выражениям лиц у туркмен. Полк замер, и мулла в торжественной обстановке и в глубокой тишине начал медленно читать главу из Корана, как вообще он читал во время общей молитвы. Товарищи комитетчики, украшенные красными бантами, величиною с тарелку, стояли молча с опущенными головами. Мулла кончил и молча поднял руки вверх. Полк последовал примеру муллы. Помолившись с минуту, мулла крикнул: «Омин!» – и все сразу поднесли руки к лицам, и «присяга» была закончена.
После присяги приехавшие товарищи подняли вопрос, почему полк не носит красных бантов и почему также с штандарта не снят до сих пор Императорский вензель. На это командир полка ответил, что полк состоит из мусульман, а их национальный цвет зеленый, который и будет скоро введен. Что же касается штандарта, то он принадлежит полку, и полк не хочет снять вензель Государя, который он заслужил собственной кровью. Так вензеля полк и не снял, завернув его зеленой материей, да и красно-зеленого банта тоже никто из нас не носил. Собственно говоря – зачем надо было это внешнее украшение, когда первым делом надо было украсить душу. Она же с первых дней революции – изживала!
Товарищи комитетчики собрали обозников-солдат, а их с писарями вместе было больше ста человек в полку, и стали готовиться к митингу. Ждали также туркмен. Конечно, многие туркмены не пошли, ссылаясь на незнание языка.
Узнав о митинге, Сердар приказал выпустить на площадь, где состоялся митинг, двух жеребцов, и ловившие их туркмены своим гиканием расстроили митинг.
После этого дня со стороны обоза посыпались на джигитов полка злобные упреки, что-де туркмены не хотят поддержать революцию и идти с ними рука об руку.
Замечу, что обоз был нарыв на теле полка. Еще до революции в высшей степени распущенные от безделья и находясь в весьма слабых руках своего начальника, полковника Григорьева, обозники после объявления свободы решили играть роль. Первые комитетчики, ораторы, агитаторы вышли из обоза, да из полковой канцелярии. Все старания их притянуть джигитов в революционную игру оставались тщетными, так как у нас в полку жизнь отдельного джигита была связана с волей вождя, Сердара, по вековой непоколебимой традиции. Много способствовало еще незнание языка туркмен. По природе своей вольный и свободный туркмен не понимал цели и значения быстро надвигавшихся событий, которые еще больше связывали их с Сердаром.
– Такую свободу личности, такое к нам отношение наших мусульман бояров, во главе с нашим Сердаром, нам ни вы, ни ваш Кирэнски не может дать, и нам больше того, что имеем сейчас, не нужно, – отвечали джигиты, когда тянули их на совместную работу обозники.
Обоз и канцелярия ругались, называя туркмен ишаками. Я слушал эти споры, молчал, терпел, посещал аккуратно собрание полкового комитета, членом которого я состоял в качестве представителя от пулеметной команды и 4-го эскадрона. В комитет всунул меня Сердар, чтобы быть в курсе дела.
– Я знаю, балам, что тебе тяжело, но и мне не легче. Ну что делать, когда я хочу вывести этих честных сынов Ахала, сохранив их сердца в таком же чистом виде, с каким они вышли сюда. Я тебе верю, Хаджи Ага, и уверен в твоей сообразительности и опытности, – говорил мне Сердар, когда я жаловался на бесцельность всей этой «работы» в комитете среди тупой солдатчины.
Вся прелесть этого комитета состояла в глупости и в ничегонеделании. Надо было терпеть, ходить, молчать, слушать глупости, терять золотое время и наживать врагов.
Новые птицы, новые песни
Итак, дни шли за днями. Обозные солдаты, будучи настроены отрицательно к туркменам, начали говорить и возбуждать против полка обозные части, стоявшие в Коломее.
– Хаджи Ага, вчера мы были в Коломее, и солдаты пригрозили нас всех перестрелять, если мы покажемся на полосе фронта, за то, что мы не поддерживаем наших обозных товарищей. «Подождите, разбойники, большепапашники, мы с вами разделаемся немного погодя!» – кричали они нам.
Пришел май. Изобилие солнца, зелени и цветов радовало взор. В эти дни надежды на светлое будущее закрадывались в душу. Хотелось забыть обстановку настоящего времени и думалось, что все это несерьезно и что скоро пройдет. В местечке Пичинежине жизнь била ключом. Девушки-русинки в своих разноцветных камзолах и расшитых рубашках волновали кровь джигитов.
Аргамаки, как бы опьяненные свежим воздухом весны, играли на ходу и танцевали на месте. Не дай Аллах, если в это время проезжал какой-нибудь сельчанин на кобылишке, – поднимался такой кавардак, и нужны были большие усилия и труды, чтобы удержать аргамаков в руках. Кстати, скажу, что это был единственный полк в русской армии, в котором люди сидели на жеребцах.
В один из таких прекрасных дней мая душа джигитов, Зыкоу бояр, трогательно распростившись с полком, уехал. Он получил назначение на должность командира бригады в 7-й кавалерийской дивизии.
Вместо Зыкова тотчас же вступил командовать полком полковник Николай Павлович фон Кюгельген. Очень добрый, отзывчивый и мягкий человек, полковник фон Кюгельген мог бы быть хорошим командиром полка, если бы не интриги Эргарта и Григорьева, которые чуть с ума не сошли от злости, не получив места командира полка «в созданном ими полку». Кюгельген любил текинцев, и туркмены его уважали и начали постепенно привыкать к нему как хорошему человеку, да к тому же он просто держал себя с джигитами и офицерами-туркменами, приглашая их запросто к себе на гёок-чай, во время которого, по обыкновению, надевал туркменскую тюбетейку. Григорьев и Эргарт, смеясь над Кюгельгеном, распространяли среди джигитов полка сплетни, говоря, что хитрый Кюгельген в туркменской тюбетейке похож на Хаджи Вильгельма в арабской чалме. Сердару и туркменам в полку Николай Павлович нравился. В дни сидения в Быхове генерала Корнилова он мне помогал во всем, в чем нуждался я, – в смысле улучшения жизни узников. Ему много напортили два «боевых» полковника, сваливая все нехорошее на Кюгельгена. Он сам это знал и не предпринимал ничего, так как не хотел поднимать истории в такие критические минуты, когда полк нес исключительно трудную задачу. Надо принять во внимание, что он вступил на должность командира полка в то время, когда и у всех начальников русской армии не было твердой веры и власти на оздоровление армии и фронта.
В конце мая полковник Кюгельген пригласил всех нас офицеров к себе и сообщил, что получена телеграмма от командира корпуса с запросом, – желаем ли мы идти на позицию. Теперь такой обычай: чтобы послать какую-нибудь часть на позицию, надо было заручиться ее согласием. Сердар и все офицеры полка изъявили свою готовность идти в бой, и сейчас же была послана ответная телеграмма.
– Ай, Хаджи Ага, какие теперь времена настали! Что за разговоры и спрашивания – пойдет ли полк на фронт или нет! Что это за новые законы? Мы ничего не понимаем. Может быть, наш полк не сможет сделать такие красивые дела, как в 1914–1915 годах, так как он на три четверти теперь состоит из джигитов, которые еще пороха не нюхали, но все же еще воевать сумеем, а уговаривать нас, – пойдем ли в бой? – нехорошо. Ай, Падишах, Падишах, ты ушел, и с тобой ушла боевая слава! – говорили обиженно старые джигиты, услышав о новых порядках.
– Интересно, Хаджи Ага, пойдут ли кроме нас какие-нибудь русские части в бой и поддержат ли нас? – спрашивали новоприбывшие.
– Ничего! Одинокому путнику Сам Аллах попутчик, – ответил я им на это.
– Хаджи Ага, эти ли люди могут понять и оценить свободу? – говорил Курбан Ага, указывая на возчиков солдат, проезжавших мимо нашего полка, которые, сидя на возу, с огромными красными бантами, грязные, в пыли, жевали беспрерывно черный хлеб.
Было приблизительно начало июня, когда пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде командира 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова для смотра полка.
Генерал Корнилов
Был жаркий июньский день. С безоблачного синего неба жарило раннее солнце. Словно золотой горящий шар всплыло оно из-за далекого не то фиолетового, не то синего, не то бархатно-зеленого леса. Напротив, на западе, сине-зеленые, кудрявые Карпатские вершины. В этом как бы беспрерывном кругу лесов и гор – золотые, волнистые, сгибаемые под тяжестью колосьев, качались неизмеримые пространства ржи. Белые деревни русин, древних потомков Червонной Руси. Эти широкие печально-сентиментальные виды – не то заход Руси, не то восход Австрии. В этой-то обстановке был выстроен в широком поле в конном строю Текинский конный полк.
Ждали мы генерала Корнилова долго. От долгого ожидания аргамаки начали нервничать и беситься. Один из жеребцов, вырвавшись из рук дремавшего хозяина, пустился по полю. Выделенный из полка для поимки его взвод всадников ни к чему не привел. В этот момент на горизонте по шоссе поднялся столб пыли, и сквозь нее стал виден быстро мчавшийся автомобиль. Не успел полк выровняться как следует, как автомобиль уже остановился на шоссе против него. Быстро соскочив с автомобиля, крупными, неестественными для его роста шагами невысокий человек направился к месту расположения полка. Это был генерал Корнилов. Высланный к нему навстречу штаб-ротмистр Фаворский предложил ему своего вороного красавца. Генерал Корнилов, быстро укротив нервного и горячего жеребца, вскочил на него с легкостью молодого джейрана, по меткому выражению туркмен, и галопом направился к замершему полку. В это время вырвавшийся и бегавший по полю жеребец нагнал генерала Корнилова.
Генерал, желая избегнуть несчастья, спокойно соскочил с лошади в тот момент, когда передние ноги нагнавшего коня были на его седле.
– Эй, молодец джигит! – пронесся шепот в строю среди туркмен, удивленных и пораженных хладнокровием генерала.
Это происшествие оставило глубокое и хорошее впечатление о первой встрече с генералом на туркмен.
– Этот генерал не из тех, которые боятся даже подойти к нашим лошадям! – говорили шепотом сзади меня стоявшие джигиты.
– Где же твоя винтовка? Покажи сам! – удивленно спросил я джигита.
– Вот она, Ага! – показал он на балалайку, в грифе которой был спрятан ствол.
Азиатская балалайка имеет большой круглый корпус – в него-то джигит и спрятал затворы от трех винтовок. «Ложа нам не нужна, в Ахале сделаем сами», говорили джигиты, провозя таким образом домой много оружия. Кроме австрийских и немецких винтовок, каждый из джигитов вез револьверы, патроны, гранаты. Каждый джигит должен был вооружить свой дом и друзей, а лишнее продать по высокой цене в Хиву иомудам, персам и в Афганистан. Кстати, замечу, что хивинские иомуды вооружились за счет фронта через текинцев, а все-таки главным образом через армян, которые заполнили огнестрельным оружием Персию и Хиву за счет Кавказского фронта.
Занятый рассматриванием оружия и удивленный хитростью туркмен, я не заметил подошедшего Баба, передавшего мне приказание Сердара явиться к нему. Попрощавшись с делегацией, я отправился к Сердару, которого застал, по обыкновёнию, за гёок-чаем.
– Садись, Хаджи Ага, есть важная новость, и я хочу посоветоваться с тобой по этому поводу, – сказал Сердар, протягивая мне пиалу с гёок-чаем.
Наступила тишина, прерванная Сердаром.
– Командир полка получил телеграмму, предупреждающую о приезде комиссаров для присутствия во время присяги полка Временному правительству. По этому поводу вы, переговорив с муллой, приготовьтесь к церемонии. Мне кажется, не все джигиты хорошо знают молитву для этого случая. Если нет, то научите их! – закончил Сердар.
Наступила тишина, которую опять нарушил Сердар.
– Как мне, Хаджи Ага, не хочется присягать этой сволочи, а все-таки придется, иначе нас могут объявить бунтарями и тогда ни за что ни про что полк погибнет здесь, в этом хаосе.
– Джигиты могут сказать вам, Сердар Ага, что зачем нам присяга, если мы раз присягали на верность России. Для нечестного воина присяга не имеет цены – он ее может нарушить в любое время. Если в состав Временного правительства вошли люди не русские, а иностранцы и не доверяют нашей первой присяге, то, Сердар, разреши нам, скажут джигиты, разъехаться по домам, – сказал я.
– Вот этого-то, сын мой, я и сам боюсь! Ах, если бы была возможность избежать этой комедии, я бы с удовольствием это сделал, но, конечно, не осложняя положение полка. Кроме того, – добавил он, протягивая мне четвертую по счету пиалу, – по приказанию командира полка все приказы, получаемые из Петрограда, будешь переводить на туркменский язык ты, а читать их – мулла, так как боюсь, что джигиты по приезде в Ахал будут иметь на меня претензию, что я их не держал в курсе всех событий, – закончил Сердар.
Выслушав Сердара, я просил разрешения высказать свое мнение.
– Говори, Хаджи Ага! Я слушаю тебя!
– Сердар Ага, ведь есть выход из всякого положения, как бы ни было оно сложно.
– Ну-ка, ну-ка, обрадуй! – перебил меня Сердар и крикнул: – Баба, тащи другой чайник гёок-чая!
– Я думаю, Сердар Ага, что в присутствии приезжих комитетчиков мы прочтем молитву о даровании победы России, и весь полк поднимет руки к небу по прочтении муллой маленькой выдержки из Корана. Джигитов, если надо, предупредим об этом. Молиться будем, прося у Аллаха победы и благополучного возвращения в Ахал, это с одной стороны, а с другой – помолимся по убитым туркменам в эту войну! – предложил я.
Сердар не знал, что делать от радости, и сейчас же, забыв о своем приказании подать новый чайник гёок-чая, ушел к командиру полка.
Командир полка Зыков был очень рад этой идее и, вызвав меня, пожал руку.
– Жидам? Присягнуть? Нет! Я верю в Промысел Господа Бога. Эта нечисть долго держаться не будет. Разлетятся! Не правда ли, корнет Хаджиев, – обратился Зыков, протягивая мне гёок-чай. Он тоже любил пить его, но, конечно, не в таком количестве, как Сердар.
Была пасмурная погода, когда полк молча, в пешем строю, при штандарте, выстроился в поле. Пришлось ждать довольно долго товарищей-комитетчиков. В конце концов они прибыли. Лица их не внушали доверия, по выражениям лиц у туркмен. Полк замер, и мулла в торжественной обстановке и в глубокой тишине начал медленно читать главу из Корана, как вообще он читал во время общей молитвы. Товарищи комитетчики, украшенные красными бантами, величиною с тарелку, стояли молча с опущенными головами. Мулла кончил и молча поднял руки вверх. Полк последовал примеру муллы. Помолившись с минуту, мулла крикнул: «Омин!» – и все сразу поднесли руки к лицам, и «присяга» была закончена.
После присяги приехавшие товарищи подняли вопрос, почему полк не носит красных бантов и почему также с штандарта не снят до сих пор Императорский вензель. На это командир полка ответил, что полк состоит из мусульман, а их национальный цвет зеленый, который и будет скоро введен. Что же касается штандарта, то он принадлежит полку, и полк не хочет снять вензель Государя, который он заслужил собственной кровью. Так вензеля полк и не снял, завернув его зеленой материей, да и красно-зеленого банта тоже никто из нас не носил. Собственно говоря – зачем надо было это внешнее украшение, когда первым делом надо было украсить душу. Она же с первых дней революции – изживала!
Товарищи комитетчики собрали обозников-солдат, а их с писарями вместе было больше ста человек в полку, и стали готовиться к митингу. Ждали также туркмен. Конечно, многие туркмены не пошли, ссылаясь на незнание языка.
Узнав о митинге, Сердар приказал выпустить на площадь, где состоялся митинг, двух жеребцов, и ловившие их туркмены своим гиканием расстроили митинг.
После этого дня со стороны обоза посыпались на джигитов полка злобные упреки, что-де туркмены не хотят поддержать революцию и идти с ними рука об руку.
Замечу, что обоз был нарыв на теле полка. Еще до революции в высшей степени распущенные от безделья и находясь в весьма слабых руках своего начальника, полковника Григорьева, обозники после объявления свободы решили играть роль. Первые комитетчики, ораторы, агитаторы вышли из обоза, да из полковой канцелярии. Все старания их притянуть джигитов в революционную игру оставались тщетными, так как у нас в полку жизнь отдельного джигита была связана с волей вождя, Сердара, по вековой непоколебимой традиции. Много способствовало еще незнание языка туркмен. По природе своей вольный и свободный туркмен не понимал цели и значения быстро надвигавшихся событий, которые еще больше связывали их с Сердаром.
– Такую свободу личности, такое к нам отношение наших мусульман бояров, во главе с нашим Сердаром, нам ни вы, ни ваш Кирэнски не может дать, и нам больше того, что имеем сейчас, не нужно, – отвечали джигиты, когда тянули их на совместную работу обозники.
Обоз и канцелярия ругались, называя туркмен ишаками. Я слушал эти споры, молчал, терпел, посещал аккуратно собрание полкового комитета, членом которого я состоял в качестве представителя от пулеметной команды и 4-го эскадрона. В комитет всунул меня Сердар, чтобы быть в курсе дела.
– Я знаю, балам, что тебе тяжело, но и мне не легче. Ну что делать, когда я хочу вывести этих честных сынов Ахала, сохранив их сердца в таком же чистом виде, с каким они вышли сюда. Я тебе верю, Хаджи Ага, и уверен в твоей сообразительности и опытности, – говорил мне Сердар, когда я жаловался на бесцельность всей этой «работы» в комитете среди тупой солдатчины.
Вся прелесть этого комитета состояла в глупости и в ничегонеделании. Надо было терпеть, ходить, молчать, слушать глупости, терять золотое время и наживать врагов.
Новые птицы, новые песни
Итак, дни шли за днями. Обозные солдаты, будучи настроены отрицательно к туркменам, начали говорить и возбуждать против полка обозные части, стоявшие в Коломее.
– Хаджи Ага, вчера мы были в Коломее, и солдаты пригрозили нас всех перестрелять, если мы покажемся на полосе фронта, за то, что мы не поддерживаем наших обозных товарищей. «Подождите, разбойники, большепапашники, мы с вами разделаемся немного погодя!» – кричали они нам.
Пришел май. Изобилие солнца, зелени и цветов радовало взор. В эти дни надежды на светлое будущее закрадывались в душу. Хотелось забыть обстановку настоящего времени и думалось, что все это несерьезно и что скоро пройдет. В местечке Пичинежине жизнь била ключом. Девушки-русинки в своих разноцветных камзолах и расшитых рубашках волновали кровь джигитов.
Аргамаки, как бы опьяненные свежим воздухом весны, играли на ходу и танцевали на месте. Не дай Аллах, если в это время проезжал какой-нибудь сельчанин на кобылишке, – поднимался такой кавардак, и нужны были большие усилия и труды, чтобы удержать аргамаков в руках. Кстати, скажу, что это был единственный полк в русской армии, в котором люди сидели на жеребцах.
В один из таких прекрасных дней мая душа джигитов, Зыкоу бояр, трогательно распростившись с полком, уехал. Он получил назначение на должность командира бригады в 7-й кавалерийской дивизии.
Вместо Зыкова тотчас же вступил командовать полком полковник Николай Павлович фон Кюгельген. Очень добрый, отзывчивый и мягкий человек, полковник фон Кюгельген мог бы быть хорошим командиром полка, если бы не интриги Эргарта и Григорьева, которые чуть с ума не сошли от злости, не получив места командира полка «в созданном ими полку». Кюгельген любил текинцев, и туркмены его уважали и начали постепенно привыкать к нему как хорошему человеку, да к тому же он просто держал себя с джигитами и офицерами-туркменами, приглашая их запросто к себе на гёок-чай, во время которого, по обыкновению, надевал туркменскую тюбетейку. Григорьев и Эргарт, смеясь над Кюгельгеном, распространяли среди джигитов полка сплетни, говоря, что хитрый Кюгельген в туркменской тюбетейке похож на Хаджи Вильгельма в арабской чалме. Сердару и туркменам в полку Николай Павлович нравился. В дни сидения в Быхове генерала Корнилова он мне помогал во всем, в чем нуждался я, – в смысле улучшения жизни узников. Ему много напортили два «боевых» полковника, сваливая все нехорошее на Кюгельгена. Он сам это знал и не предпринимал ничего, так как не хотел поднимать истории в такие критические минуты, когда полк нес исключительно трудную задачу. Надо принять во внимание, что он вступил на должность командира полка в то время, когда и у всех начальников русской армии не было твердой веры и власти на оздоровление армии и фронта.
В конце мая полковник Кюгельген пригласил всех нас офицеров к себе и сообщил, что получена телеграмма от командира корпуса с запросом, – желаем ли мы идти на позицию. Теперь такой обычай: чтобы послать какую-нибудь часть на позицию, надо было заручиться ее согласием. Сердар и все офицеры полка изъявили свою готовность идти в бой, и сейчас же была послана ответная телеграмма.
– Ай, Хаджи Ага, какие теперь времена настали! Что за разговоры и спрашивания – пойдет ли полк на фронт или нет! Что это за новые законы? Мы ничего не понимаем. Может быть, наш полк не сможет сделать такие красивые дела, как в 1914–1915 годах, так как он на три четверти теперь состоит из джигитов, которые еще пороха не нюхали, но все же еще воевать сумеем, а уговаривать нас, – пойдем ли в бой? – нехорошо. Ай, Падишах, Падишах, ты ушел, и с тобой ушла боевая слава! – говорили обиженно старые джигиты, услышав о новых порядках.
– Интересно, Хаджи Ага, пойдут ли кроме нас какие-нибудь русские части в бой и поддержат ли нас? – спрашивали новоприбывшие.
– Ничего! Одинокому путнику Сам Аллах попутчик, – ответил я им на это.
– Хаджи Ага, эти ли люди могут понять и оценить свободу? – говорил Курбан Ага, указывая на возчиков солдат, проезжавших мимо нашего полка, которые, сидя на возу, с огромными красными бантами, грязные, в пыли, жевали беспрерывно черный хлеб.
Было приблизительно начало июня, когда пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде командира 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова для смотра полка.
Генерал Корнилов
Был жаркий июньский день. С безоблачного синего неба жарило раннее солнце. Словно золотой горящий шар всплыло оно из-за далекого не то фиолетового, не то синего, не то бархатно-зеленого леса. Напротив, на западе, сине-зеленые, кудрявые Карпатские вершины. В этом как бы беспрерывном кругу лесов и гор – золотые, волнистые, сгибаемые под тяжестью колосьев, качались неизмеримые пространства ржи. Белые деревни русин, древних потомков Червонной Руси. Эти широкие печально-сентиментальные виды – не то заход Руси, не то восход Австрии. В этой-то обстановке был выстроен в широком поле в конном строю Текинский конный полк.
Ждали мы генерала Корнилова долго. От долгого ожидания аргамаки начали нервничать и беситься. Один из жеребцов, вырвавшись из рук дремавшего хозяина, пустился по полю. Выделенный из полка для поимки его взвод всадников ни к чему не привел. В этот момент на горизонте по шоссе поднялся столб пыли, и сквозь нее стал виден быстро мчавшийся автомобиль. Не успел полк выровняться как следует, как автомобиль уже остановился на шоссе против него. Быстро соскочив с автомобиля, крупными, неестественными для его роста шагами невысокий человек направился к месту расположения полка. Это был генерал Корнилов. Высланный к нему навстречу штаб-ротмистр Фаворский предложил ему своего вороного красавца. Генерал Корнилов, быстро укротив нервного и горячего жеребца, вскочил на него с легкостью молодого джейрана, по меткому выражению туркмен, и галопом направился к замершему полку. В это время вырвавшийся и бегавший по полю жеребец нагнал генерала Корнилова.
Генерал, желая избегнуть несчастья, спокойно соскочил с лошади в тот момент, когда передние ноги нагнавшего коня были на его седле.
– Эй, молодец джигит! – пронесся шепот в строю среди туркмен, удивленных и пораженных хладнокровием генерала.
Это происшествие оставило глубокое и хорошее впечатление о первой встрече с генералом на туркмен.
– Этот генерал не из тех, которые боятся даже подойти к нашим лошадям! – говорили шепотом сзади меня стоявшие джигиты.