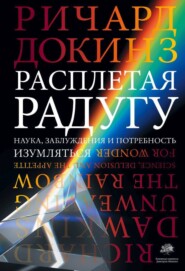По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огарок во тьме. Моя жизнь в науке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Огарок во тьме. Моя жизнь в науке
Ричард Докинз
Эта книга – вторая часть автобиографии биолога, мыслителя и популяризатора науки Ричарда Докинза. В ней рассказывается о профессиональном пути Докинза как уже состоявшегося ученого, описываются его встречи с крупнейшими исследователями и работа над прославившими его научными трудами, а также показана эволюция его взглядов на взаимодействие науки, культуры и религии. Заметная часть книги посвящена тому, как Докинз пришел к своим самым известным идеям, таким как понятия мема и расширенного фенотипа.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ричард Докинз
Огарок во тьме. Моя жизнь в науке
Посвящается Лалле
Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь – только тень, она – актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков.
Уильям Шекспир.
“Макбет”. Акт V, сцена 5.
Пер. Б. Пастернака
Наука – как свеча во тьме.
Карл Саган.
Подзаголовок книги “Мир, полный демонов”, 1995
Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.
Неизвестный автор
RICHARD DAWKINS
BRIEF CANDLE IN THE DARK
MY LIFE IN SCIENCE
Перевод с английского Анны Петровой
© Richard Dawkins, 2015
© Murdo Macleod/Polaris/East, фотография на обложке
© А. Петрова, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство ACT”, 2023
Издательство CORPUS ®
Память на пиру
Что я делаю здесь, в столовой нового колледжа[1 - Новый колледж – один из колледжей Оксфордского университета, в котором Докинз работал с 1970 года. – Здесь и далее, если не указано иное, прим, перев.], готовясь прочесть вслух собственное стихотворение сотне гостей на торжественном ужине? Как я попал сюда? По субъективным ощущениям мне двадцать пять лет, а объективно я, к своему удивлению, праздную семидесятый оборот вокруг Солнца. Я оглядываю длинный стол, озаренный свечами, уставленный серебром и хрустальными бокалами, улавливаю вспышки блистательного остроумия и искрящихся фраз, а заодно ловлю и обрывки воспоминаний, стремительно пролетающих перед умственным взором.
Возвращаюсь в детство, в колониальную Африку: кругом – большие ленивые бабочки, острый вкус листьев настурции, украденных из незабвенного сада в Лилонгве, вкус манго, чью неописуемую сладость перебивает пряный аромат скипидара и серы; школа-пансион в благоухающих хвоей горах Вумба в Зимбабве. Затем – “домой”, в Англию, под устремленные в небеса шпили Солсбери и Аундла: студенческие годы среди плоскодонок и башенок Оксфорда, грезы о прекрасных девушках, зарождение интереса к науке и глубоким философским вопросам, на которые только наука и может ответить; первые опыты научных исследований, преподавание в Оксфорде и Беркли; возвращение в Оксфорд молодым и ретивым лектором; снова исследования (в основном в сотрудничестве с моей первой женой Мэриан, которая сегодня здесь, за столом в Новом колледже), затем – моя первая книга, “Эгоистичный ген”. Воспоминания летят стремительно: вот мне уже тридцать пять, на полпути к сегодняшнему юбилею. Те годы описаны в моей первой автобиографической книге “Неутолимая любознательность”.
Вспоминая свой тридцать пятый день рождения, я припомнил статью юмориста Алана Корена, где он описывал собственное тридцатипятилетие. Корен изображал, будто его угнетала мысль, что он дожил до середины – и теперь дорога только под уклон. У меня тогда такого ощущения не было – может быть, потому, что я как раз вносил завершающие штрихи в свою первую, довольно юношескую, книгу и предвкушал ее выход и все, что за ним последует.
После выхода книги благодаря неожиданно высоким продажам я вдруг оказался в числе людей, которых журналисты (охочие до лишних сантиметров колонки) регулярно просят составить идеальный список гостей на ужин. Во времена, когда я еще отвечал на подобные запросы, я бы, безусловно, пригласил некоторых блестящих ученых, но также и писателей, и творческих людей всех мастей. Собственно, в любой из моих списков вошло бы не меньше пятнадцати гостей с моего сегодняшнего дня рождения: писатели, драматурги, телеведущие, музыканты, комики, историки, издатели, актеры и магнаты международного бизнеса.
Оглядывая знакомые лица за столом, я думаю, что тридцать пять лет назад вряд ли можно было представить день рождения ученого с таким количеством гостей из мира литературы и искусства. Сменился ли дух времени с тех пор, как Чарльз Сноу сокрушался о разрыве между научной и литературной культурами? [2 - Чарльз Перси Сноу (1905–1980) – английский писатель и ученый. В эссе “Две культуры и научная революция” (1959) описал разрыв между гуманитарной культурой и культурой научно-технического прогресса.] Что произошло за годы, к которым теперь обратилась моя мысль? Грезы переносят меня в самую середину тех времен, и передо мной встает огромная, незабываемая фигура Дугласа Адамса, к сожалению, отсутствующего на празднике. В 1996 году, когда мне было пятьдесят пять, а ему на десять лет меньше, мы беседовали на камеру для документального фильма Четвертого канала под названием “Преодолевая научный барьер”. Передача как раз стремилась показать, что наука должна внедриться в широкую культуру, и мое интервью с Дугласом было гвоздем программы. Вот отрывок из его рассуждений:
Думаю, роль художественной книги немного изменилась. В XIX веке люди искали глубоких размышлений и философских вопросов именно в книгах. Они обращались к Толстому и Достоевскому. В наши дни, конечно, об этих вопросах намного больше рассказывают ученые, чем можно добиться от романистов. Так что настоящую, сытную пищу для ума я беру в научных книгах, а романы читаю для развлечения.
Может быть, это часть тех самых перемен? Может быть, писатели, журналисты и прочие, кого Чарльз Сноу уверенно отнес бы к “первой культуре”, все больше включаются во вторую? Если бы Дуглас был жив, смог бы он – через двадцать пять лет после того, как изучал английскую филологию в Кембридже, – вернуться к романам и найти в них то, что привык искать в науке: скажем, у Иэна Макьюэна или Антонии Байетт? Или у других романистов, которые увлекались наукой – например, у Филипа Пулмана, Мартина Эмиса, Уильяма Бойда или Барбары Кингсолвер? А еще есть весьма успешные пьесы, черпавшие вдохновение в науке, – например, у Тома Стоппарда и Майкла Фрейна. Может ли быть, что звездное общество, которое собрала в мою честь моя жена Лалла Уорд (она актриса и художница и при этом хорошо разбирается в науке), – не только веха моей частной жизни, но и своего рода знак культурных перемен? Может ли быть так, что мы наблюдаем созидательное объединение научной и литературной культур – и возникновение “третьей культуры”: ради этого незримо трудился мой литературный агент Джон Брокман, он держит процветающий онлайн-салон и взрастил множество блистательных научно-популярных авторов. Или, может быть, это слияние культур, к которому я сам стремился в книге “Расплетая радугу”, где под влиянием Лаллы я старался дотянуться до литературного мира и навести мосты между ним и наукой. Но где же прошлогодний Сноу?
Об этом есть две истории (а если вы не любите отступления с историями – вероятно, вы читаете неподходящую книгу). Один из гостей на этом ужине в Новом колледже, путешественник и искатель приключений Редмонд О’Хэнлон, описавший свои странствия в неимоверно смешных книгах, например, “В сердце Борнео” (Into the Heart of Borneo) и “Снова в беде” (In Trouble Again), вместе с женой Белиндой устраивал литературные вечеринки и ужины, на которые, кажется, приглашали весь литературный Лондон. Писатели и критики, журналисты и редакторы, поэты и издатели, литературные агенты и литературные гиганты слетались к ним в отдаленный уголок графства Оксфордшир: дом был набит чучелами змей, засушенными головами, выдубленными временем мертвыми телами, книгами в переплетах из выдубленной кожи – экзотическими диковинками от антропологии и, возникает подозрение, антропофагии. Их вечера славились обществом, а когда приезжал Салман Рушди – еще и присутствием телохранителей, которые образовывали собственное общество наверху.
В день очередного такого сборища у нас с Лаллой гостил Нейтан Мирволд, технический директор Microsoft и один из самых изобретательных гиков Кремниевой долины. По образованию Нейтан – математический физик. После защиты диссертации в Принстоне он работал в Кембридже со Стивеном Хокингом: тогда Стивен еще мог говорить, но понимали его лишь несколько приближенных, которые выступали в роли переводчиков для остального мира. Нейтан был одним из таких высококвалифицированных научных секретарей. Теперь он по-настоящему раскрылся и стал одним из передовых мыслителей в сфере высоких технологий. Мы сказали пригласившим нас Редмонду и Белинде, что у нас дома гость, и они, проявив свое обычное радушие, велели нам взять его с собой.
Нейтан слишком вежлив, чтобы единолично завладеть разговором, но, видимо, его соседи за столом спросили, чем он занимается, и беседа перетекла в обсуждение теории струн и прочих загадок современной физики. Весь избранный литературный круг был околдован. Несомненно, они начали, как обычно, с обмена изящными шуточками с соседями. Но с того конца стола, где сидел Нейтан, неумолимо нахлынула волна интереса к науке, и вечер превратился в неофициальный семинар о странностях современной физики. Когда в семинаре участвуют умы такого калибра, как за тем ужином, начинается интересное. Мы с Лаллой грелись в лучах его славы: ведь именно мы привели этого неожиданного гостя на вечер, который стал воплощением “третьей культуры”. Потом Редмонд позвонил и сказал Лалле, что никогда еще, за все годы вечеринок, он не видел, чтобы именитые литературные гости пребывали в таком потрясенном молчании.
Вторая история практически зеркальна первой. Драматург и романист Майкл Фрейн с женой, знаменитой писательницей Клэр Томалин, гостили у нас с Лаллой, когда выдающуюся пьесу Майкла “Копенгаген” ставили в театре “Оксфорд плейхаус”. В пьесе идет речь об отношениях двух гигантов современной физики – Нильса Бора и Вернера Гейзенберга – и о загадке из истории науки: зачем Гейзенберг приехал к Бору в Копенгаген в 1941 году и какую роль Гейзенберг сыграл в войне (см. также стр. 328). После спектакля Майкла отвели в комнату наверху, где собрались оксфордские физики – они забросали его вопросами. Мне невероятно повезло слушать, как аристократ от литературы и философии принимал вопросы от виднейших оксфордских ученых, среди которых были даже члены Лондонского королевского общества. Еще один вечер в копилку поборников третьей культуры, вечер, который бы приятно удивил новых Чарльзов Сноу тридцать лет спустя.
Смею надеяться, что мои книги, начиная с “Эгоистичного гена” в 1976 году, внесли свой вклад в изменение культурного ландшафта – так же, как и работы Стивена Хокинга, Питера Эткинса, Карла Сагана, Эдварда О. Уилсона, Стива Джонса, Стивена Джея Гулда, Стивена Пинкера, Ричарда Форти, Лоуренса Краусса, Дэниела Канемана, Хелены Кронин, Дэниела Деннета, Брайана Грина, двух М. Ридли (Марка и Мэтта), двух Шонов Кэрроллов (физика и биолога), Виктора Стенджера и других и вся дискуссия журналистов и критиков, последовавшая за этими публикациями. И здесь я оставляю за скобками научных журналистов, которые популярно разъясняют науку широкой публике, – хотя они тоже молодцы. Я говорю о книгах профессиональных ученых, предназначенных для читателей-профессионалов в той же или смежных областях, но написанных таким языком, что широкая публика может заглянуть через плечо и присоединиться. Хотелось бы думать, что в запуске “третьей культуры” поучаствовал и я.
В отличие от “Неутолимой любознательности”, второй том моей автобиографии не выдержан в хронологическом порядке; более того, воспоминания на моем семидесятом дне рождения – даже не единственный взгляд в прошлое в этой книге. Скорее здесь собран ряд воспоминаний, разбитых по темам, прерываемых отступлениями и байками. Раз мы избавились от жесткой хронологии, то и порядок глав будет более-менее случайным. В первом томе я писал: “Прежде всего именно благодаря Оксфорду я и стал тем, кем стал”[3 - Цит. по: Ричард Докинз. Неутолимая любознательность. Пер. П. Петрова. М.: Corpus, 2018.], – так почему бы не начать с моего возвращения в эти стены, сложенные из известняка и источающие свет мудрости?
Доны и их закидоны
С 1970 года до 1990-го я преподавал поведение животных на кафедре зоологии в Оксфорде, с 1990 до 1995-го был старшим преподавателем. Чтение лекций было не слишком обременительным – по крайней мере, по американским меркам. Кроме лекций по поведению животных я также представил новый курс по эволюции (конечно, эволюция всегда была одной из основных тем программы, но новый курс позволял студентам извлечь еще больше пользы из накопленных в Оксфорде знаний по предмету). Я преподавал не только студентам, изучавшим зоологию или биологические науки, но и тем, кто выбрал направление “Науки о человеке” или психологию (эти специализации позволяли получить диплом по углубленной программе, и одна из экзаменационных тем была посвящена поведению животных).
Также я каждый год читал студентам-зоологам технический курс по компьютерному программированию. К слову сказать, там проявлялась поразительная дисперсия студенческих способностей – разрыв между сильнейшими и слабейшими был намного шире, чем мне доводилось замечать в других предметах. Слабейшим так и не удавалось разобраться, несмотря на все мои усилия и на то, что невычислительные темы курса не вызывали у них трудностей. А сильнейшие? Кейт Лесселс, например, явилась на практику с опозданием, пропустив все занятия первой половины семестра. Я запротестовал: “Вы ни разу в жизни не прикасались к компьютеру, да еще и пропустили целых четыре недели. Как вы собираетесь выполнить сегодняшнее практическое задание?”
“Что вы говорили на лекциях?” – невозмутимо отвечала эта девушка с уверенным взглядом и мальчишескими повадками.
Я был озадачен. “Вы и правда хотите, чтобы я за пять минут пересказал вам четыре недели лекций?”
Она кивнула, с той же невозмутимостью и будто бы с ироничной полуулыбкой.
“Ладно”, – сказал я. Не уверен, бросал ли я вызов ей или себе самому: “Вы сами напросились”. И я изложил четыре часа лекций за пять минут. Она только кивала после каждого предложения, не говоря ни слова и не делая заметок. Затем эта невероятно умная девушка села за консоль, выполнила задание и покинула аудиторию. По крайней мере, так запомнилось мне. Может быть, я немного преувеличиваю, но, судя по всей дальнейшей карьере Кейт, было именно так.
В мои преподавательские обязанности, помимо лекций и практических занятий на кафедре зоологии, входили консультации: я проводил их в Новом колледже (новым он был в 1379 году, а сегодня – один из старейших в Оксфорде), членом совета которого стал в 1970-м. Большинство преподавателей и профессоров в Оксфорде и Кембридже также являются членами совета одного из тридцати или сорока частично независимых колледжей (они же холлы), составляющих оба эти университета-федерации. Зарплату мне платил частично Оксфордский университет (где моими основными обязанностями было читать лекции и проводить исследования на кафедре зоологии), а частично Новый колледж, в котором я должен был вести не менее шести часов консультаций в неделю – зачастую для студентов других колледжей, по договоренности об обмене с их преподавателями; в биологических науках, в отличие от других областей, это было распространенной практикой. Когда я начал преподавать, консультации обычно проходили один на один, но постепенно вошли в обиход и консультации студентов по двое. Будучи студентом, я обожал эту систему и больше всего любил консультации один на один, где можно было читать свою работу преподавателю вслух, а тот либо делал заметки для последующего обсуждения, либо прерывал чтение своими комментариями. Сегодня на оксфордских консультациях чаще можно увидеть одновременно двоих, если не троих студентов, а работы обычно не читают вслух, а сдают заранее.
В мои ранние годы в Новом колледже все студенты были мужского пола. В 1974 году те из нас в совете колледжа, кто хотел открыть прием женщинам, совсем немного не дотянули до необходимого большинства в две трети. Некоторые наши оппоненты были откровенными женоненавистниками. Самые удручающие образцы такого сорта, к счастью, остались далеко в прошлом, так что мне нет нужды приводить их ужасающие аргументы. Кстати, на собрании колледжа я с удовольствием применил статистические методы, чтобы опровергнуть некоторые вопиющие заявления об академических способностях женщин.
На самом деле в 1974 году мы победили в первом голосовании – за изменение устава, по которому стало бы возможно принимать женщин. Но – в результате типичной парламентской уловки – ценой победы оказалась уступка: мы согласились провести отдельное голосование в следующем семестре по вопросу фактического приема студенток. Мы предполагали, что второе голосование тоже решится в нашу пользу, но вышло иначе. Может быть, оппоненты, выговорившие уступку, хитроумно предвидели, что обладатель решающего голоса будет в академическом отпуске в Америке. Как бы то ни было, в итоге Новый колледж неожиданно не попал в число первых пяти мужских колледжей, которые стали принимать женщин, хотя мы изменили свой устав одними из первых, чтобы это стало возможно (и самыми первыми, еще задолго до меня, кто вынес этот вопрос на официальное обсуждение). Окончательный шаг мы сделали, вместе с большинством остальных колледжей Оке-форда, только в 1979 году. А в 1974-м, хотя мы еще не могли принимать студенток, но изменение устава позволяло избирать женщин в совет колледжа. К сожалению, первая избранная, будучи заслуженным светилом в своей области науки, сама вдруг проявила женоненавистнические свойства: она не жаловала студенток и молодых женщин-коллег (как я выяснил от одной из них, с которой мы сдружились). Впрочем, на следующих выборах нам повезло больше, и теперь Новый колледж – процветающее разнополое сообщество со всеми его преимуществами.
Новобранцы
Ричард Докинз
Эта книга – вторая часть автобиографии биолога, мыслителя и популяризатора науки Ричарда Докинза. В ней рассказывается о профессиональном пути Докинза как уже состоявшегося ученого, описываются его встречи с крупнейшими исследователями и работа над прославившими его научными трудами, а также показана эволюция его взглядов на взаимодействие науки, культуры и религии. Заметная часть книги посвящена тому, как Докинз пришел к своим самым известным идеям, таким как понятия мема и расширенного фенотипа.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ричард Докинз
Огарок во тьме. Моя жизнь в науке
Посвящается Лалле
Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь – только тень, она – актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков.
Уильям Шекспир.
“Макбет”. Акт V, сцена 5.
Пер. Б. Пастернака
Наука – как свеча во тьме.
Карл Саган.
Подзаголовок книги “Мир, полный демонов”, 1995
Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.
Неизвестный автор
RICHARD DAWKINS
BRIEF CANDLE IN THE DARK
MY LIFE IN SCIENCE
Перевод с английского Анны Петровой
© Richard Dawkins, 2015
© Murdo Macleod/Polaris/East, фотография на обложке
© А. Петрова, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство ACT”, 2023
Издательство CORPUS ®
Память на пиру
Что я делаю здесь, в столовой нового колледжа[1 - Новый колледж – один из колледжей Оксфордского университета, в котором Докинз работал с 1970 года. – Здесь и далее, если не указано иное, прим, перев.], готовясь прочесть вслух собственное стихотворение сотне гостей на торжественном ужине? Как я попал сюда? По субъективным ощущениям мне двадцать пять лет, а объективно я, к своему удивлению, праздную семидесятый оборот вокруг Солнца. Я оглядываю длинный стол, озаренный свечами, уставленный серебром и хрустальными бокалами, улавливаю вспышки блистательного остроумия и искрящихся фраз, а заодно ловлю и обрывки воспоминаний, стремительно пролетающих перед умственным взором.
Возвращаюсь в детство, в колониальную Африку: кругом – большие ленивые бабочки, острый вкус листьев настурции, украденных из незабвенного сада в Лилонгве, вкус манго, чью неописуемую сладость перебивает пряный аромат скипидара и серы; школа-пансион в благоухающих хвоей горах Вумба в Зимбабве. Затем – “домой”, в Англию, под устремленные в небеса шпили Солсбери и Аундла: студенческие годы среди плоскодонок и башенок Оксфорда, грезы о прекрасных девушках, зарождение интереса к науке и глубоким философским вопросам, на которые только наука и может ответить; первые опыты научных исследований, преподавание в Оксфорде и Беркли; возвращение в Оксфорд молодым и ретивым лектором; снова исследования (в основном в сотрудничестве с моей первой женой Мэриан, которая сегодня здесь, за столом в Новом колледже), затем – моя первая книга, “Эгоистичный ген”. Воспоминания летят стремительно: вот мне уже тридцать пять, на полпути к сегодняшнему юбилею. Те годы описаны в моей первой автобиографической книге “Неутолимая любознательность”.
Вспоминая свой тридцать пятый день рождения, я припомнил статью юмориста Алана Корена, где он описывал собственное тридцатипятилетие. Корен изображал, будто его угнетала мысль, что он дожил до середины – и теперь дорога только под уклон. У меня тогда такого ощущения не было – может быть, потому, что я как раз вносил завершающие штрихи в свою первую, довольно юношескую, книгу и предвкушал ее выход и все, что за ним последует.
После выхода книги благодаря неожиданно высоким продажам я вдруг оказался в числе людей, которых журналисты (охочие до лишних сантиметров колонки) регулярно просят составить идеальный список гостей на ужин. Во времена, когда я еще отвечал на подобные запросы, я бы, безусловно, пригласил некоторых блестящих ученых, но также и писателей, и творческих людей всех мастей. Собственно, в любой из моих списков вошло бы не меньше пятнадцати гостей с моего сегодняшнего дня рождения: писатели, драматурги, телеведущие, музыканты, комики, историки, издатели, актеры и магнаты международного бизнеса.
Оглядывая знакомые лица за столом, я думаю, что тридцать пять лет назад вряд ли можно было представить день рождения ученого с таким количеством гостей из мира литературы и искусства. Сменился ли дух времени с тех пор, как Чарльз Сноу сокрушался о разрыве между научной и литературной культурами? [2 - Чарльз Перси Сноу (1905–1980) – английский писатель и ученый. В эссе “Две культуры и научная революция” (1959) описал разрыв между гуманитарной культурой и культурой научно-технического прогресса.] Что произошло за годы, к которым теперь обратилась моя мысль? Грезы переносят меня в самую середину тех времен, и передо мной встает огромная, незабываемая фигура Дугласа Адамса, к сожалению, отсутствующего на празднике. В 1996 году, когда мне было пятьдесят пять, а ему на десять лет меньше, мы беседовали на камеру для документального фильма Четвертого канала под названием “Преодолевая научный барьер”. Передача как раз стремилась показать, что наука должна внедриться в широкую культуру, и мое интервью с Дугласом было гвоздем программы. Вот отрывок из его рассуждений:
Думаю, роль художественной книги немного изменилась. В XIX веке люди искали глубоких размышлений и философских вопросов именно в книгах. Они обращались к Толстому и Достоевскому. В наши дни, конечно, об этих вопросах намного больше рассказывают ученые, чем можно добиться от романистов. Так что настоящую, сытную пищу для ума я беру в научных книгах, а романы читаю для развлечения.
Может быть, это часть тех самых перемен? Может быть, писатели, журналисты и прочие, кого Чарльз Сноу уверенно отнес бы к “первой культуре”, все больше включаются во вторую? Если бы Дуглас был жив, смог бы он – через двадцать пять лет после того, как изучал английскую филологию в Кембридже, – вернуться к романам и найти в них то, что привык искать в науке: скажем, у Иэна Макьюэна или Антонии Байетт? Или у других романистов, которые увлекались наукой – например, у Филипа Пулмана, Мартина Эмиса, Уильяма Бойда или Барбары Кингсолвер? А еще есть весьма успешные пьесы, черпавшие вдохновение в науке, – например, у Тома Стоппарда и Майкла Фрейна. Может ли быть, что звездное общество, которое собрала в мою честь моя жена Лалла Уорд (она актриса и художница и при этом хорошо разбирается в науке), – не только веха моей частной жизни, но и своего рода знак культурных перемен? Может ли быть так, что мы наблюдаем созидательное объединение научной и литературной культур – и возникновение “третьей культуры”: ради этого незримо трудился мой литературный агент Джон Брокман, он держит процветающий онлайн-салон и взрастил множество блистательных научно-популярных авторов. Или, может быть, это слияние культур, к которому я сам стремился в книге “Расплетая радугу”, где под влиянием Лаллы я старался дотянуться до литературного мира и навести мосты между ним и наукой. Но где же прошлогодний Сноу?
Об этом есть две истории (а если вы не любите отступления с историями – вероятно, вы читаете неподходящую книгу). Один из гостей на этом ужине в Новом колледже, путешественник и искатель приключений Редмонд О’Хэнлон, описавший свои странствия в неимоверно смешных книгах, например, “В сердце Борнео” (Into the Heart of Borneo) и “Снова в беде” (In Trouble Again), вместе с женой Белиндой устраивал литературные вечеринки и ужины, на которые, кажется, приглашали весь литературный Лондон. Писатели и критики, журналисты и редакторы, поэты и издатели, литературные агенты и литературные гиганты слетались к ним в отдаленный уголок графства Оксфордшир: дом был набит чучелами змей, засушенными головами, выдубленными временем мертвыми телами, книгами в переплетах из выдубленной кожи – экзотическими диковинками от антропологии и, возникает подозрение, антропофагии. Их вечера славились обществом, а когда приезжал Салман Рушди – еще и присутствием телохранителей, которые образовывали собственное общество наверху.
В день очередного такого сборища у нас с Лаллой гостил Нейтан Мирволд, технический директор Microsoft и один из самых изобретательных гиков Кремниевой долины. По образованию Нейтан – математический физик. После защиты диссертации в Принстоне он работал в Кембридже со Стивеном Хокингом: тогда Стивен еще мог говорить, но понимали его лишь несколько приближенных, которые выступали в роли переводчиков для остального мира. Нейтан был одним из таких высококвалифицированных научных секретарей. Теперь он по-настоящему раскрылся и стал одним из передовых мыслителей в сфере высоких технологий. Мы сказали пригласившим нас Редмонду и Белинде, что у нас дома гость, и они, проявив свое обычное радушие, велели нам взять его с собой.
Нейтан слишком вежлив, чтобы единолично завладеть разговором, но, видимо, его соседи за столом спросили, чем он занимается, и беседа перетекла в обсуждение теории струн и прочих загадок современной физики. Весь избранный литературный круг был околдован. Несомненно, они начали, как обычно, с обмена изящными шуточками с соседями. Но с того конца стола, где сидел Нейтан, неумолимо нахлынула волна интереса к науке, и вечер превратился в неофициальный семинар о странностях современной физики. Когда в семинаре участвуют умы такого калибра, как за тем ужином, начинается интересное. Мы с Лаллой грелись в лучах его славы: ведь именно мы привели этого неожиданного гостя на вечер, который стал воплощением “третьей культуры”. Потом Редмонд позвонил и сказал Лалле, что никогда еще, за все годы вечеринок, он не видел, чтобы именитые литературные гости пребывали в таком потрясенном молчании.
Вторая история практически зеркальна первой. Драматург и романист Майкл Фрейн с женой, знаменитой писательницей Клэр Томалин, гостили у нас с Лаллой, когда выдающуюся пьесу Майкла “Копенгаген” ставили в театре “Оксфорд плейхаус”. В пьесе идет речь об отношениях двух гигантов современной физики – Нильса Бора и Вернера Гейзенберга – и о загадке из истории науки: зачем Гейзенберг приехал к Бору в Копенгаген в 1941 году и какую роль Гейзенберг сыграл в войне (см. также стр. 328). После спектакля Майкла отвели в комнату наверху, где собрались оксфордские физики – они забросали его вопросами. Мне невероятно повезло слушать, как аристократ от литературы и философии принимал вопросы от виднейших оксфордских ученых, среди которых были даже члены Лондонского королевского общества. Еще один вечер в копилку поборников третьей культуры, вечер, который бы приятно удивил новых Чарльзов Сноу тридцать лет спустя.
Смею надеяться, что мои книги, начиная с “Эгоистичного гена” в 1976 году, внесли свой вклад в изменение культурного ландшафта – так же, как и работы Стивена Хокинга, Питера Эткинса, Карла Сагана, Эдварда О. Уилсона, Стива Джонса, Стивена Джея Гулда, Стивена Пинкера, Ричарда Форти, Лоуренса Краусса, Дэниела Канемана, Хелены Кронин, Дэниела Деннета, Брайана Грина, двух М. Ридли (Марка и Мэтта), двух Шонов Кэрроллов (физика и биолога), Виктора Стенджера и других и вся дискуссия журналистов и критиков, последовавшая за этими публикациями. И здесь я оставляю за скобками научных журналистов, которые популярно разъясняют науку широкой публике, – хотя они тоже молодцы. Я говорю о книгах профессиональных ученых, предназначенных для читателей-профессионалов в той же или смежных областях, но написанных таким языком, что широкая публика может заглянуть через плечо и присоединиться. Хотелось бы думать, что в запуске “третьей культуры” поучаствовал и я.
В отличие от “Неутолимой любознательности”, второй том моей автобиографии не выдержан в хронологическом порядке; более того, воспоминания на моем семидесятом дне рождения – даже не единственный взгляд в прошлое в этой книге. Скорее здесь собран ряд воспоминаний, разбитых по темам, прерываемых отступлениями и байками. Раз мы избавились от жесткой хронологии, то и порядок глав будет более-менее случайным. В первом томе я писал: “Прежде всего именно благодаря Оксфорду я и стал тем, кем стал”[3 - Цит. по: Ричард Докинз. Неутолимая любознательность. Пер. П. Петрова. М.: Corpus, 2018.], – так почему бы не начать с моего возвращения в эти стены, сложенные из известняка и источающие свет мудрости?
Доны и их закидоны
С 1970 года до 1990-го я преподавал поведение животных на кафедре зоологии в Оксфорде, с 1990 до 1995-го был старшим преподавателем. Чтение лекций было не слишком обременительным – по крайней мере, по американским меркам. Кроме лекций по поведению животных я также представил новый курс по эволюции (конечно, эволюция всегда была одной из основных тем программы, но новый курс позволял студентам извлечь еще больше пользы из накопленных в Оксфорде знаний по предмету). Я преподавал не только студентам, изучавшим зоологию или биологические науки, но и тем, кто выбрал направление “Науки о человеке” или психологию (эти специализации позволяли получить диплом по углубленной программе, и одна из экзаменационных тем была посвящена поведению животных).
Также я каждый год читал студентам-зоологам технический курс по компьютерному программированию. К слову сказать, там проявлялась поразительная дисперсия студенческих способностей – разрыв между сильнейшими и слабейшими был намного шире, чем мне доводилось замечать в других предметах. Слабейшим так и не удавалось разобраться, несмотря на все мои усилия и на то, что невычислительные темы курса не вызывали у них трудностей. А сильнейшие? Кейт Лесселс, например, явилась на практику с опозданием, пропустив все занятия первой половины семестра. Я запротестовал: “Вы ни разу в жизни не прикасались к компьютеру, да еще и пропустили целых четыре недели. Как вы собираетесь выполнить сегодняшнее практическое задание?”
“Что вы говорили на лекциях?” – невозмутимо отвечала эта девушка с уверенным взглядом и мальчишескими повадками.
Я был озадачен. “Вы и правда хотите, чтобы я за пять минут пересказал вам четыре недели лекций?”
Она кивнула, с той же невозмутимостью и будто бы с ироничной полуулыбкой.
“Ладно”, – сказал я. Не уверен, бросал ли я вызов ей или себе самому: “Вы сами напросились”. И я изложил четыре часа лекций за пять минут. Она только кивала после каждого предложения, не говоря ни слова и не делая заметок. Затем эта невероятно умная девушка села за консоль, выполнила задание и покинула аудиторию. По крайней мере, так запомнилось мне. Может быть, я немного преувеличиваю, но, судя по всей дальнейшей карьере Кейт, было именно так.
В мои преподавательские обязанности, помимо лекций и практических занятий на кафедре зоологии, входили консультации: я проводил их в Новом колледже (новым он был в 1379 году, а сегодня – один из старейших в Оксфорде), членом совета которого стал в 1970-м. Большинство преподавателей и профессоров в Оксфорде и Кембридже также являются членами совета одного из тридцати или сорока частично независимых колледжей (они же холлы), составляющих оба эти университета-федерации. Зарплату мне платил частично Оксфордский университет (где моими основными обязанностями было читать лекции и проводить исследования на кафедре зоологии), а частично Новый колледж, в котором я должен был вести не менее шести часов консультаций в неделю – зачастую для студентов других колледжей, по договоренности об обмене с их преподавателями; в биологических науках, в отличие от других областей, это было распространенной практикой. Когда я начал преподавать, консультации обычно проходили один на один, но постепенно вошли в обиход и консультации студентов по двое. Будучи студентом, я обожал эту систему и больше всего любил консультации один на один, где можно было читать свою работу преподавателю вслух, а тот либо делал заметки для последующего обсуждения, либо прерывал чтение своими комментариями. Сегодня на оксфордских консультациях чаще можно увидеть одновременно двоих, если не троих студентов, а работы обычно не читают вслух, а сдают заранее.
В мои ранние годы в Новом колледже все студенты были мужского пола. В 1974 году те из нас в совете колледжа, кто хотел открыть прием женщинам, совсем немного не дотянули до необходимого большинства в две трети. Некоторые наши оппоненты были откровенными женоненавистниками. Самые удручающие образцы такого сорта, к счастью, остались далеко в прошлом, так что мне нет нужды приводить их ужасающие аргументы. Кстати, на собрании колледжа я с удовольствием применил статистические методы, чтобы опровергнуть некоторые вопиющие заявления об академических способностях женщин.
На самом деле в 1974 году мы победили в первом голосовании – за изменение устава, по которому стало бы возможно принимать женщин. Но – в результате типичной парламентской уловки – ценой победы оказалась уступка: мы согласились провести отдельное голосование в следующем семестре по вопросу фактического приема студенток. Мы предполагали, что второе голосование тоже решится в нашу пользу, но вышло иначе. Может быть, оппоненты, выговорившие уступку, хитроумно предвидели, что обладатель решающего голоса будет в академическом отпуске в Америке. Как бы то ни было, в итоге Новый колледж неожиданно не попал в число первых пяти мужских колледжей, которые стали принимать женщин, хотя мы изменили свой устав одними из первых, чтобы это стало возможно (и самыми первыми, еще задолго до меня, кто вынес этот вопрос на официальное обсуждение). Окончательный шаг мы сделали, вместе с большинством остальных колледжей Оке-форда, только в 1979 году. А в 1974-м, хотя мы еще не могли принимать студенток, но изменение устава позволяло избирать женщин в совет колледжа. К сожалению, первая избранная, будучи заслуженным светилом в своей области науки, сама вдруг проявила женоненавистнические свойства: она не жаловала студенток и молодых женщин-коллег (как я выяснил от одной из них, с которой мы сдружились). Впрочем, на следующих выборах нам повезло больше, и теперь Новый колледж – процветающее разнополое сообщество со всеми его преимуществами.
Новобранцы