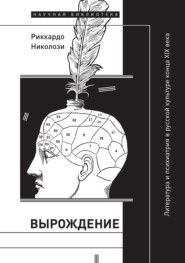По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургский панегирик ХVIII века
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Благодаря Симеону Полоцкому панегирик приобретает новый статус, сохраняемый им вплоть до середины XVIII в. На основе нормативной риторической традиции, заместившей собою древнерусскую традицию, опиравшуюся на тексты, а не на правила, он становится основным жанром русской литературной системы. Возникновение русской литературы нового (сначала барочного) типа состоялось преимущественно в жанровом пространстве панегирика (в панегирических стихах, похвальных речах и панегирических проповедях), вследствие чего завезенные из Польши риторические правила на латинском языке были «переведены» в церковно-славянско-русские нормы составления текстов[46 - О возникновении новой русской литературы, в частности панегирика, в контексте «импорта риторики» в XVII в. см. подробнее в главе III, 2.4.].
К началу XVIII в. панегирик становится важным инструментом популяризации и проведения Петровских реформ. В контексте общественных ритуалов, в которых визуальный аспект (иконография, жестика, одежда) играл первостепенную роль, панегирик выполнял скорее дополнительную функцию, но вместе с тем он стал важной вехой в развитии панегирического жанра в России. Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Гавриил Бужинский и др. наполнили панегирическую проповедь и прославляющую речь новым общественно-политическим содержанием и вывели эти жанры за пределы придворной культуры[47 - См.: [Державина 1979]. Панегирическая проповедь приобрела в Петровскую эпоху дополнительное значение, так как изменилось ее место в русском православном церковном обряде: ранее носившая факультативный характер, она становится неотъемлемым элементом литургии, а ее главной функцией становится прославление царя (см.: [Живов 2000: 541]). Такое развитие русской проповеди связано с проникновением сначала на Украину, затем в Россию польской латинской гомилетики, нашедшей свое выражение в проповедях Иоанникия Галятовского, Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и др. После первого расцвета проповеди в киевскую эпоху (Иларион) «много столетий подряд, очевидно, довольствовались зачитыванием старых проповедей» [Seemann 1992: 217].]. Прескриптивная функция панегирика, служившая утверждению и консолидации нового режима, смягчается в 30-е гг. XVIII в., когда панегирик участвовал в становлении новой придворной культуры западного образца. Торжественная ода, возникшая на основе немецкой и французской одописи[48 - Функцию придворных поэтов при Анне Иоанновне (1730–1740) выполняли сначала немецкие профессора Петербургской академии наук, оды которых переводились на русский язык Тредиаковским, Ададуровым и позднее Ломоносовым. Эта пока мало исследованная переводческая деятельность была важной основой и предпосылкой возникновения русской оды (см. об этом: [Пумпянский 1937 и 1983; Smith 1988]). Помимо того, особенно французская ода была нормативной моделью для развития русской одописи: Ломоносова, например, называли «русским Малербом».], стала основным субжанром русского панегирика. Одновременно она становится центральным объектом литературно-теоретических дискуссий о различных вопросах поэтического творчества: метрике, стиле, языке и т. д.[49 - О русской оде см. в том числе: [Тынянов 1977; Cooper 1972; Серман 1973, 26–57; Hart 1976; Klein, Zivov 1987; Geldern 1991]. До конца XVIII в., то есть до появления вольностей в поэзии Державина, русскую оду отличает просодическая структура, по своему формальному единообразию не уступающая устойчивости лексического и риторического элементов одического канона. С точки зрения просодики торжественная ода образуется десяти-стишными строфами, состоящими из четырехстопных ямбов с системой рифмовки AbAbCCdEEd (или aBaBccDeeD; реже AAbCCbDeDe). Крайне риторизованный язык подчинен предписаниям высокого стиля и использует много церковнославянизмов.]
Во второй половине XVIII в. панегирическая ода утрачивает свою исключительную роль в русской системе литературных жанров. В области высокого стиля она соперничает теперь с эпосом и философской одой. О начале конца панегирика свидетельствовало[50 - Вместе с тем перенасыщенная тропами Ломоносовская ода нашла свое продолжение именно в поэзии Державина, писавшего вплоть до начала XIX в. традиционные панегирические оды, оказавшие, в частности, влияние на младшее поколение так называемых архаистов.] развитие анакреонтического стиля М. М. Херасковым, продолжателем сумароковского направления в оде – классицистического, ориентированного в большей степени на денотативный, чем на метафорико-коннотативный уровень, и обновление языка оды Г. Р. Державиным, отступившим от строгого деления на стили. Не позднее чем к началу XIX в. в русской литературе наблюдается всеобщий переход от панегирического к элегическому жанру, и одновременно «центростремительная» придворная культура вытесняется возникшей под влиянием просветительства «центробежной» культурой, в которой поэт уже выступает не только в роли творца, но зачастую и разрушителя политической иконы. Панегирическая ода переживает последний, маньеристический, расцвет в поэзии С. С. Боброва и некоторых членов «Беседы любителей русского слова», в частности Д. И. Хвостова[51 - См. главу III, 4. О «Беседе» см. фундаментальную работу Марка Альтшуллера «Предтечи славянофильства в русской литературе» [Альтшуллер 1984].]. Младшее поколение архаистов, прежде всего Кюхельбекер, пытается вернуть прежнюю репутацию оде в теоретических размышлениях о развитии русской лирики в 1820-е гг. Посредством оды, в которой Кюхельбекер усматривал более философскую, нежели панегирическую, природу, должен был быть преодолен избыток «элегического тумана». Спорные теоретические позиции Кюхельбекера не оказали, однако, непосредственного влияния на литературу: как жанр ода – созвучно общеевропейскому развитию – уходит и из русской литературной системы[52 - Лишь благодаря Маяковскому ода вновь приобретает значение в начале XX в. в контексте революционного панегирика (см. его «Оду революции», см. также об этом: [Lachmann 1980]).].
3. Петербургский панегирик
Петербургский панегирик зародился спустя всего несколько лет после закладки Петропавловской крепости. В 1708 г., когда Петербург еще не был царской резиденцией и его существование постоянно находилось под угрозой из-за войны со шведами[53 - Лишь после Полтавской битвы (1709 г.), изменившей военную ситуацию в пользу России, обстановка в Петербурге постепенно разрядилась. Переезд двора состоялся в 1712 г. В том же году Петр I закрепил роль Петербурга как царской резиденции, справив в новооснованном городе свадьбу со своей второй женой Екатериной Алексеевной.], Стефан Яворский выступил в тогда еще деревянной Троицкой церкви с циклом проповедей «Три сени», в которых Петербург прославляется как воплощенная «сень Христова», а Петр I – как новый апостол Петр[54 - О многослойном значении этой аллегории см. главу II, 1.3.]. Первое литературное приближение к Петербургу состоялось в прославляющей литературе Петровской эпохи, а не в одах Ломоносова и Сумарокова[55 - До сих пор первые литературные описания города связывались с поэзией Сумарокова; см., например, [Анциферов 1991: 49]: «Из русских художников слова едва ли не первый Сумароков придал ему [то есть образу города – Р. Н.] определенные черты».]. В похвальных речах и отчасти трансформированных в похвальные речи проповедях Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и Гавриила Бужинского складывается культурная семантика новооснованного города[56 - Одним из центральных текстов петербургского панегирика первых лет является «Слово в похвалу Санктпетербурга» Гавриила Бужинского (1717).]. Решающую роль в данном случае играло заимствование чужой традиции панегирического изображения города (laus urbium): наделявшийся топическими предикатами из этой традиции, Петербург вводился в легитимировавший его семантический контекст. Утвердившаяся со времен античности топика laus urbium, разработанная в приложении к Афинам, Риму, Константинополю и позже Флоренции, стала при этом источником ценностных критериев, соответствие которым ставило Петербург в один ряд со старыми и новыми историческими центрами. В этом контексте авторитет риторики был решающим, поскольку применение к Петербургу новых для русской культуры риторических критериев прославления уже само по себе являлось подтверждением того, что этот город достоин похвалы.
Параллельно с этим в петербургском панегирике Петровской эпохи складывается миф о демиургическом основании города, имеющий центральное значение для всей петербургской литературы. Участвуя в (пере)создании русской культурной идентичности, этот миф на символическом уровне представляет «новое рождение» России в результате реформаторской деятельности Петра, основавшего на берегах Невы образец микрокосмоса. Создавая образы своего и чужого, петербургский панегирик Петровской эпохи отчетливо отмежевывается как от «старой» русской культуры, так и от Запада: в проведении этой двойной границы Петербург, как децентрированный центр, играет решающую роль, конкретно и осязаемо воплощая собою нечто радикально «новое».
В эпоху русского классицизма место похвальной речи заняла торжественная ода, ставшая основным жанром петербургского панегирика. В текстах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др., вплоть до Г. Р. Державина[57 - Важнейшими текстами этой фазы петербургского панегирика являются: стихотворение Тредиаковского «Похвала ижерской земле» (1752); «Ода на победу Государя Императора Петра Великого» (1752) и «Слово V» (1752) Сумарокова; «Слово на освящение академии художеств» (1764) и другие оды Ломоносова; «Видение Мурзы» (1783) Державина.], происходит сдвиг в изображении Петербурга: основное внимание уделяется теперь не легитимации его как царской резиденции и второй столицы, а в первую очередь его репрезентации как панегирической арены важных событий в придворной и политической жизни России. Наряду с петербургским панегириком появляется теперь и панегирическое изображение Москвы, «энтропизированной» в раннем панегирике, а теперь ресемиотизированной. В этом контексте мифопоэтический субстрат петербургского панегирика обретает новое измерение: параллельно с концептуализацией основания города как петровской космогонии с ее пресуществлением хаоса в космос появляется намек на возможность или опасность обратимости этого процесса.
К концу XVIII в. петербургский панегирик становится по преимуществу автореферентной системой: топика, разработанная в ходе столетия, предельно амплифицируется авторами последних панегириков – на место освоения чужих городских топик приходит aemulatio собственно петербургской топики, осложнение (Uberbietung) избитых мотивов и речевых шаблонов. Авторы этих панегириков ориентируются на своего хрестоматийного автора, а именно – Ломоносова, петербургская поэзия которого заменила классические образцы городских панегириков (Аристида, Клавдиана).
Петербургский панегирик завершается поэзией С. С. Боброва, которая, как и поэзия Д. И. Хвостова, подводит итог целой традиции и маньеристически ее осложняет[58 - Рассматриваться будет в основном «Торжественный день столетия» Боброва (1803); немаловажную роль в этом контексте играют, кроме того, его оды «Установление нового адмиралтейства» (1797) и «Высочайшая воля» (1802), а также «Нева» (1807) и «Послание к NN о наводнении Петрополя» (1824) Хвостова.]. Его поэзия была своего рода «имплозией» петербургского панегирика, который уже не мог далее разрабатываться, а мог лишь быть «перериторизован» на формальном уровне: в силу своего в основном утвердительного характера панегирик был не способен участвовать в начавшейся в начале XIX века критической переоценке Петербурга. На фоне ухода панегирика петербургская поэзия Боброва кажется пародийной кульминацией традиции, которой уже в 20-е гг. суждено было уступить место постпанегирической петербургской литературе.
Постпанегирическая петербургская литература, образуемая такими текстами, как «Прогулка в академию художеств» К. Н. Батюшкова (1814), «Петербург» П. А. Вяземского (1818), «Петроград» С. П. Шевырева (1829) и, прежде всего, «Медный всадник» А. С. Пушкина, выводит петербургский текст за рамки панегирического жанра: приевшиеся элементы панегирика теперь деконтекстуализируются и «пересаживаются» в новый философский, историософский и литературный контекст. В силу этой деконтекстуализации и – интертекстуально понимаемой – трансформации[59 - «Трансформация» (Umschreibung) здесь в смысле модели интертекстуальности Лахманн [Lachmann 1990: 38–41].] петербургский панегирик продолжает жить в петербургской поэзии XIX в., прекратив, однако, существовать как традиция городского текста.
I
Хаос versus космос: мифопоэтика петербургского панегирика
Для смягченной мифологии Петербург слишком молод…
И. Бродский, Путеводитель по переименованному городу[60 - [Бродский 1999а].]
Петербургской литературе, согласно В. Н. Топорову [Топоров 1995], присущ связный мифопоэтический субстрат. Ее основоположная, непреодолимая дихотомия, ее колебание между апокалипсисом, бездной, гибелью, с одной стороны, и сотериологией, жизнью, формированием культурной идентичности – с другой, проявляется в петербургском тексте в том числе через параллельное существование двух мифов: мифа возникновения и мифа гибели (см. Введение, 1.2). В этом контексте петербургский панегирик осмысляется Топоровым [Топоров 1995: 335], созвучно общепринятому мнению[61 - См., например: [Долгополов 1977: 158–161; Анциферов 1991; Lo Gatto 1991].], исключительно как носитель мифа о возникновении, как единодушное восхваление петровского «парадиза», окончательно вытеснившего природный хаос. Такая точка зрения не учитывает, однако, поливалентности петербургского мифа в панегирике. С одной стороны, панегирик прославляет космогонический акт Петра I, мифологическое возникновение Петербурга из первоначального хаоса. С другой стороны – петербургский панегирик регулярно указывает на опасность возвращения первоначального хаоса, грозящего разрушить культурный космос новооснованного города и, соответственный – петровской России. Эта угроза, как в дальнейшем будет показано, является частью более обширной проблемы сохранения, или восстановления, «петровской» сущности России – восстановления, в котором Петербург воплощает собою pars pro toto «новую» (петровскую) Россию.
В дальнейшем будет рассмотрен панегирический миф возникновения и указано на его параллели с космогоническими мифами. Панегирик концептуализирует основание города как ликвидацию предгородского хаоса, большей частью прибегая к топической формуле «где прежде… там ныне…». Созданный таким образом петербургский космос описывается в панегирике в основном с помощью мифологических пространственно-временных структур, что обусловливает его непрочность. Эти структуры для поддержания «стабильности» требуют регулярного повторения космогонического акта, одновременно означающего регулярное восстановление «петровской» сущности России.
В этом смысле в петербургском панегирике параллельно, хотя и в разной мере, присутствуют два мифа: миф о возникновении и миф о гибели. Несмотря на то что фольклорные легенды о гибели города интегрируются в петербургскую литературу лишь в эпоху романтизма[62 - О топической формуле «Петербургу быть пусту» см. главу I, 1.3.], намеки на непрочность петербургского космоса различимы уже в панегирике. Космогонический акт основания города кроет в себе возможность разрушения культурного космоса наводнением; существование такой опасности требует, в свою очередь, подтверждения посткосмогонического состояния в панегирике. Между космогонической победой над природным хаосом и скрытой угрозой возврата усмиренной стихии складывается мифопоэтический субстрат петербургского панегирика как часть контекста, в котором сформировалась каноническая петербургская литература XIX и XX вв.[63 - Далее за основу берется концепция мифа как особой – донаучной, или доисторической, аперспективной и направленно асемиотической – формы сознания (см., например [Cassirer 1986] или [Мелетинский 1976]). О мифе и мифопоэтике в славянских литературах см. также: [Schmid 1987].]
1. Петербургская космогония
Из тьмы лесов, из топи блат…
А Пушкин, Медный всадник
Мифологизированное восприятие основания города как космогонического акта является ключевым аспектом петербургского мифа. Оно складывается в основном под влиянием панегирика XVIII в. в тесном взаимодействии с идеологией Петровской и послепетровской эпох и передается далее романтизму. В промежутке между прославляющей литературой Петровского времени и позднепанегирической поэзией Семена Боброва кристаллизуется литературный миф о демиургическом основании города, о его возникновении из хаоса. Излюбленный прием изображения этого мифа, как уже говорилось, – противопоставление предгородского и городского хронотопов в риторико-синтаксической формуле «где прежде… там ныне…»[64 - См. первый анализ этой формулы у Пумпянского [Пумпянский 1939].].
Отчетливая дихотомия между «прежде» и «ныне», состоянием до и после основания города, хаосом и космосом, болотом и имперским городом опирается на базисную структуру панегирика в целом, то есть на противопоставление достойного похвалы настоящего достойному порицания прошлому, которое может быть сведено к синтаксической оппозиции prius versus nunc. В качестве prius и nunc в петербургском панегирике выступают непримиримые начала «природа» и «культура». Эта оппозиция доводится до крайнего предела противопоставлением природного ландшафта, в котором, как правило, нет ни признаков человеческой жизни, ни условий для нее, городу как месту средоточия человеческой культуры. Состояние природы, предшествующее основанию города, доводится в этой оппозиции до мифологического состояния предкосмогонии, то есть хаотического ландшафта, хотя и вытесненного космогоническим актом основания города, но не уничтоженного окончательно.
1.1. Хаос в космогонических мифах
В панегирическом изображении предгородского хронотопа Петербурга проявляются некоторые постоянные признаки, восходящие, несомненно, к различным космологическим традициям античности и ветхозаветному генезису, а точнее говоря, к изображению домирового состояния, называемого со времен Гесиода хаосом (?????).
Сотворение мира привычно понимается как придание формы или приведение в порядок (??????? – порядок) первоначального состояния, представляемого в виде беспорядочного и неопределенного праэлемента (хаоса)[65 - У Гесиода («Теогония», 116) хаос означает «зияющее», то есть представляет собой не что иное, как «бесконечное пустое пространство», «бездну». Лишь в традиции стоиков он начинает осмысляться как «примитивная, однородная материя». См.: [Bauks 1997: 2; Bohme, Bohme 1996: 33f].]. Существуют многочисленные описания этой бесформенной материи, общим моментом которых является «ненаступление» посткосмогонического состояния. Так, например, хаотические ландшафты в Ветхом завете (Быт. 1), у Платона («Тимей», 29д—30а) и Овидия («Метаморфозы» 1) являются негативным отражением существующего устройства мира, состоянием, в котором еще отсутствуют формы, свет и порядок. Хаос отнюдь не тождествен нулю, он – «prima potentia (последующего) творения» [Bohme, Bohme 1996: 35], первичная субстанция, содержащая все природные элементы, правда, пока лишенные формы.
В типологической перспективе хаос осмысляется в мифе как мрак или ночь, пустота или бездна, вода или Праокеан[66 - См.: [Мелетинский 1976: 206].]. Поэтому космогенез предполагает деление хаоса на мрак и свет, пустоту и полноту, воду и сушу. С генетической точки зрения два источника имеют особое значение для поэтического утверждения доурбанического хронотопа Петербурга: это Книга Бытия и «Метаморфозы»[67 - О рецепции «Метаморфоз» в России в Петровскую эпоху и позднее см.: [Okenfuss 1995]. Первый перевод на русский язык (правда, с польского) также восходит к Петровской эпохе (см.: [Николаев 1996: 32]).] Овидия[68 - Разумеется, не только в русской литературной культуре; «Метаморфозы» и Библия являются основными источниками западной иконологии и литературной мотивики в целом.].
В Книге Бытия первозданный мир тоже описывается в виде бесформенной субстанции. Древнееврейское «тоху ва-богу» (Быт. 1: 2) переводится как «пустынность», «пустота» – понятие, не обозначающее ничего вещественного, хотя оно и было переведено на греческий (в Септуагинте) как ???????????????? («неупорядоченный», «неоформленный»), что вызывает образ некой неструктурированной материи[69 - Ближе всего к оригиналу перевод «Вульгаты», где «Тоху ва-богу» переводится как inanis et vacua terra. Согласно М. Баукс [Bauks 1997: 15–25], в Септуагинте преобладает влияние платонизма, то есть учения о сотворении мира демиургом из первоначальной субстанции.]. Данное понимание нашло отражение в церковнославянской версии, где земля описывается как «неукрашена»[70 - См. Острожскую Библию (1581).] или «неустроена»[71 - Все библейские цитаты на церковнославянском языке приводятся, за исключением особо оговоренных случаев, по изд.: Библия сиреч Книги Священнаго Писания Ветхаго и Новаго Завета. М. 1904.]. Первоначальный мир состоит из двух элементов: «мрака» ?? ??? ?? ?? ????????? (Земля бе невидима) <…> ??? ?????? ?????? ??? ????????? – ??? ?????? ?????? ??? ????????? (и тма верху бездны); и «воды» —??? ?????? ???? ???????????? ????? ??? ?????? (и дух божий ношашеся верху воды). Эти элементы продолжают существовать в сотворенном мире. Благодаря, с одной стороны, сотворению света, а с другой – разделению и вычленению жизненных сфер неба, суши и воды, мир обретает временную и пространственную структуры (opus distinctionis). Бог победил силы хаоса и теперь царствует над ними, но они остаются как скрытая угроза – в противном случае Всемирный потоп был бы невозможен.
В «Метаморфозах» Овидия трактовка хаоса античной философией (Анаксагором, стоиками) получает свое известнейшее поэтическое выражение. Первоначальная материя, которая уже у Платона («Тимей», 30а) пребывала в «нестройном и беспорядочном движении», описывается так: «Нечлененной и грубой громадой, / Бременем косным он был, – и только, – где собраны были / Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе» (I, 7–9). Первозданный мир был лишен света («Миру Титан никакой тогда не давал еще света»), и его основные элементы не имели ни устойчивой формы, ни отчетливых очертаний, ни определенной функции: «Там, где суша была, пребывали и море и воздух. / И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать. / Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило» (I, 15–17)[72 - Цит. в пер. С. Шервинского.].
1.2. Петербургский «Генезис»
Как природный ландшафт, доурбанический петербургский хронотоп очень близок миру первоначального хаоса. Не в последнюю очередь потому, что особый акцент тут ставится на отсутствии человеческой жизни и условий для нее. Сотворение человека следует, как правило, за сотворением мира, то есть первозданный мир не представляет собой упорядоченного жизненного пространства. Согласно Феофану Прокоповичу [Феофан Прокопович 1716: 45], трудно было себе представить любое проявление человеческой жизни в том месте, где впоследствии суждено было возникнуть Петербургу:
Идеже ни помысл кому был жительства человеческого, достойное вскоре устроися место престолу царскому.
В диахронической проекции отсутствие человека в парадигме хаоса русского панегирика почти абсолютно вплоть до конца XVIII в. С. Бобров впервые вводит в эту парадигму образ финского рыбака, не меняющую, однако, структуры оппозиции хаос – природа versus космос – город. Поскольку, как отмечает О. Буле [Boele 1996: 233; 235], финский рыбак воплощает персонификацию борьбы с природой, а не победу над природой, он и сам частица мира хаоса и не имеет почти никаких человеческих черт[73 - Это относится и к постпанегирической петербургской поэзии Батюшкова и Пушкина.].
Конкретные элементы пейзажа (лес и болото) наделяются хаотической коннотацией[74 - Об историческом, не мифологизированном состоянии места, предназначенного под строительство Петербурга, см.: [Столпянский 1995: 9-24].]. Лес оборачивается непроходимой, суровой «дебрью»:
Приятный брег! Любезная страна! <…>
О! прежде дебрь, се коль населена!
[Тредиаковский 1752: 287]
Не видно полуночных блат,
Лесов не видно непроходных, <…>
При Бельте преогромный град.
[Сумароков 1767: 164]
Где знали прежде дебрь, вседневны дивы зрят.
[Державин 1790]
Доселе, дебри где дремали,
Там убран сад, цветет лицей.
[Бобров 1803: 112]
Вода царит безгранично. Она, как правило, мутная, грязная. Земля и вода еще не отделены друг от друга и образуют зыбкую, непрочную поверхность, бесформенное, раздробленное единство, которому противопоставлена незыблемость нового города. Это находит выражение в повторениях не только существительного «болото» (или «блато»), но и «мох», «ил», «житка грязь»:
Где болота, лесы где, там мы зрим палаты,
Житка преж где грязь была, там те тверды златы,
Зрятся и крепости там <…>.
[Stahlin 1736: 4][75 - Эти стихи являются русским переводом оды, написанной на немецком языке придворным поэтом И. Штелином от имени Петербургской академии наук в 1736 г., в день коронации Анны Иоанновны. Текст Штелина выглядит так: «Au? Wald und aufi Morast erbautest Du Pallaste: / Wo Pfahl und Hutte stund, da stehen schon und feste / Nunmehro Schlosser da» [Stahlin 1736: 11]. Примечательно, что русский перевод Тредиаковского, в целом следующий букве оригинала, в этом месте несколько расходится с немецким текстом: слова «Pfahl» (свая) и «Hutte» (изба) не переведены буквально, а заменены словосочетанием «житка грязь». То есть, в немецкой версии культурному пространству «Петербург» противопоставлена природа, господствующая над человеком, жизнь которого почти сливается с окружающей его примитивной обстановкой («свая» и «изба» – простые деревянные сооружения, образующие довольно проницаемую границу с природой). У Тредиаковского же противопоставление полюсов оппозиции «природа – культура» обостряется. Человек принадлежит исключительно полюсу «культура», от которого природа удаляется, образуя замкнутое пространство («болота», «лесы», «житка грязь»), болотистое состояние которого особенно подчеркивается. Тредиаковский продолжает конструировать космогонический миф Петербурга, исключая из его доурбанического хронотопа всякое присутствие человеческой жизни.]
В сем месте было прежде блато
Теперь сияет тамо злато
На башнях щастия творца.
[Сумароков 1765: 91]
Где ил тонул под серым мхом <…>.
[Бобров 1803: 112]
Где ил взрастал, там луг зеленый.