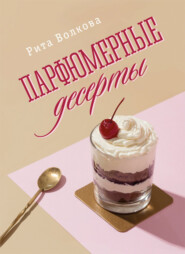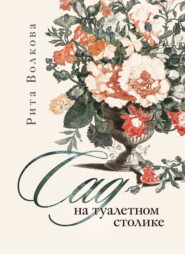По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мальчик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все же я возвращался к ней,
сам не понимая зачем!
Зачем?
Ну зачем же?
Я же ее уже не люблю!
А любил ли?
Может, просто привык,
просто свыкся с тем, что она есть?
И таврическая полынь
больше не волнует мою кровь,
я отправляюсь спать на диван.
* * *
Ты готовишь мне
утренний чай с молоком.
Нежные цветки жасмина
и молодые листочки зеленого чая,
которые только проснулись
из серебристой пушистой почки.
Ты бросаешь эти составляющие
в кипящую нежно-сливочную жидкость,
потом снимаешь горячую турку с огня
и разливаешь
по холодным фарфоровым чашкам.
Ты называешь этот рецепт
жасминового чая «египетским».
Пар струится
по озябшему утреннему воздуху.
Так тихо,
что кажется: я слышу,
как стучит твое трепетное сердце.
О Боже, ты прокалываешь палец
тонкой иглой
и кровь капает,
капает в мою чашку!
Ох! – взыхаю я
как-то слишком громко
для этой рассветной тиши.
Ты пугаешься
и, конечно, не ожидаешь,
что я стою
практически у тебя за спиной,
и роняешь чашку.
Она со звоном
падает на кафельный пол
и разбивается вдребезги.
Я не требую от тебя
никаких объяснений,
ведь меня же предупреждали,
что ты ведьма,
что хожу я,
словно сам не свой,
как привороженный!
Мне вспомнился рассказ
старой доброй нянюшки:
Бывало, девицы
привораживали
своих возлюбленных,
добавляя им в питье свое мумие.
А мумие это то,
что сохраняет тело.
* * *
Утро туманное, утро осеннее,
город чужой,
приправленный ядом
этой любви.
Квартира.
Темное,
полуподвальное помещение,
пропитанное запахом
гниющих листьев,
где я, просыпаясь,
корчился в ломках по свободе!
Ночью ты душила меня
в своих объятиях,
да так, что на шее оставались
отметины цвета переспелой рябины.
Я молча обматываю шею шарфом,
пью вываренный чай с пряностями,
и ухожу.
и выхода больше нет,
дороги давно закрыты,
и самых не горьких слез
сам не понимая зачем!
Зачем?
Ну зачем же?
Я же ее уже не люблю!
А любил ли?
Может, просто привык,
просто свыкся с тем, что она есть?
И таврическая полынь
больше не волнует мою кровь,
я отправляюсь спать на диван.
* * *
Ты готовишь мне
утренний чай с молоком.
Нежные цветки жасмина
и молодые листочки зеленого чая,
которые только проснулись
из серебристой пушистой почки.
Ты бросаешь эти составляющие
в кипящую нежно-сливочную жидкость,
потом снимаешь горячую турку с огня
и разливаешь
по холодным фарфоровым чашкам.
Ты называешь этот рецепт
жасминового чая «египетским».
Пар струится
по озябшему утреннему воздуху.
Так тихо,
что кажется: я слышу,
как стучит твое трепетное сердце.
О Боже, ты прокалываешь палец
тонкой иглой
и кровь капает,
капает в мою чашку!
Ох! – взыхаю я
как-то слишком громко
для этой рассветной тиши.
Ты пугаешься
и, конечно, не ожидаешь,
что я стою
практически у тебя за спиной,
и роняешь чашку.
Она со звоном
падает на кафельный пол
и разбивается вдребезги.
Я не требую от тебя
никаких объяснений,
ведь меня же предупреждали,
что ты ведьма,
что хожу я,
словно сам не свой,
как привороженный!
Мне вспомнился рассказ
старой доброй нянюшки:
Бывало, девицы
привораживали
своих возлюбленных,
добавляя им в питье свое мумие.
А мумие это то,
что сохраняет тело.
* * *
Утро туманное, утро осеннее,
город чужой,
приправленный ядом
этой любви.
Квартира.
Темное,
полуподвальное помещение,
пропитанное запахом
гниющих листьев,
где я, просыпаясь,
корчился в ломках по свободе!
Ночью ты душила меня
в своих объятиях,
да так, что на шее оставались
отметины цвета переспелой рябины.
Я молча обматываю шею шарфом,
пью вываренный чай с пряностями,
и ухожу.
и выхода больше нет,
дороги давно закрыты,
и самых не горьких слез