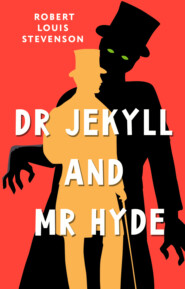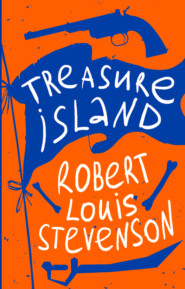По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Катриона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я никогда не слыхал подобных речей от дам, так как единственные две леди, которых я знал, мать моя и миссис Кемпбелл, были очень набожны и благовоспитанны. Вероятно, удивление ясно выразилось на моем лице. Миссис Ожильви вдруг расхохоталась.
– Боже мой, – закричала она, задыхаясь от смеха, – вы, с таким ангельским лицом, хотите жениться на дочери гайлэндского разбойника! Дэви, милый мой, это надо сделать хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас будут детишки. А теперь, – продолжала она, – вам нечего болтаться здесь: барышни нет дома, а я, старуха, боюсь, буду для вас плохой компанией. Да, кроме того, у меня нет никого, кто бы позаботился о моей репутации: я и так слишком долго оставалась наедине с таким обворожительным юношей. Приходите в другой раз за своим сикспенсом! – крикнула она мне вслед, когда я уже ушел.
Стычка с этой шальной леди придала мне смелости, которой мне до тех пор не хватало. Вот уже два дня, как образ Катрионы не выходил у меня из головы: она была как бы фоном для всех моих размышлений, и меня уже не удовлетворяло бы собственное общество, если бы где-нибудь в уголке сознания я не чувствовал ее. Теперь она стала мне сразу близкой. Мне казалось, что я мысленно дотрагиваюсь до той, к которой на деле прикасался всего раз в жизни. Я всем своим существом потянулся к ней: весь мир без нее казался мне безотрадной пустыней, по которой, как солдаты в походе, проходят люди, исполняя свой долг. Одна лишь Катриона на всем свете могла подарить мне счастье. Впоследствии я сам удивлялся, что мог предаваться подобным мыслям в то опасное для меня время, и, вспоминая свою молодость, стыдился самого себя. Мне еще надо было закончить свое образование, надо было заняться каким-нибудь полезным делом – отслужить там, где все обязаны служить. Мне еще надо было доказать, что я мужчина.
Погрузившись в свои размышления, я прошел уже полдороги по направлению к городу, когда заметил шедшую мне навстречу фигуру, и волнение мое еще больше усилилось. Мне казалось, что я должен Катрионе сказать чрезвычайно много, но не знал, с чего начать. Вспомнив, как я был неразговорчив в это утро в доме адвоката, я был уверен, что теперь совсем онемею. Но когда она приблизилась ко мне, все мои опасения рассеялись. Даже то, о чем я только что думал, нисколько не смущало меня. Я нашел, что могу говорить с ней так же свободно и разумно, как с Аланом.
– О, – воскликнула она, – вы приходили за своим сикспенсом! Что же, получили вы его?
Я сказал ей, что не получил, но так как я встретил ее, то прогулялся не зря.
– Правда, сегодня я уже видел вас, – продолжал я и объяснил, где и когда.
– А я не видела вас, – сказала она, – у меня глаза хотя и большие, но не видят далеко. Я только слышала пение в доме.
– Это пела старшая и самая красивая мисс Грант, – отвечал я.
– Говорят, что они все красивы, – заметила она.
– Они тоже находят вас красавицей, мисс Друммонд, – отвечал я, – и стояли у окна, чтобы увидеть вас.
– Жаль, что я так близорука, – сказала она, – а то бы я их тоже увидела. Так вы были в доме? Вы, должно быть, приятно провели время с красивыми леди, слушая хорошую музыку?
– Вы ошибаетесь, – отвечал я, – я чувствовал себя так же неловко, как рыба на склоне горы. Дело в том, что я скорее создан для общества грубых мужчин, чем красивых леди.
– Да, я это тоже нахожу, – сказала она, и оба мы рассмеялись.
– Странное дело, – заметил я, – я нисколько не боюсь вас, а готов был убежать от мисс Грант. Я также испугался вашей родственницы.
– О, я думаю, ее всякий испугался бы! – воскликнула она. – Мой отец сам боится ее.
Упоминание об ее отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с нею, я смотрел на нее и вспоминал этого человека, которого я знал так мало, но который возбуждал во мне такие ужасные подозрения. И, сравнивая его с нею, я чувствовал себя предателем, потому что молчу.
– Кстати, – сказал я, – сегодня утром я встретил вашего отца.
– Неужели? – воскликнула она радостным голосом. – Вы видели Джемса Мора? Вы, значит, говорили с ним?
– Да, я говорил с ним, – сказал я.
Тут дело приняло самый дурной для меня оборот: она взглянула на меня с глубокой благодарностью.
– Благодарю вас, – сказала она.
– Меня не за что благодарить, – начал я и остановился. Мне показалось, что если я должен скрывать от нее все, то хоть несколько слов я все же ей мог сказать. – Я довольно грубо говорил с ним, – продолжал я. – Он мне не особенно понравился. Я говорил с ним дерзко, и он рассердился.
– В таком случае вам нечего разговаривать с его дочерью и еще рассказывать ей об этом! – воскликнула она. – Я не хочу знать тех, кто не любит и не уважает моего отца.
– Позвольте мне сказать еще слово, – сказал я, начиная дрожать. – Мы оба, может быть, бываем у Престонгрэнджа в дурном настроении. Ведь у обоих у нас там неприятные дела, и это опасный дом. Мне было жаль его, и я первый заговорил, но не особенно рассудительно, должен сознаться. Вы, вероятно, скоро увидите, что дела его в одном отношении исправляются.
– Вероятно, не с помощью вашей дружбы, – сказала она, – и ему остается только благодарить вас за сочувствие.
– Мисс Друммонд, – воскликнул я, – я один на свете!
– Это меня нисколько не удивляет, – сказала она.
– О, дайте мне высказаться! – просил я. – Я только раз выскажусь, а потом оставлю вас навсегда, если вы того желаете. Я пришел сегодня в надежде услышать ласковое слово, в котором сильно нуждаюсь. Я знаю, что мои слова должны были оскорбить вас, и знал это, когда произносил их. Мне было бы легко выразиться мягче и солгать вам. Неужели вы думаете, что это не соблазняло меня? Разве вы не видите, что я говорю правду?
– Мне кажется, не стоит труда обсуждать это, мистер Бальфур, – сказала она. – Я думаю, что довольно с нас одной встречи и теперь мы можем мирно расстаться.
– О, пусть хоть один человек поверит мне, – умолял я, – иначе я не вынесу! Весь свет ополчился против меня! Как мне сделать свое дело, если судьба моя так ужасна?! Я не могу завершить его, если никто не поверит в меня. Одному человеку придется умереть, потому что я не в силах выполнить свой долг.
Она все время смотрела вдаль, высоко подняв голову, но мои слова и тон, каким они были произнесены, заставили ее прислушаться.
– Что вы сказали? – спросила она. – О чем вы говорите?
– Мои показания могут спасти невинного человека, – сказал я, – а меня не допускают в свидетели. Что бы вы сделали на моем месте? Вы знаете, что это значит, – ведь ваш отец тоже в опасности. Покинули бы вы несчастного? Меня хотели подкупить: обещали мне золотые горы, чтобы заставить меня от него отказаться, были пущены в ход все средства. А сегодня один негодяй объявил мне, что меня хотят лишить моего честного имени! Меня хотят впутать в дело об убийстве: они хотят доказать, что я ради платья и денег задержал Гленура своими разговорами; меня хотят опозорить и убить. Если со мной поступят таким образом, со мной, едва достигшим совершеннолетия, если такую историю будут рассказывать обо мне по всей Шотландии, если вы тоже поверите ей и мое имя станет позорным, то как мне перенести это, Катриона? Это невозможно! Это больше, чем может вынести душа человеческая!
Я говорил беспорядочно, отрывистыми фразами. Когда же я умолк, то увидел, что она глядит на меня испуганными глазами.
– Гленур! Это аппинское убийство, – сказала она тихо, но с большим удивлением.
Провожая ее, я повернул обратно, и теперь мы приближались к вершине холма над деревней Дин. При ее словах я как вкопанный остановился против нее.
– Боже мой, – воскликнул я, – боже мой, что я наделал! – и схватился рукою за виски. – Как мог я сделать это? Я, должно быть, обезумел, если говорю подобные вещи!
– Ради бога, что с вами случилось? – воскликнула она.
– Я дал слово, – простонал я, – я дал слово и вот… не сдержал его. О Катриона!
– Скажите мне, в чем дело? – спросила она. – Вы это не должны были говорить? Вы думаете, может быть, что у меня нет чести, что я выдам друга? Смотрите, я поднимаю правую руку и клянусь вам, что буду молчать!
– О, я знаю, что вы сдержите клятву, – возразил я, – но я! Еще сегодня утром я стоял перед ними и смело переносил их взгляды. Я предпочитал умереть позорной смертью на виселице, чем поступить нечестно, а через несколько часов в обыкновенном разговоре на большой дороге нарушаю свое обещание! «Из нашего разговора мне ясно видно, – сказал адвокат, – что могу положиться на ваше честное слово!» Где теперь мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы не можете верить мне. Я совсем упал в ваших глазах. Нет, лучше умереть! – Все это я проговорил плачущим голосом, хотя слез у меня не было.
– Мне больно за вас, – сказала Катриона, – но, право, вы слишком совестливы. Вы говорите, что я не поверю вам. Да я бы вам во всем доверилась! Что же касается этих людей, то я и думать о них не хочу! Ведь они хотят поймать вас в ловушку и уничтожить! Фи! Теперь не время унижаться! Поднимите голову! Я буду восторгаться вами, как героем, вами, мальчиком почти одних лет со мною! Стоит ли придавать такое значение нескольким лишним словам, сказанным другу, который скорее умрет, чем выдаст вас!
– Катриона, – спросил я, глядя на нее исподлобья, – правда зто? Вы бы доверились мне?
– Неужели вы не верите моим словам? – воскликнула она. – Я чрезвычайно высокого мнения о вас, мистер Давид Бальфур. Пускай вас повесят. Я вас никогда не забуду, я состарюсь и все буду помнить вас. Мне кажется, что в такой смерти есть что-то великое. Я буду завидовать тому, что вас повесили!
– А может быть, меня запугали как ребенка? – сказал я. – Они, может быть, только смеются надо мной.
– Это мне нужно знать, – ответила она, – я должна знать все. Ошибка, во всяком случае, уже сделана. А теперь расскажите мне все.
Я сел на краю дороги; она опустилась рядом со мной. Я рассказал ей все дело почти так, как написал здесь, пропустив только свои соображения о поведении ее отца.
– Ну, – заметила она, когда я кончил, – вы действительно герой, хотя я никогда бы этого не подумала. Мне кажется также, что вам угрожает опасность. О, Симон Фрэзер! Можно ли было ожидать! Участвовать в таком деле ради жизни и денег! – И вдруг она громко воскликнула: – Ах, мучение! Взгляните на солнце!
Это выражение: «Ах, мучение!» – я впоследствии часто слышал от нее: оно входило в состав ее собственного оригинального языка.
– Боже мой, – закричала она, задыхаясь от смеха, – вы, с таким ангельским лицом, хотите жениться на дочери гайлэндского разбойника! Дэви, милый мой, это надо сделать хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас будут детишки. А теперь, – продолжала она, – вам нечего болтаться здесь: барышни нет дома, а я, старуха, боюсь, буду для вас плохой компанией. Да, кроме того, у меня нет никого, кто бы позаботился о моей репутации: я и так слишком долго оставалась наедине с таким обворожительным юношей. Приходите в другой раз за своим сикспенсом! – крикнула она мне вслед, когда я уже ушел.
Стычка с этой шальной леди придала мне смелости, которой мне до тех пор не хватало. Вот уже два дня, как образ Катрионы не выходил у меня из головы: она была как бы фоном для всех моих размышлений, и меня уже не удовлетворяло бы собственное общество, если бы где-нибудь в уголке сознания я не чувствовал ее. Теперь она стала мне сразу близкой. Мне казалось, что я мысленно дотрагиваюсь до той, к которой на деле прикасался всего раз в жизни. Я всем своим существом потянулся к ней: весь мир без нее казался мне безотрадной пустыней, по которой, как солдаты в походе, проходят люди, исполняя свой долг. Одна лишь Катриона на всем свете могла подарить мне счастье. Впоследствии я сам удивлялся, что мог предаваться подобным мыслям в то опасное для меня время, и, вспоминая свою молодость, стыдился самого себя. Мне еще надо было закончить свое образование, надо было заняться каким-нибудь полезным делом – отслужить там, где все обязаны служить. Мне еще надо было доказать, что я мужчина.
Погрузившись в свои размышления, я прошел уже полдороги по направлению к городу, когда заметил шедшую мне навстречу фигуру, и волнение мое еще больше усилилось. Мне казалось, что я должен Катрионе сказать чрезвычайно много, но не знал, с чего начать. Вспомнив, как я был неразговорчив в это утро в доме адвоката, я был уверен, что теперь совсем онемею. Но когда она приблизилась ко мне, все мои опасения рассеялись. Даже то, о чем я только что думал, нисколько не смущало меня. Я нашел, что могу говорить с ней так же свободно и разумно, как с Аланом.
– О, – воскликнула она, – вы приходили за своим сикспенсом! Что же, получили вы его?
Я сказал ей, что не получил, но так как я встретил ее, то прогулялся не зря.
– Правда, сегодня я уже видел вас, – продолжал я и объяснил, где и когда.
– А я не видела вас, – сказала она, – у меня глаза хотя и большие, но не видят далеко. Я только слышала пение в доме.
– Это пела старшая и самая красивая мисс Грант, – отвечал я.
– Говорят, что они все красивы, – заметила она.
– Они тоже находят вас красавицей, мисс Друммонд, – отвечал я, – и стояли у окна, чтобы увидеть вас.
– Жаль, что я так близорука, – сказала она, – а то бы я их тоже увидела. Так вы были в доме? Вы, должно быть, приятно провели время с красивыми леди, слушая хорошую музыку?
– Вы ошибаетесь, – отвечал я, – я чувствовал себя так же неловко, как рыба на склоне горы. Дело в том, что я скорее создан для общества грубых мужчин, чем красивых леди.
– Да, я это тоже нахожу, – сказала она, и оба мы рассмеялись.
– Странное дело, – заметил я, – я нисколько не боюсь вас, а готов был убежать от мисс Грант. Я также испугался вашей родственницы.
– О, я думаю, ее всякий испугался бы! – воскликнула она. – Мой отец сам боится ее.
Упоминание об ее отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с нею, я смотрел на нее и вспоминал этого человека, которого я знал так мало, но который возбуждал во мне такие ужасные подозрения. И, сравнивая его с нею, я чувствовал себя предателем, потому что молчу.
– Кстати, – сказал я, – сегодня утром я встретил вашего отца.
– Неужели? – воскликнула она радостным голосом. – Вы видели Джемса Мора? Вы, значит, говорили с ним?
– Да, я говорил с ним, – сказал я.
Тут дело приняло самый дурной для меня оборот: она взглянула на меня с глубокой благодарностью.
– Благодарю вас, – сказала она.
– Меня не за что благодарить, – начал я и остановился. Мне показалось, что если я должен скрывать от нее все, то хоть несколько слов я все же ей мог сказать. – Я довольно грубо говорил с ним, – продолжал я. – Он мне не особенно понравился. Я говорил с ним дерзко, и он рассердился.
– В таком случае вам нечего разговаривать с его дочерью и еще рассказывать ей об этом! – воскликнула она. – Я не хочу знать тех, кто не любит и не уважает моего отца.
– Позвольте мне сказать еще слово, – сказал я, начиная дрожать. – Мы оба, может быть, бываем у Престонгрэнджа в дурном настроении. Ведь у обоих у нас там неприятные дела, и это опасный дом. Мне было жаль его, и я первый заговорил, но не особенно рассудительно, должен сознаться. Вы, вероятно, скоро увидите, что дела его в одном отношении исправляются.
– Вероятно, не с помощью вашей дружбы, – сказала она, – и ему остается только благодарить вас за сочувствие.
– Мисс Друммонд, – воскликнул я, – я один на свете!
– Это меня нисколько не удивляет, – сказала она.
– О, дайте мне высказаться! – просил я. – Я только раз выскажусь, а потом оставлю вас навсегда, если вы того желаете. Я пришел сегодня в надежде услышать ласковое слово, в котором сильно нуждаюсь. Я знаю, что мои слова должны были оскорбить вас, и знал это, когда произносил их. Мне было бы легко выразиться мягче и солгать вам. Неужели вы думаете, что это не соблазняло меня? Разве вы не видите, что я говорю правду?
– Мне кажется, не стоит труда обсуждать это, мистер Бальфур, – сказала она. – Я думаю, что довольно с нас одной встречи и теперь мы можем мирно расстаться.
– О, пусть хоть один человек поверит мне, – умолял я, – иначе я не вынесу! Весь свет ополчился против меня! Как мне сделать свое дело, если судьба моя так ужасна?! Я не могу завершить его, если никто не поверит в меня. Одному человеку придется умереть, потому что я не в силах выполнить свой долг.
Она все время смотрела вдаль, высоко подняв голову, но мои слова и тон, каким они были произнесены, заставили ее прислушаться.
– Что вы сказали? – спросила она. – О чем вы говорите?
– Мои показания могут спасти невинного человека, – сказал я, – а меня не допускают в свидетели. Что бы вы сделали на моем месте? Вы знаете, что это значит, – ведь ваш отец тоже в опасности. Покинули бы вы несчастного? Меня хотели подкупить: обещали мне золотые горы, чтобы заставить меня от него отказаться, были пущены в ход все средства. А сегодня один негодяй объявил мне, что меня хотят лишить моего честного имени! Меня хотят впутать в дело об убийстве: они хотят доказать, что я ради платья и денег задержал Гленура своими разговорами; меня хотят опозорить и убить. Если со мной поступят таким образом, со мной, едва достигшим совершеннолетия, если такую историю будут рассказывать обо мне по всей Шотландии, если вы тоже поверите ей и мое имя станет позорным, то как мне перенести это, Катриона? Это невозможно! Это больше, чем может вынести душа человеческая!
Я говорил беспорядочно, отрывистыми фразами. Когда же я умолк, то увидел, что она глядит на меня испуганными глазами.
– Гленур! Это аппинское убийство, – сказала она тихо, но с большим удивлением.
Провожая ее, я повернул обратно, и теперь мы приближались к вершине холма над деревней Дин. При ее словах я как вкопанный остановился против нее.
– Боже мой, – воскликнул я, – боже мой, что я наделал! – и схватился рукою за виски. – Как мог я сделать это? Я, должно быть, обезумел, если говорю подобные вещи!
– Ради бога, что с вами случилось? – воскликнула она.
– Я дал слово, – простонал я, – я дал слово и вот… не сдержал его. О Катриона!
– Скажите мне, в чем дело? – спросила она. – Вы это не должны были говорить? Вы думаете, может быть, что у меня нет чести, что я выдам друга? Смотрите, я поднимаю правую руку и клянусь вам, что буду молчать!
– О, я знаю, что вы сдержите клятву, – возразил я, – но я! Еще сегодня утром я стоял перед ними и смело переносил их взгляды. Я предпочитал умереть позорной смертью на виселице, чем поступить нечестно, а через несколько часов в обыкновенном разговоре на большой дороге нарушаю свое обещание! «Из нашего разговора мне ясно видно, – сказал адвокат, – что могу положиться на ваше честное слово!» Где теперь мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы не можете верить мне. Я совсем упал в ваших глазах. Нет, лучше умереть! – Все это я проговорил плачущим голосом, хотя слез у меня не было.
– Мне больно за вас, – сказала Катриона, – но, право, вы слишком совестливы. Вы говорите, что я не поверю вам. Да я бы вам во всем доверилась! Что же касается этих людей, то я и думать о них не хочу! Ведь они хотят поймать вас в ловушку и уничтожить! Фи! Теперь не время унижаться! Поднимите голову! Я буду восторгаться вами, как героем, вами, мальчиком почти одних лет со мною! Стоит ли придавать такое значение нескольким лишним словам, сказанным другу, который скорее умрет, чем выдаст вас!
– Катриона, – спросил я, глядя на нее исподлобья, – правда зто? Вы бы доверились мне?
– Неужели вы не верите моим словам? – воскликнула она. – Я чрезвычайно высокого мнения о вас, мистер Давид Бальфур. Пускай вас повесят. Я вас никогда не забуду, я состарюсь и все буду помнить вас. Мне кажется, что в такой смерти есть что-то великое. Я буду завидовать тому, что вас повесили!
– А может быть, меня запугали как ребенка? – сказал я. – Они, может быть, только смеются надо мной.
– Это мне нужно знать, – ответила она, – я должна знать все. Ошибка, во всяком случае, уже сделана. А теперь расскажите мне все.
Я сел на краю дороги; она опустилась рядом со мной. Я рассказал ей все дело почти так, как написал здесь, пропустив только свои соображения о поведении ее отца.
– Ну, – заметила она, когда я кончил, – вы действительно герой, хотя я никогда бы этого не подумала. Мне кажется также, что вам угрожает опасность. О, Симон Фрэзер! Можно ли было ожидать! Участвовать в таком деле ради жизни и денег! – И вдруг она громко воскликнула: – Ах, мучение! Взгляните на солнце!
Это выражение: «Ах, мучение!» – я впоследствии часто слышал от нее: оно входило в состав ее собственного оригинального языка.