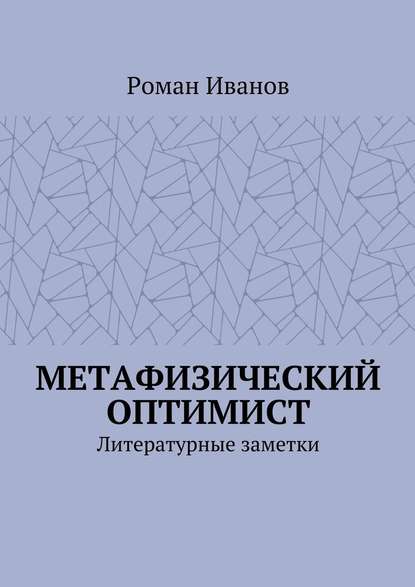По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Метафизический оптимист. Литературные заметки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впрочем, это аллегория не только будущей смерти Анны, но и уже состоявшегося духовного ее падения, то есть первого плотского контакта с любовником:
«То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прочие желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял перед нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем». Вронский, как мы видим, в обоих случаях – на скачках и в будуаре – ведет себя похожим образом.
Нагнетание разнообразных мрачных сцен на протяжении всего романа Анны и Вронского создает нужное Толстому ощущение трагедии, греха и грядущего возмездия. Напротив – даже не слишком благоприятные коллизии взаимоотношений Левина и Кити разрешаются весьма счастливо. Так, при первых родах жены ужас и отвращение супруга, пораженного неприглядными физиологическими подробностями, перерастает в светлое, высокое чувство:
«Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневался: крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и неторопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено».
Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.
И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело…»
Обретение Левиным веры, «несомненного смысла добра», прямо связано с его чувствами отца и мужа. «Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясно. […] При свете молнии она [Кити] рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. […] «Нет, не надо говорить, – подумал он, когда она прошла вперед его. Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами.
Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, – так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера – не вера – я не знаю, что это такое, – но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе».
Анна Каренина же – помимо измены мужу – изменяет и сыну Сереже, которого она вынуждена бросить ради Вронского; имя ребенка, как отчаянный вскрик, возникает в ее предсмертных мыслях. (Нетрудно заметить, что Анна поступает эгоистично и в самой своей смерти, лишая сына материнской заботы.) Самоубийство Анны, впрочем, не столько поступок отчаявшегося человека, сколько наказание, к которому приговорил ее автор за пренебрежение объективными нравственными законами, как он их понимал. Другие женские персонажи романа, изменяющие своим мужьям (например, баронесса Шильтон, возлюбленная одного из приятелей Вронского), не расплачиваются так, как Каренина, поскольку, в отличие от нее, соблюдают некие внешние приличия. Для главной героини же гибелен именно отказ от условностей светской жизни – потому, что он не связан с духовными исканиями, как у Левина и Толстого. (Точно так же гибнет и Эмма Бовари, которая, впрочем, никогда не шла, как Анна, уезжающая с Вронским от мужа и сына, на прямой вызов свету.)
«Мне отмщение, и Аз воздам» – этот эпиграф из Евангелия предваряет книгу, и сдается, что речь здесь идет не о Боге, а о Льве Николаевиче. (Он откажется впоследствии от литературного творчества именно потому, что, по его мнению, подменять Бога, создавая в произведении особый свой мир и вольно распоряжаясь в нем, греховно.) Приговаривая Анну, он, однако, обличает и ханжество аристократического общества, и в таком контексте она становится не преступницей, а жертвой, чья смерть вызывает у читателя презрение и отвращение не к ней, а к отвергающим ее самодовольным «богатым и ученым».
Таким образом, трагическое в романе Толстого играет роль нравственную, роль «доказательства от противного», и противопоставляется лирическому – отношениям Левина и Кити. В этом плане мы можем назвать роман… оптимистическим произведением, ибо автор, изображая идеальную супружескую пару как альтернативу прелюбодеянию, прямо указывает, как избежать трагедии. Кроме того, сама трагедия для Толстого – искупление и возможность роста души (тема, излюбленная и Достоевским): возвышение через страдание и даже через смерть. Трагическое в «Анне Карениной» поставлено на службу нравственному посылу и призвано вызвать так называемый катарсис, но вовсе не страх или отвращение.
…Перед персонажем рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича» «там, в конце дыры, засветилось что-то. […] Вместо смерти был свет». Похоже на оптимистический рассказ пережившего клиническую смерть, но, скорее всего, здесь следует видеть метафору духовного прозрения на пороге небытия, что еще нагляднее проявляется в сцене смерти Анны: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла [заметим, не любви] книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Таким образом, только душа, богатая духовно и следующая высоким нравственным принципам, способна избыть трагичность жизни и подняться над грешной суетой. В этом и заключается пафос потрясающего романа Льва Николаевича Толстого – романа, в котором ярко и оригинально выразилось жизненное кредо самого автора.
Следует заметить, что именно в таком отражении и возвеличивании духовных ценностей заключается суть едва ли не всех лучших произведений мирового искусства.
Рассказы Михаила Зощенко: жертва революции
Михаил Михайлович Зощенко (1895—1958) относится к тому поколению авторов, которое пришло в российскую литературу, что называется, на рубеже эпох.
Как и политическая история того периода, его судьба кажется нам какой-то странной, иррациональной, но задним числом романтической круговертью, которая могла иметь место лишь в определенной стране (России) и в определенное время (начало двадцатого века). За то время, пока Зощенко не стал писателем, он сменил массу различных профессий: работал поездным контролером, в первую мировую войну дослужился от прапорщика до штабс-капитана, при Временном правительстве был начальником почт и телеграфа, комендантом Главного почтамта в Петрограде.
После революции уровень его должностей на удивление снижается: побывал он и красноармейцем-пограничником, и милиционером в провинциальном городке. В списке его должностей в советское время значатся и сапожник, и помощник бухгалтера, и даже «инструктор по кролиководству и куроводству». В этом единственном в своем роде послужном списке видится даже оригинальная метафора резкого падения культурного уровня русской жизни – падения, летописцем которого Зощенко, собственно, и выпало быть.
Старый мир разрушался до основания – строился мир «наш, новый» (говоря словами «Интернационала», гимна этого разрушения). Он требовал новой литературы – в смысле не только «партийности», но и нового языка.
Владимир Маяковский, символ этой литературы, «певец революции», писал о том, что «улица корчится безъязыкая – ей нечем кричать и разговаривать!» – и посвятил свой талант поискам «новых форм» для самовыражения этой «улицы», так внезапно вышедшей на авансцену русской культурной и общественной жизни. Впоследствии он напишет не только футуристические гимны Ленину, партии, коммунизму, но и, к примеру, сатирическую пьесу «Клоп», в которой бичевал обывателей, не стремящихся к деятельному участию в стройках социализма. Главный герой пьесы – Присыпкин – типичный персонаж, однако, не для Маяковского, а для Зощенко.
Еще его мать – Елена Иосифовна Сурина – писала рассказы из жизни бедных людей, которые публиковались в петербургской бульварной газете «Копейка». Первый же рассказ Михаила Михайловича появился в 1921 году.
Зощенко входил тогда в группу «Серапионовы братья» – одно из богемных объединений, которые создавались русскими литераторами той поры, чтобы совместными усилиями выработать некие новые способы отображения новой реальности. Благотворное отличие этой группы от других заключалось в том, что, как декларировали сами «братья», их поиски шли в русле традиций русской классической литературы и отрицали примитивно-пафосное «пролеткультовское» искусство.
Жанр рассказа до конца жизни оставался самым успешным в его творчестве. Советские «бедные люди» узнали в этих произведениях себя и привычные житейские обстоятельства. Молодого автора поощрительно отметил Горький. За десять лет после дебюта Зощенко дважды (!) успело выйти шеститомное собрание его сочинений. Он был невероятно популярен, как нынешние эстрадные звезды первой величины (и совершенно так же в разных уголках страны появлялись мошенники-самозванцы, выдававшие себя за прославленного писателя).
Принесшие ему читательский успех рассказы 20—30-х годов – это житейские миниатюры, написанные нарочито простым языком. «Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей», – говорил он. Стилизация под реальную устную речь русского простонародья доведена этим автором до совершенства. Язык Зощенко, «доступный бедным», – тот небрежный, но не лишенный обаяния говорок, которым ведет застольную беседу подвыпивший остроумный мужичок из простых. Поэтому казалось, что автор не сочиняет свои рассказы, а добросовестно записывает занятные истории, услышанные им где-то, у кого-то. (Этот жанр – юмористический монолог «в образе» – закономерно стал самым популярным и у современных писателей-сатириков.)
Поскольку никто больше не умел слушать, а главное, слышать народную речь так, как Зощенко, его стиль оказался неповторимым. Михаил Михайлович оказался одним из немногих писателей, которым в принципе не надо указывать свое авторство: за них это сделает любая сочиненная ими фраза. «Что же это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? – чего бы энто, думаю» («Жертва революции», 1923).
Это не просто «язык улицы», которому после социальной революции надлежало дать полную волю. Это ощутимая альтернатива советскому официозу, в том числе «шершавому языку плаката», или, если угодно, Маяковского, который также использовал просторечие, но лишь как материал для своей авангардистской образности.
Сам рассказчик – первое лицо многих зощенковских произведений – представляет собой, как отметил Владимир Набоков, «тип бодрого дебила, живущего на задворках советского полицейского государства, где слабоумие стало последним прибежищем человека». И в этом новом персонаже, модифицированном Иванушке-дурачке, от лица которого ведется повествование, – может быть, главное достижение Зощенко как писателя.
И такой персонаж Маяковского, как Присыпкин, и практически все герои рассказов Зощенко рассматривались в советской критике не иначе как духовные жертвы царского режима, неспособные проникнуться революционным пафосом. Виктор Шкловский, например, считал, что типичный зощенковский герой «живет в великое время, а больше всего озабочен водопроводом, канализацией и копейками. Человек за мусором не видит леса». Вся вина за то, что чуть ли не доминирующим социальным типом в молодой Советской России стал не бесстрашный строитель новой, счастливой жизни, а именно мещанин, обыватель, пошляк, возлагалась на «проклятое прошлое».
У нас другое мнение на этот счет. Нам кажется, что залог этого парадокса – в кровавой подоплеке «великих свершений», в том, что была осуществлена некая селекция видов, искусственный отбор. Островский в свое время явил миру тип русского купца, Чехов – русского интеллигента. Зощенко же довелось описывать тех, кто пришел им на смену.
В то время как большинство других русских авторов (по обе стороны баррикад и границ) писали «серьезные», идеологизированные вещи (коммунисты воспевали революцию, эмигранты проклинали), Зощенко на первый взгляд бесстрастно констатировал происходящие в стране сдвиги на подчеркнуто приземленном, бытовом уровне, который большинство литераторов, независимо от мировоззрения, «не интересовал», но на котором и происходило нечто фундаментальное – рождался, в сущности, пресловутый «гомо советикус».
Итак, первое и самое зримое проявление своеобразия произведений Зощенко – их язык и стиль. Второе – неповторимые персонажи. Третье, на наш взгляд, – их потаенная суть.
Каждый из ранних рассказов Зощенко – на первый взгляд, не более чем потешная сатирическая юмореска о злоключениях ограниченного, но неунывающего субъекта в абсурдном, почти гоголевском мире, представляющем собой изнанку пафосной советской действительности. (Этот абсурдный мир оказывается, впрочем, куда более живым и достоверным, чем антураж патетических шедевров соцреализма.) Однако, по известной формуле Гоголя, это «смех сквозь невидимые миру слезы».
Отметим, что в рассказах Зощенко (как и в гоголевских произведениях, кстати) нет явных положительных лиц и тем более «высшей партийной инстанции», к которой апеллировали газетные фельетонисты. Советская власть и ее представители – все эти следователи, милиционеры, чиновники – упоминаются походя и, как правило, иронически.
В рассказе «Бедность» (1925) электрификация, которая, по известному высказыванию Ленина, вкупе с советской властью образует коммунизм, приводит к неожиданным результатам: «Дело это, не спорю, громадной важности – Советскую Россию светом осветить. […] Провели, осветили – батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь».
Слишком некорректно было бы относить задним числом Зощенко к диссидентам в позднесоветском понимании (за свои убеждения, впрочем, он подвергся жесточайшей опале, которая явно ускорила его кончину). Но неслучайно большинство произведений этого писателя при желании можно прочитать как политический памфлет. Например, его «Рассказы о Ленине» (1939): под видом адаптации ленинской биографии для малограмотного люда скрывается тонкая авторская ирония, переходящая в откровенное издевательство.
Главная тема ранней советской литературы – «Народ и революция» – ненавязчиво и подспудно прослеживается во многих великолепных произведениях этого автора, написанных задолго до его «ленинианы». Они не оставляют сомнения в позиции Зощенко – не столько, впрочем, политической, сколько нравственной.
Вот рассказ формально комический, который я, однако, склонен считать трагическим шедевром, – «Жертва революции». Честный работяга-полотер, полировавший паркет в графском доме, был заподозрен в присвоении золотых часиков. Несколько дней он переживал, не подозревая, видимо, о ленинском лозунге «Грабь награбленное». Вспомнив, что «пихнул часики в кувшинчик с пудрой», полотер с облегчением отправился все объяснить – но графа, вместе со всей семьей, уже затаскивают, чтобы отвезти на убой, в революционный грузовик. Бедный работяга со своими старомодными моральными представлениями чуть было не оказывается под его колесами…
Вот история стекольщика, который величайшее счастье испытал вовсе не в эпоху народной революции, а во вполне буржуазное время, когда ему удалось получить выгодный заказ и заработать приличные деньги на одежду и выпивку («Счастье», 1924). Вот написанный к десятилетнему юбилею Октября рассказ «Царские сапоги», в котором простые люди становятся хозяевами (покупают на распродаже) разных царских вещей – красивых, но для новой жизни абсолютно непригодных: «Все старое в прах распадается».
И очень многое расскажет о «загадочной русской душе», в которой и кроется главная причина главных русских бед, практически бунинская вещь, которая так и называется: «Беда» (1923) – о мужике, который два года копил деньги на лошадь, а купив ее, тут же пропил и в финале костерит не себя, а кабак, где ему продали водку…
Многие рассказы Зощенко выходят за рамки политической и иной сатиры, превращаясь в произведения высокого искусства с многообразным подтекстом. Очень показателен в этом смысле элементарный на первый взгляд рассказ «Диктофон» (1925). Сюжет его весьма прост. Привезли в советский двор американское чудо техники. Оно способно зафиксировать, сохранить для истории чудо другое, высшее: человеческую речь. И… никто не знает что сказать, кроме лозунгов и ругательств («Эй ты, чертова дура!»). Их поток нарастает, и вот специально приглашенный черноморский матрос сыплет отборной матерщиной. Завершается все выстрелом из маузера, звука которого машина не выдерживает. Помимо аллюзий, связанных с революцией, в которой такую важную роль сыграли матросы и маузеры («Ваше слово, товарищ Маузер»), рассказ способен вызвать многоплановые философские раздумья о таких печальных вещах, как вырождение общества и профанация искусства.
Многие другие произведения также относятся к этим явно волнующим Зощенко темам. С каждым годом, по мере твердения советской действительности, тон их становится мрачнее.
В «Крестьянском самородке» (1924) деревенский поэт-графоман сначала твердит о своем «понимании бычков и тучек», а потом признается, что всего-навсего пытается заработать на публикациях. Театральный монтер, обиженный на дирекцию, отключает электричество и срывает оперный спектакль со снобом-тенором в главной роли («Монтер», 1923); любителя, подменившего на сцене ушедшего в запой актера, в эпизоде ограбления грабят по-настоящему («Актер», 1925).
В Советской России, где, по словам Сталина, «жить стало лучше, жить стало веселей», грустить дозволяется только больным («Грустные глаза», 1932).
Советский поэт приезжает в Германию. Он (как водится среди русских туристов и поныне) восхищается немецкой опрятностью. В общественном туалете его посещает вдохновение. Но по окончании процедуры – поэтической и физиологической – он оказывается… заперт и быстро переходит от восторга к грязной ругани. Столпившиеся у двери немцы что-то «лопочут», но советский житель не знает языка. Наконец среди них оказывается русский эмигрант, который объясняет поэту, что тот просто забыл спустить воду («Западня», 1933).
Сентиментальный молодой велосипедист рассеянно катит по аллее – и неожиданно его скручивают два сторожа: аллея оказывается запретной («Страдание молодого Вертера», 1933).
Трудно назвать все это сатирой на нравы. Скорее – грусть за последние осколки возвышенного, которое грубо попирается, тонет в мрачной реальности.
Существовать в таком мире тяжело: он слишком абсурден. Учреждения, придуманные для удобства и помощи, будь то баня («Баня», 1924), гостиница («Спи скорей», 1935—1937) или больница («История болезни», 1936), оказываются местами, где все словно нарочно устроено против человека. Даже пролетарий – казалось бы, хозяин этой новой жизни! – оказывается совершенно бесправным. За неподобающий вид или поведение его в буквальном смысле выкидывают отовсюду: из трамвая («Мещане», 1927), из ресторана («Рабочий костюм», 1926), из театра («Прелести культуры», 1927) … В рассказе 1926 года «Тормоз Вестингауза» пролетарий хочет наконец проявить себя и доказать свою исключительность, остановив поезд («Не могут меня замести в силу моего происхождения. Пущай я чего хочешь сделаю – во всем мне будет льгота»), но ничего не выходит: стоп-кран оказывается неисправным…
С большими основаниями хозяевами новой жизни можно назвать не пролетариев, а чиновников. Их сущность отлично показана в рассказе «Кошка и люди» (1928). Представители домоуправления идут на все, чтобы не ремонтировать неисправную, источающую угарный газ печку в одной из квартир. Их приглашают испытать ее вред. Чиновники задыхаются до полусмерти, но с завидным, достойным лучшего применения стоицизмом твердят: «Печка нормальная». Итак, даже страдая лично, эти люди будут защищать и оправдывать существующий порядок вещей. Аналогия с позицией ортодоксальных коммунистов, которым пришлось угорать от сталинской «печки» в 37-м году, напрашивается сама собой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: