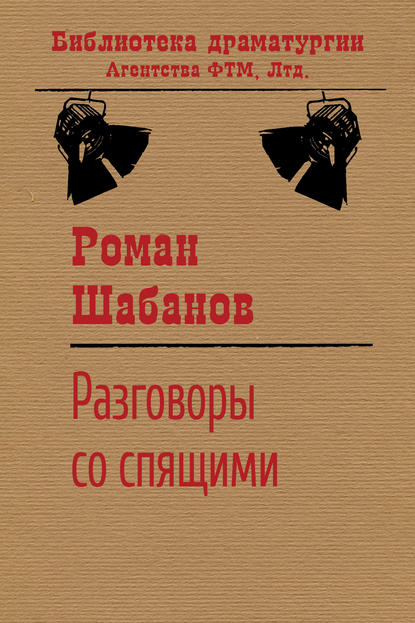По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разговоры со спящими
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разговоры со спящими
Роман Витальевич Шабанов
Библиотека драматургии Агентства ФТМ
Женщина устраивает свою жизнь таким образом, чтобы все в ней спали. Муж, сын. Она создает атмосферу, разговаривает с ними, уверяя их, что и во сне есть тоже вполне нормальная жизнь. Неожиданно подступает старость, и происходит осознание случившегося.
Роман Шабанов
Разговоры со спящими
Пьеса с элементами монолога и диалога
Мертвые не способны ничего сделать или почувствовать. Мы не в состоянии им помочь, а они не могут причинить нам вред.
(Псалом 145:4; Екклесиаст 9:5, 10).
Душа умирает, она не живет после смерти.
(Иезекииль 18:4).
Человек может всю жизнь прожить в одиночестве. А что, может. Но все-таки кто-то ему нужен, кто бы его зарыл, хотя могилу он себе может выкопать сам.
Джеймс Джойс «Улисс»
Действующие лица
Девушка, Женщина, Пожилая женщина, Старуха – одно и то же лицо в разные промежутки времени.
Сын, он же Мальчик, Парень, Мужчина.
Смотритель кладбища – несмотря на возраст, он всегда остается смотрителем кладбища.
И спящие…
Действие первое
Сцена 1
Спальня. Ничего особенного, все, что обычно бывает в спальнях, – кровать, тумбочка, стул, бельевой шкаф, кресло, может быть, комод. Большое занавешенное окно с небольшой щелью в нем. Пиджак, брюки небрежно брошены на пол. В комнате приглушенный свет от бра около кресла. На кровати, отвернувшись к стене, лежит полуобнаженный Парень, прикрытый простыней. Напротив, у окна в кресле сидит Девушка, нервно кусающая ногти.
Слышится звук телефонного звонка – противный, вибрирующий, тревожный, монотонный «бррр». Парень вздрагивает, но ее шепот «Тихо, маленький» успокаивает его.
Девушка. Он говорит: «Схади в дущ». Через «а» и «щ». И что? Пойду я в душ, намылю себя фисташковым гелем, задумаюсь о том, какую песню спеть, чтобы он, услышав, смог оценить и мой голос, и мой музыкальный вкус, посчитаю семь-восемь, буду стоять вся в пене, с открытым ртом, пока он фьють… «Схади в дущ»… пока он поворачивает два ключа и пропадает в междуречье дорог и женщин. Блин, конечно, сегодня я постаралась, использовала разные штучки, заказала заранее на «Озоне», принес почти мальчик, худой, как бутерброд в театральном буфете, и спросил: «Будем проверять?» Нет! Не надо. Иди уже! Липкий, клубника, экстракт, но клейкий, соединяющий, со смыслом… он-то в экстазе, а я в хреновой мази. «Помойся», шепчет, ты всю кровать измажешь… я не лягу, пока не помоешься и не уберешь здесь. Тебе-то чего волноваться, не твоя же суспензия. А он, блин, смотрит на меня, кусает сигарету, а у меня так соски ноют, как будто он их сейчас мнет, как полиэтиленовый антидепрессант в каждой упаковке телека. Хочется крикнуть: «Перестань!», но я же никогда не крикну. А вдруг, покусав свой «Парламент», он наденет брюки, выдохнет так тяжело, как будто все это у него набралось, пока он был со мной, и свалит. Нет, не пойдет… так легко от меня не получится сбежать. Мне не трудно. Я помолчу, вымою всю эту клубничную слизь, постелю, если надо, новую простынку и наволочку заменю, если потребуется, чтобы только ничто не помешало. А то он и вправду не ляжет, и тогда у меня кресло, стул, подоконник, а ему выспаться надо после такого. Я же его извела. Не станет же он в кресле. (Изучает кресло как место для обоюдных игрищ.) Хотя, может, и в кресле. И на полу, если понадобится. И на изжеванной кровати, и на… (Глаз падает то на пол, то на подоконник, то на потолок, и после кругового обзора останавливается на Парне, измученном и, можно сказать, даже измочаленном.) Размечталась, только не он. Он не. Может быть, он вчера так устал, у него энергии-то осталось только на один раз, и скажи спасибо за этот глоток. Спаси… но, правда, я же не знаю, чем он занимался вчера. Говорит, после работы. В полночь? Какая, нахрен, работа? Я уже думала ложиться, прочитала «Отче наш», включила свет в прихожей и на кухне, сбила подушку… стучится. Если бы звонил, как все. Деликатный, блин. Стучится. Чтобы соседей не будить. Кого там будить? Молодых, что не живут в тишине в принципе, или этого старика, который из звуков воспринимает только грохот взрыва и шум свадьбы? Я уже спать, все постирала, у меня, как знал, и белья-то не было на себе, надела что-то из старого. А он: пусти, говорит, старого-голодного. А я, блин, молодая и сытая! Башмаки-то не стоптал, спрашиваю. Думала не пускать, напомнить из последнего, про его звонок на балконе, женское «мася» и это выдающее его с потрохами покусывание сигареты. «Меня ждут друзья, у одного из них юбилей, а без меня ничего не получится». Знаю, твой друг ждал тебя в постели, а со мной ты разминался. Думал, не выгорит, а тут и я, нескладеха, и она, чищенная пемзой. Отрезать бы ему по самую шею, чтобы больше не выросло… но он как-то умеет на меня воздействовать: не сдержалась, открыла. Наверное, могла бы ему все отдать. Бери все: и посуду, и деньги, тысячу последнюю, и маринованные помидоры. А он с водочным амбре, шлеп борозда на порог, скинул только шапку, куртку и свои мокасины и на кровать меня, борозды свои оставлять. Пришел, оставил и напоследок туалетную воду унес. Случайно как-то. Второпях, а мужскую оставил. Так я на работу с ней. А что, надо же чем-то пахнуть. Не домом же, не метро. А там мои девки: «Ага…» Почему если от мужчины пахнет женским, то нормально, а про женщину такое никогда не скажут? Ты че это, от бывшего, что ли? Ушел, оставил. Или купила, а когда собралась дарить, он уже с другой трением занимался. (Раздраженно.) Все-то им понятно. По статистике… Нахрен их статистику. Я что, как и все в этой консервной банке? У меня что написано?
Лежащий на кровати объект ее внимания просыпается, ворочается. Она приближается к нему.
Тихо, маленький. Спи, еще ночь, все зайки спят. И ты спи. Любит тишину. У меня, говорит, на работе все ведут себя тихо. Я им ничего не позволяю. Чуть что – на кол. (Насмешливо.) На кол… кол. Так посмотришь: как будто и не живой. Лежит у меня… неживой. Почему? Да потому что застыл в одной недвижимой позе, как только глаза прикрыл, и не храпит? Мой папка так храпел, так… все равно что говорил со мной. Он: «Хр», а я отвечаю. Он: «Хре-хре, хрю-хрю». И такое понимание было. Его вздох мог рассказать больше, чем болтушка на улице, которую спросили, как пройти до метро. Его выдох, долгий, протяжный и даже певучий. Он выдыхал, и я вместе с ним. Только вдыхать, как он, у меня не получалось. У него прямо талант был. (Задумчиво.) Был. Бы-ы… л. (Обращает внимание на лежащий «труп».) А так ничего. Мертвецки. Тихо, ни звука. Натренировался, су… рок.
Спохватывается, прикрывает рот, как будто понимает, что не должна так говорить.
Прости, прости. Я дура. Не должна так. Надо как-то по-другому – ласково, чтобы, проснувшись, он на эти слова уже усвоенные мне ответил. Так не могу. Так ему лучше в самое ухо чтобы это слово вошло, как надо, а так, на расстоянии, все что угодно может влететь, и ему что, все это перерабатывать? (Подходит.) Сколько их у тебя было? Не партнеров на ритмике и дохлых рыбок, выкинутых в окно, а, да-да, этих длинных горячих надушенных тел? Ноль. (Насмешливо.) Я у тебя одна, словно в ночи луна… а ты ко мне совсем невинный пришел. Это я тебя испортила. Плохая девочка. (Смеется.) Повернулся. Блин, чувствительный. На работе своей нужно бдить круглосуточно. Он и на мне как будто постоянно бдит. (Смеется еще громче.) Тихо-тсс… Нужно сдерживать себя, но как, когда у него при ласках три раза вибрирует, отсылается почта, да и сейчас, во сне, постоянно что-то звучит. Вот бы… тихо-тс-с-с. Спокойствие, только спокойствие, говорил один мужчина в полном расцвете сил, или лет, никогда этого не помнила.
Звонок, он ворочается, она вскакивает и накрывает брюки подушкой, садится на нее.
Спи, еще рано просыпаться. Только заснул, а там всякие бяки к тебе пристают. Мы их спрятали от тебя. Можешь не беспокоиться. Я тебя от них защищу. У меня есть огромная подушка. Не одна. Их у меня хватит и на брюки, и на пиджак, и на твои разбежавшиеся носки. (За окном проносится трамвай.) Да что же это они все! И трамваи, и телефоны. У меня только. (Поднимает руку, второй нажимает на кнопку воображаемого телефона.) Пи-пи, абонент временно недоступен. Нельзя, чтобы он проснулся. Сейчас проснется, скажет: «Хочу кофе» или «Еще», потом уйдет и снова пропадет на месяца два-три… А так пока со мной.
Трамвай… Бросается к окну с подушкой, что лежала на брюках. Звонит телефон, она кидается стремглав на прежнее место. Тишина.
Сегодня суббота, с пятницы он у меня, еще ночь, потом воскресенье. А потом понедельник. Его нет, нет, нет. Если проснется, то это «нет» начнется уже сейчас. А так он есть, есть.
Пауза, которая позволяет ей подойти к нему и наблюдать, как он спит, но ни в коем случае не тревожа кровать, используя только самые бесшумные тапочки.
Как же он любит есть! Пришел, спорол большой кусок мяса. Съел и смотрит на меня голодными глазами – мол, что на второе? У меня и первое-то было на два дня. Нет, такого не прокормить. Если он каждый день нуждается по два раза минимум, утром и вечером, в обед спасибо ресторанному бизнесу, то это рано вставать, а потом еще на вечер. А сама слюнки глотай и стели постель. Говорят, все они хорошие, пока спят. Точно ангел. Вот это точно про него. Правда, из ангельского только взгляд, когда стоит на площадке и констатирует: «Я прищел. Не ждаль?» Ждаль, конещно, тебя день и нощ жду. Какие все же большие губы, неправильно огромные, как будто неправильно прорисованные, специально, чтобы посмеяться. Как он только не заглотил меня, беззащитную, которая и пикнуть бы не успела, скатившись в его какой-то безразмерный живот? Если сложусь, то как раз по форме его пуза. А что? Придет однажды, а у меня ничего (он же без звонка, конечно, я же его денно-нощно жду), так он меня, недолго думая, внутрь себя и определит… Сперва, конечно, все будет наоборот. Пусть лучше спит, так не ест хоть. И не говорит. Потому что когда он говорит…
У спящего вырывается крик: «А-а!».
Тихо, тихо. Да что ты будешь делать! Не спит. (Берет его голову, целует, укачивает.) Баю-баю, потому что когда ты говоришь, то все вокруг замолкает, все мрет. (Нежно.) Я мру, мои цветы и кошка прячутся, тоже дохнут. Соседи вымирают. Прислушиваются, конечно, но для меня мрут. (Воспитательно.) Что ты не побрился-то, царапал меня, баю-бай. Хочешь уйти, да? К масянкам разным? Тихо, баю-баю… Уснул, кажется. Вот бы спал так вечно, а я его бы не трогала. Все тс-с, да тс-с-с… и хорошо.
Смотритель кладбища
Кладбище. Простое кладбище, где все, что обычно присуще этому месту – могильные памятники, ограды, столики, стаканчики с хлебушком, цветы, тополя и тишина, вперемешку с доносящимися звуками ветра, что качает, заставляет скрипеть и стонать, может быть. Смотритель – старикашка неопределенного возраста, в руках веничек, елочный букет, отряхивается от снега, поглядывая наверх.
Смотритель(капризно). Ой, да не уговаривайте меня. Не стану я убирать. Да, вчера можно было. Почему вчера можно было, а сегодня нет? Вчера был совершенно другой день. Праздник. В праздник можно многое простить. Да, и это тоже. (Громко, срываясь на крик.) Правильно. Если бы это было вчера. Не сегодня. (Кивает головой, как будто с кем-то говорит, в данный момент слушает.) Не хочу ничего слышать. Конечно, понимаю, ты пошутил, и я должен воспринимать твои поступки, в праздник они происходят или нет, не иначе как в шутку. Но разве это можно назвать шуткой? Шутка, по-моему, это то, что веселит не только тебя. Шутка… само слово такое мягкое, такое… шу-шу… Что? Не только тебя, но и всех. Но как же я? Необязательно? То есть я могу плакать или страдать, изувеченный, но шутка удалась, если все смеются? (Растерянно говорит, скользя взглядом по могилкам, что в радиусе трех метров.) А что, прямо-таки все? Ни один не сдержался? Но посудите, каково это? Ночью пошел снег. Это прекрасно. Марику тоже стало приятно, только в какой-то другой форме – он просто решил этим воспользоваться. Знал, что пройду, и шляп мне за шиворот снег! Холодный, вы не представляете! Я только что вышел, набрался тепла от чая и масляной печки, что дымит, но греет, думаю: сейчас пойду поздороваюсь. А тут шляп – и снег. И что? Вот вы так просто спрашиваете: «И что?» Промочил. На мне две майки, неделю всего ношу, новые почти, шаль намотанная, свитер грубой вязки, целая тепловая гидроэлектростанция, а тут шляп и… нет, почему ему можно, а этому нет? Не сходится у меня. У вас да, а у меня ни на вот столько. (Раздраженно и решительно одновременно.) Хорошо, если Марику хочется меня заливать, засыпать, а то подкидывать всякие скользкие штуки под ноги, пожалуйста. Но почему все нормальные, а он нет? Ему нравится быть таким, тогда и чистит, убирает пусть сам. Будет ему наказание. Не надо меня уговаривать. Я сказал: нет. Ну что это такое – вас там много, а я тут совсем один. Тем более он это заслужил. Конечно, для вас что снег, что дождь, разницы нет. Лежите и горя не знаете. Ни холод вам не мешает, ни есть не надо, ни греть чайник, ни выкраивать деньги на сигареты. Нет этих просителей, что хотят лучшего места, слез после остановки сердца. Нет этого «там-там-там». Шопен. Соната два. Та-там, та-там. Тьфу. Нет чтобы радостно. (Уверенно.) Вам лучше, чем мне. Лежите, как вечно больные гриппом с вечно постельным режимом. Да еще снегом бросаетесь. Ладно. Я же сказал уже. Ну перестаньте! Пользуетесь моей мягкостью. Скажи спасибо своим соседям.
Убирает – аккуратно веничком подметает, в какой-то момент шлепает им: «Вот тебе!» Закончив, поворачивается, идет к соседнему надгробному камню.
Лежите? Ну да, конечно, что же еще? Ничего, что у вас такой сосед. Шумный попался. Ничего, я его воспитываю. Получается? Во всяком случае, пытаюсь. (Сконфуженно улыбается, топчется на месте, не знает, то ли присесть, то ли остаться так.) Ну здравствуй, Тонечка… вот, принес тебе цветы. То есть какие это цветы, но знаешь, это такие, что мороз могут выдержать. Елочные. Я сам их из пихты сделал. Они могут всю зиму пролежать, и ничего. А те, что приносят другим, они же уже через пару дней сохнут, и птицы их на свои гнезда уносят. Так вот тебе долгий букет. Я же помню, хотя как тут не помнить, когда у тебя черным по серому: «У меня праздник. Точка. День рождения. Многоточие. Подарки. Вопрос». Ну, в смысле, три года после смерти. А подарок вот…
Пауза, помогающая смотрителю собраться с мыслями, так как этот разговор, по всей видимости, ему дается нелегко.
А после смерти начинается новая жизнь. Человек как будто заново рождается. Вон Марику только два, поэтому так и шалит. Да что с тебя взять, когда тебе два? Конечно, для него шутка – это когда трое смеются над четвертым, которому совсем не смешно. В два года всегда так! Там есть новорожденная, Ларка, ей только месяц, понимаешь, она еще грудная совсем. Когда ей будет два, она присоединится к Марику, хотя тот в четыре уже должен будет остепениться. А есть и старики. Под тридцать. Они смирные, лежат себе. Приходишь к ним, а они тебе ничего, но ты чувствуешь, как они рады. Земля как-то дрожит. И сам тоже. А ты со мной. Просто так. Не потому что мы с тобой… ла-ла-ла… или у нас с тобой родственные связи. Или еще какие?! Хорошо, что я про тебя ничего не знаю. Могилка у тебя. Без фотографии. Только две даты. Кто-то уж очень старался. Надорвался, небось? То ли сын, то ли муж, то ли просто дядя Толя. И не важно, кто был такой хороший. Тебе три, и ты для меня… ну все равно что дочь. А это подарок. (Кладет «букет» на могилку, оправдываясь.) В следующий раз куклу принесу, в три обычно с куклами. А пока на вот… (Достает из кармана горсть конфет.) В моем детстве все «Гусиные лапки» любили. До сих пор не понимаю, почему гусиные? (Решается присесть, чтобы говорить с ней ближе, как будто старается, чтобы все остальные не слышали.) А потому, что гусям лапки-то и не нужны. Они когда-то летали больше, а тут одомашнили их, вот и понадобились. А лапки – они все на конфеты шли. Засыпаешь? Спи. Спи. (Встает.) Нет, нужно вернуться, высушиться. А к остальным позже. Тем более Карен и Тимоха спорят. Им не до меня. Василий Грешков перечитывает Джойса. Специально положил ему. Знаю, что Джойс его успокаивает. Тут много книг оставляют. Пока ждут, пока другие разговаривают. Не все же могут. Только книги все не про то – разные детективы, анекдоты на все случаи жизни, а тут увидел: на скамейке оставлена. На обложке дверь и такой старинный замок. И еще более странное название. Я и хвать ее. Если оставлена – то уже ничья. А у меня Васька, так он «Улисса» от и до. Я уж думаю, что Васька при жизни тоже писал. Те, кто Джойса любит, не могут не писать. Это уж точно, я думаю. Еще к Ляльке надо заглянуть, она у меня в тот раз что-то совсем затихла, как будто обиделась.
Идет в сторону левого портала. В какой-то момент останавливается. Ищет что-то перед собой и как будто находит, зафиксировав свой взгляд на одной точке, продолжает.
Люблю говорить с теми, к кому уже никто не приходит. Просто когда приходят… те – они беспокойные. Словно оживают – только растравляют. Невозможные даже. Мешают им. Успокоиться. Они же не просто так легли. Чтобы успокоиться. Не затевать корчевание пней и дрожь земли. А то и каждый день. Мы вас любим, нам без вас тоскливо, без тебя пес не ест и у мужа псориаз. Как же они не понимают, что лучше вообще не приходить. А то стоят, курят нехотя и жалуются. И те, что склонились, выжимая платочки, и те, что в стороне смолят непрерывно. Поглядывают на своих жен, что привели. Во сука, думают, выходной испортила. Нужно, как только выйдем, в магазин заскочить за раствором успокоительного с градусом. Разве что один придет, поплачет, но это исключение… а так – кладбище не место. Фотографируются, да и разное делают. А они же ждут. Те, что лежат. Между собой переговариваются. Особенно первое время после похорон, после того, как приходят скучные лица с тоской и сожалением. «Поторопилась ты. Еще бы годик. А потом можно». А мои спокойные, да, резвятся, но так, по крайней мере, их никто не портит дурным влиянием, Я их один воспитываю. Они не против. Так я и ограду покрашу, и подмету, и землю взрыхлю, чтобы цветы росли. А пока пусть вот эти елочные цветы. Они ничего, правда же?
Сцена 2
Та же спальня примерно через год-полтора. Все, что должно быть при появлении ребенка – детская кроватка, комод, разложены пеленки, слипики, шапочки, над кроваткой мобиль. У Девушки на руках грудной ребенок. Ребенок плачет. Девушка пытается его успокоить с помощью бутылочки, соски, звука «з-з-зз», но тот не унимается. Слышится стук в стену.
Девушка. Поняла. Все! (Стук продолжается. Она встает, отвечает еще более сильным стуком.) Что, умный такой? Сейчас стену пробьешь, и что дальше? Чур, чай с меня, с тебя тортик. (Непрерывный стук.) У кого руки трясутся возле стенки? Мне наплевать, что у вас нервы, золотая свадьба и уважение с подписями. Мне нужно понимание. Он же ребенок, он должен кричать. Я же не могу его подушкой накрыть. Может быть, у вас принято подушкой и над газом держать, знаю, есть такие, но мне нужно время. (Стук, крик.) Вре-мя! (Устало.) Мне нужно время, мне нужно… (За стенкой слышится, что громко включили телевизор.) Спасибо. (Крик.) З-зззз-з. Молодежь переехала, теперь меня окружают старпёры, которые день и ночь дома, выстраивают график, как им угодно. А удобно им в точности то, что неудобно мне. Не любите ночью спать. Нормально. Ночью не спят, смотрят до самого утра телевизор, хотя, может быть, и спят под Олимпиаду, кино не для всех. При этом бормочут, бормочут… Вперед. Бл. дские лыжники. Бл. дские конькобежцы, бл. ские боксеры, бл. дские футболисты. Мимо! А ты чего телишься? А под утро другие соседи радио слушают. И все это в ответ на наш крик. (Крик.) Баю-бай, засыпай, а то соседи к нам придут, свою колыбельную споют. Только эта колыбельная не настоящая, а поддельная. (Громко.) Правда же? (В ответ стук, как в азбуке Морзе, – точка-тире, точка-тире.) Вот так живешь, не видишь соседей и кажется, что их и нет вообще, что там пустая стена. Как будто мы находимся в картонных декорациях. А там нет ничего. Весь этот звук – он записан. На нас направлены камеры, снимающие фильм, в котором мы спим, пытаемся уснуть. Чтобы потом его смотрели и под него спали. А что, большинство фильмов как раз для того и нужны, чтобы спалось как надо. Ретуширует ту реальность, в которой они живут. Мы спим, смотрим сон, в котором тоже спят. Уснул. Вот же уснул. (Телевизор делается тише.) Вот же уснул. Сперва с животиком мучились, потом не мог угомониться. А что сделать, если вечером не могу не выпить глоток. А потом другой. А утром понимаю, что не надо было – его, маленького, кормить снова и снова нужно, а я выпила, в груди не молоко, а ядреная простокваша. Остаются смеси. Ах, эти смеси… В них натолкают разного, от чего и пучит и выворачивает. Прочитаешь состав, хочется выбросить, а он-то тянется, вот и даешь. И укропная вода не помогает. «Эспумизан» извела. Потом даешь слово, а к вечеру повторяешь после ужина, а ночью открываешь новую банку и разводишь, морщась. И снова обещание, и еще одна банка. По-другому невозможно. И снова крик, и снова этот взгляд: «Помоги мне, почему я кричу? Мне это неприятно. А-а!» Блин! Я сдерживаю себя, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. З-зззз-з. Так и просится наружу. Такие мысли. З-зззз-з. И про падение, и желание свернуть шею, проколоть глаз. И про окно. И подушкой. (Успокаивается, всхлипывает.) Вот так. Я тебя люблю, только когда ты кричишь и не слышишь моего «ради бога!», то мне хочется ударить тебя так, что… тихо, тихо. Надо выпить.
Кладет ребенка, уходит, ребенок издает крик во сне, за стеной резко включается и выключается телевизор, она возвращается с бокалом, оправдываясь.
А что? Папки нет и не будет. А живот – это у нас семейное. Мама – чуть что, все своей сестре отдавала: и обед, и ужин порой, та же была младше, а отец – он так и умер от переедания. Весь день ничего не ест, а вечером придет и как наестся! Вот и ушел в тот мир сытым. Я к нему еще перед сном подходила, чтобы он лекарство выпил, он у меня взял, в руке зажав, уснул. Хре-хре. Хрю-хрю. Сделал вдох, а выдохнуть не смог. Если бы я жила с мамой, то она бы с тобой, и у меня… как только подумаю, как бы все получилось. Только и она тоже. Все уснули. И сестра от приема внутрь. И мама неосторожно приняла успокоительное. И папа. Хрю-хрю. Все спят… (Следующее она говорит быстро, как будто старается таким образом успокоить себя.) По мне, спать нужно много, чтобы не оставалось времени на плохие дела. А то, что остается, – нужно говорить, чтобы не обрывать жизнь. А так замолчишь, проснется и снова в крик, то все… Поэтому и гуляем мы больше, и купаемся тоже. Чтобы уставать. И спать по-другому.
Пауза здесь нужна. Во время этой паузы девушка рассматривает своего спящего ребенка, но нет в ее взгляде умиления, что свойственно матери по отношению к своему ребенку, а больше напряжение.
Родились мы слабые, чуть больше килограмма, думали – не жильцы. Да и этот «дущ» вечно в градусе, вот и получился «высококачественный» продукт, правда, с истекшим сроком. Первые три месяца прятались, он приходил, все так же спал, прятала под подушку его вещи, а потом заприметил. Я не знаю, чего ждала, но точно знала, как только скажу ему об этом, то больше не увижу. Поэтому тянула до последнего. Мог бы и вообще не заметить. Я слышала, что есть такие семьи, в которых отцы настолько зарабатываются, что забывают, сколько у них детей. А что – нормально. Когда бы он приходил, малыша в соседнюю комнату, а сами… Я думаю, справилась бы. Что ему надо – этого и того. Меня и буйвола на тарелке. Но фокус не удался, живот мой стал заметен, да еще тошнота в тот вечер открыла его узкие глаза. Смылся, конечно. Мне не нужно было в душ уходить, напевать и намыливать, прямо так и сказал: «Мне здесь делать нечего, коли так». Вот удод! Ушел и не приходил больше. Все. Да мне и не того даже. Успевай менять. Да, появился еще один. Ему нужно было попробовать с такими, как я. Тоже женатый, тоже не храпит, но не так одиноко. Обходимся без ночевки, спит всего час, а потом как ветер – фьють, и нет его. Не успеваю поговорить. Хорошо, что ты у меня родился. Какой-никакой, но уже мужчина. С тобой мы разговариваем. Я тебе рассказываю про все. А ты меня слушаешь, спишь и… только живот, но есть укроп и «з-ззз», только соседи не понимают.
Роман Витальевич Шабанов
Библиотека драматургии Агентства ФТМ
Женщина устраивает свою жизнь таким образом, чтобы все в ней спали. Муж, сын. Она создает атмосферу, разговаривает с ними, уверяя их, что и во сне есть тоже вполне нормальная жизнь. Неожиданно подступает старость, и происходит осознание случившегося.
Роман Шабанов
Разговоры со спящими
Пьеса с элементами монолога и диалога
Мертвые не способны ничего сделать или почувствовать. Мы не в состоянии им помочь, а они не могут причинить нам вред.
(Псалом 145:4; Екклесиаст 9:5, 10).
Душа умирает, она не живет после смерти.
(Иезекииль 18:4).
Человек может всю жизнь прожить в одиночестве. А что, может. Но все-таки кто-то ему нужен, кто бы его зарыл, хотя могилу он себе может выкопать сам.
Джеймс Джойс «Улисс»
Действующие лица
Девушка, Женщина, Пожилая женщина, Старуха – одно и то же лицо в разные промежутки времени.
Сын, он же Мальчик, Парень, Мужчина.
Смотритель кладбища – несмотря на возраст, он всегда остается смотрителем кладбища.
И спящие…
Действие первое
Сцена 1
Спальня. Ничего особенного, все, что обычно бывает в спальнях, – кровать, тумбочка, стул, бельевой шкаф, кресло, может быть, комод. Большое занавешенное окно с небольшой щелью в нем. Пиджак, брюки небрежно брошены на пол. В комнате приглушенный свет от бра около кресла. На кровати, отвернувшись к стене, лежит полуобнаженный Парень, прикрытый простыней. Напротив, у окна в кресле сидит Девушка, нервно кусающая ногти.
Слышится звук телефонного звонка – противный, вибрирующий, тревожный, монотонный «бррр». Парень вздрагивает, но ее шепот «Тихо, маленький» успокаивает его.
Девушка. Он говорит: «Схади в дущ». Через «а» и «щ». И что? Пойду я в душ, намылю себя фисташковым гелем, задумаюсь о том, какую песню спеть, чтобы он, услышав, смог оценить и мой голос, и мой музыкальный вкус, посчитаю семь-восемь, буду стоять вся в пене, с открытым ртом, пока он фьють… «Схади в дущ»… пока он поворачивает два ключа и пропадает в междуречье дорог и женщин. Блин, конечно, сегодня я постаралась, использовала разные штучки, заказала заранее на «Озоне», принес почти мальчик, худой, как бутерброд в театральном буфете, и спросил: «Будем проверять?» Нет! Не надо. Иди уже! Липкий, клубника, экстракт, но клейкий, соединяющий, со смыслом… он-то в экстазе, а я в хреновой мази. «Помойся», шепчет, ты всю кровать измажешь… я не лягу, пока не помоешься и не уберешь здесь. Тебе-то чего волноваться, не твоя же суспензия. А он, блин, смотрит на меня, кусает сигарету, а у меня так соски ноют, как будто он их сейчас мнет, как полиэтиленовый антидепрессант в каждой упаковке телека. Хочется крикнуть: «Перестань!», но я же никогда не крикну. А вдруг, покусав свой «Парламент», он наденет брюки, выдохнет так тяжело, как будто все это у него набралось, пока он был со мной, и свалит. Нет, не пойдет… так легко от меня не получится сбежать. Мне не трудно. Я помолчу, вымою всю эту клубничную слизь, постелю, если надо, новую простынку и наволочку заменю, если потребуется, чтобы только ничто не помешало. А то он и вправду не ляжет, и тогда у меня кресло, стул, подоконник, а ему выспаться надо после такого. Я же его извела. Не станет же он в кресле. (Изучает кресло как место для обоюдных игрищ.) Хотя, может, и в кресле. И на полу, если понадобится. И на изжеванной кровати, и на… (Глаз падает то на пол, то на подоконник, то на потолок, и после кругового обзора останавливается на Парне, измученном и, можно сказать, даже измочаленном.) Размечталась, только не он. Он не. Может быть, он вчера так устал, у него энергии-то осталось только на один раз, и скажи спасибо за этот глоток. Спаси… но, правда, я же не знаю, чем он занимался вчера. Говорит, после работы. В полночь? Какая, нахрен, работа? Я уже думала ложиться, прочитала «Отче наш», включила свет в прихожей и на кухне, сбила подушку… стучится. Если бы звонил, как все. Деликатный, блин. Стучится. Чтобы соседей не будить. Кого там будить? Молодых, что не живут в тишине в принципе, или этого старика, который из звуков воспринимает только грохот взрыва и шум свадьбы? Я уже спать, все постирала, у меня, как знал, и белья-то не было на себе, надела что-то из старого. А он: пусти, говорит, старого-голодного. А я, блин, молодая и сытая! Башмаки-то не стоптал, спрашиваю. Думала не пускать, напомнить из последнего, про его звонок на балконе, женское «мася» и это выдающее его с потрохами покусывание сигареты. «Меня ждут друзья, у одного из них юбилей, а без меня ничего не получится». Знаю, твой друг ждал тебя в постели, а со мной ты разминался. Думал, не выгорит, а тут и я, нескладеха, и она, чищенная пемзой. Отрезать бы ему по самую шею, чтобы больше не выросло… но он как-то умеет на меня воздействовать: не сдержалась, открыла. Наверное, могла бы ему все отдать. Бери все: и посуду, и деньги, тысячу последнюю, и маринованные помидоры. А он с водочным амбре, шлеп борозда на порог, скинул только шапку, куртку и свои мокасины и на кровать меня, борозды свои оставлять. Пришел, оставил и напоследок туалетную воду унес. Случайно как-то. Второпях, а мужскую оставил. Так я на работу с ней. А что, надо же чем-то пахнуть. Не домом же, не метро. А там мои девки: «Ага…» Почему если от мужчины пахнет женским, то нормально, а про женщину такое никогда не скажут? Ты че это, от бывшего, что ли? Ушел, оставил. Или купила, а когда собралась дарить, он уже с другой трением занимался. (Раздраженно.) Все-то им понятно. По статистике… Нахрен их статистику. Я что, как и все в этой консервной банке? У меня что написано?
Лежащий на кровати объект ее внимания просыпается, ворочается. Она приближается к нему.
Тихо, маленький. Спи, еще ночь, все зайки спят. И ты спи. Любит тишину. У меня, говорит, на работе все ведут себя тихо. Я им ничего не позволяю. Чуть что – на кол. (Насмешливо.) На кол… кол. Так посмотришь: как будто и не живой. Лежит у меня… неживой. Почему? Да потому что застыл в одной недвижимой позе, как только глаза прикрыл, и не храпит? Мой папка так храпел, так… все равно что говорил со мной. Он: «Хр», а я отвечаю. Он: «Хре-хре, хрю-хрю». И такое понимание было. Его вздох мог рассказать больше, чем болтушка на улице, которую спросили, как пройти до метро. Его выдох, долгий, протяжный и даже певучий. Он выдыхал, и я вместе с ним. Только вдыхать, как он, у меня не получалось. У него прямо талант был. (Задумчиво.) Был. Бы-ы… л. (Обращает внимание на лежащий «труп».) А так ничего. Мертвецки. Тихо, ни звука. Натренировался, су… рок.
Спохватывается, прикрывает рот, как будто понимает, что не должна так говорить.
Прости, прости. Я дура. Не должна так. Надо как-то по-другому – ласково, чтобы, проснувшись, он на эти слова уже усвоенные мне ответил. Так не могу. Так ему лучше в самое ухо чтобы это слово вошло, как надо, а так, на расстоянии, все что угодно может влететь, и ему что, все это перерабатывать? (Подходит.) Сколько их у тебя было? Не партнеров на ритмике и дохлых рыбок, выкинутых в окно, а, да-да, этих длинных горячих надушенных тел? Ноль. (Насмешливо.) Я у тебя одна, словно в ночи луна… а ты ко мне совсем невинный пришел. Это я тебя испортила. Плохая девочка. (Смеется.) Повернулся. Блин, чувствительный. На работе своей нужно бдить круглосуточно. Он и на мне как будто постоянно бдит. (Смеется еще громче.) Тихо-тсс… Нужно сдерживать себя, но как, когда у него при ласках три раза вибрирует, отсылается почта, да и сейчас, во сне, постоянно что-то звучит. Вот бы… тихо-тс-с-с. Спокойствие, только спокойствие, говорил один мужчина в полном расцвете сил, или лет, никогда этого не помнила.
Звонок, он ворочается, она вскакивает и накрывает брюки подушкой, садится на нее.
Спи, еще рано просыпаться. Только заснул, а там всякие бяки к тебе пристают. Мы их спрятали от тебя. Можешь не беспокоиться. Я тебя от них защищу. У меня есть огромная подушка. Не одна. Их у меня хватит и на брюки, и на пиджак, и на твои разбежавшиеся носки. (За окном проносится трамвай.) Да что же это они все! И трамваи, и телефоны. У меня только. (Поднимает руку, второй нажимает на кнопку воображаемого телефона.) Пи-пи, абонент временно недоступен. Нельзя, чтобы он проснулся. Сейчас проснется, скажет: «Хочу кофе» или «Еще», потом уйдет и снова пропадет на месяца два-три… А так пока со мной.
Трамвай… Бросается к окну с подушкой, что лежала на брюках. Звонит телефон, она кидается стремглав на прежнее место. Тишина.
Сегодня суббота, с пятницы он у меня, еще ночь, потом воскресенье. А потом понедельник. Его нет, нет, нет. Если проснется, то это «нет» начнется уже сейчас. А так он есть, есть.
Пауза, которая позволяет ей подойти к нему и наблюдать, как он спит, но ни в коем случае не тревожа кровать, используя только самые бесшумные тапочки.
Как же он любит есть! Пришел, спорол большой кусок мяса. Съел и смотрит на меня голодными глазами – мол, что на второе? У меня и первое-то было на два дня. Нет, такого не прокормить. Если он каждый день нуждается по два раза минимум, утром и вечером, в обед спасибо ресторанному бизнесу, то это рано вставать, а потом еще на вечер. А сама слюнки глотай и стели постель. Говорят, все они хорошие, пока спят. Точно ангел. Вот это точно про него. Правда, из ангельского только взгляд, когда стоит на площадке и констатирует: «Я прищел. Не ждаль?» Ждаль, конещно, тебя день и нощ жду. Какие все же большие губы, неправильно огромные, как будто неправильно прорисованные, специально, чтобы посмеяться. Как он только не заглотил меня, беззащитную, которая и пикнуть бы не успела, скатившись в его какой-то безразмерный живот? Если сложусь, то как раз по форме его пуза. А что? Придет однажды, а у меня ничего (он же без звонка, конечно, я же его денно-нощно жду), так он меня, недолго думая, внутрь себя и определит… Сперва, конечно, все будет наоборот. Пусть лучше спит, так не ест хоть. И не говорит. Потому что когда он говорит…
У спящего вырывается крик: «А-а!».
Тихо, тихо. Да что ты будешь делать! Не спит. (Берет его голову, целует, укачивает.) Баю-баю, потому что когда ты говоришь, то все вокруг замолкает, все мрет. (Нежно.) Я мру, мои цветы и кошка прячутся, тоже дохнут. Соседи вымирают. Прислушиваются, конечно, но для меня мрут. (Воспитательно.) Что ты не побрился-то, царапал меня, баю-бай. Хочешь уйти, да? К масянкам разным? Тихо, баю-баю… Уснул, кажется. Вот бы спал так вечно, а я его бы не трогала. Все тс-с, да тс-с-с… и хорошо.
Смотритель кладбища
Кладбище. Простое кладбище, где все, что обычно присуще этому месту – могильные памятники, ограды, столики, стаканчики с хлебушком, цветы, тополя и тишина, вперемешку с доносящимися звуками ветра, что качает, заставляет скрипеть и стонать, может быть. Смотритель – старикашка неопределенного возраста, в руках веничек, елочный букет, отряхивается от снега, поглядывая наверх.
Смотритель(капризно). Ой, да не уговаривайте меня. Не стану я убирать. Да, вчера можно было. Почему вчера можно было, а сегодня нет? Вчера был совершенно другой день. Праздник. В праздник можно многое простить. Да, и это тоже. (Громко, срываясь на крик.) Правильно. Если бы это было вчера. Не сегодня. (Кивает головой, как будто с кем-то говорит, в данный момент слушает.) Не хочу ничего слышать. Конечно, понимаю, ты пошутил, и я должен воспринимать твои поступки, в праздник они происходят или нет, не иначе как в шутку. Но разве это можно назвать шуткой? Шутка, по-моему, это то, что веселит не только тебя. Шутка… само слово такое мягкое, такое… шу-шу… Что? Не только тебя, но и всех. Но как же я? Необязательно? То есть я могу плакать или страдать, изувеченный, но шутка удалась, если все смеются? (Растерянно говорит, скользя взглядом по могилкам, что в радиусе трех метров.) А что, прямо-таки все? Ни один не сдержался? Но посудите, каково это? Ночью пошел снег. Это прекрасно. Марику тоже стало приятно, только в какой-то другой форме – он просто решил этим воспользоваться. Знал, что пройду, и шляп мне за шиворот снег! Холодный, вы не представляете! Я только что вышел, набрался тепла от чая и масляной печки, что дымит, но греет, думаю: сейчас пойду поздороваюсь. А тут шляп – и снег. И что? Вот вы так просто спрашиваете: «И что?» Промочил. На мне две майки, неделю всего ношу, новые почти, шаль намотанная, свитер грубой вязки, целая тепловая гидроэлектростанция, а тут шляп и… нет, почему ему можно, а этому нет? Не сходится у меня. У вас да, а у меня ни на вот столько. (Раздраженно и решительно одновременно.) Хорошо, если Марику хочется меня заливать, засыпать, а то подкидывать всякие скользкие штуки под ноги, пожалуйста. Но почему все нормальные, а он нет? Ему нравится быть таким, тогда и чистит, убирает пусть сам. Будет ему наказание. Не надо меня уговаривать. Я сказал: нет. Ну что это такое – вас там много, а я тут совсем один. Тем более он это заслужил. Конечно, для вас что снег, что дождь, разницы нет. Лежите и горя не знаете. Ни холод вам не мешает, ни есть не надо, ни греть чайник, ни выкраивать деньги на сигареты. Нет этих просителей, что хотят лучшего места, слез после остановки сердца. Нет этого «там-там-там». Шопен. Соната два. Та-там, та-там. Тьфу. Нет чтобы радостно. (Уверенно.) Вам лучше, чем мне. Лежите, как вечно больные гриппом с вечно постельным режимом. Да еще снегом бросаетесь. Ладно. Я же сказал уже. Ну перестаньте! Пользуетесь моей мягкостью. Скажи спасибо своим соседям.
Убирает – аккуратно веничком подметает, в какой-то момент шлепает им: «Вот тебе!» Закончив, поворачивается, идет к соседнему надгробному камню.
Лежите? Ну да, конечно, что же еще? Ничего, что у вас такой сосед. Шумный попался. Ничего, я его воспитываю. Получается? Во всяком случае, пытаюсь. (Сконфуженно улыбается, топчется на месте, не знает, то ли присесть, то ли остаться так.) Ну здравствуй, Тонечка… вот, принес тебе цветы. То есть какие это цветы, но знаешь, это такие, что мороз могут выдержать. Елочные. Я сам их из пихты сделал. Они могут всю зиму пролежать, и ничего. А те, что приносят другим, они же уже через пару дней сохнут, и птицы их на свои гнезда уносят. Так вот тебе долгий букет. Я же помню, хотя как тут не помнить, когда у тебя черным по серому: «У меня праздник. Точка. День рождения. Многоточие. Подарки. Вопрос». Ну, в смысле, три года после смерти. А подарок вот…
Пауза, помогающая смотрителю собраться с мыслями, так как этот разговор, по всей видимости, ему дается нелегко.
А после смерти начинается новая жизнь. Человек как будто заново рождается. Вон Марику только два, поэтому так и шалит. Да что с тебя взять, когда тебе два? Конечно, для него шутка – это когда трое смеются над четвертым, которому совсем не смешно. В два года всегда так! Там есть новорожденная, Ларка, ей только месяц, понимаешь, она еще грудная совсем. Когда ей будет два, она присоединится к Марику, хотя тот в четыре уже должен будет остепениться. А есть и старики. Под тридцать. Они смирные, лежат себе. Приходишь к ним, а они тебе ничего, но ты чувствуешь, как они рады. Земля как-то дрожит. И сам тоже. А ты со мной. Просто так. Не потому что мы с тобой… ла-ла-ла… или у нас с тобой родственные связи. Или еще какие?! Хорошо, что я про тебя ничего не знаю. Могилка у тебя. Без фотографии. Только две даты. Кто-то уж очень старался. Надорвался, небось? То ли сын, то ли муж, то ли просто дядя Толя. И не важно, кто был такой хороший. Тебе три, и ты для меня… ну все равно что дочь. А это подарок. (Кладет «букет» на могилку, оправдываясь.) В следующий раз куклу принесу, в три обычно с куклами. А пока на вот… (Достает из кармана горсть конфет.) В моем детстве все «Гусиные лапки» любили. До сих пор не понимаю, почему гусиные? (Решается присесть, чтобы говорить с ней ближе, как будто старается, чтобы все остальные не слышали.) А потому, что гусям лапки-то и не нужны. Они когда-то летали больше, а тут одомашнили их, вот и понадобились. А лапки – они все на конфеты шли. Засыпаешь? Спи. Спи. (Встает.) Нет, нужно вернуться, высушиться. А к остальным позже. Тем более Карен и Тимоха спорят. Им не до меня. Василий Грешков перечитывает Джойса. Специально положил ему. Знаю, что Джойс его успокаивает. Тут много книг оставляют. Пока ждут, пока другие разговаривают. Не все же могут. Только книги все не про то – разные детективы, анекдоты на все случаи жизни, а тут увидел: на скамейке оставлена. На обложке дверь и такой старинный замок. И еще более странное название. Я и хвать ее. Если оставлена – то уже ничья. А у меня Васька, так он «Улисса» от и до. Я уж думаю, что Васька при жизни тоже писал. Те, кто Джойса любит, не могут не писать. Это уж точно, я думаю. Еще к Ляльке надо заглянуть, она у меня в тот раз что-то совсем затихла, как будто обиделась.
Идет в сторону левого портала. В какой-то момент останавливается. Ищет что-то перед собой и как будто находит, зафиксировав свой взгляд на одной точке, продолжает.
Люблю говорить с теми, к кому уже никто не приходит. Просто когда приходят… те – они беспокойные. Словно оживают – только растравляют. Невозможные даже. Мешают им. Успокоиться. Они же не просто так легли. Чтобы успокоиться. Не затевать корчевание пней и дрожь земли. А то и каждый день. Мы вас любим, нам без вас тоскливо, без тебя пес не ест и у мужа псориаз. Как же они не понимают, что лучше вообще не приходить. А то стоят, курят нехотя и жалуются. И те, что склонились, выжимая платочки, и те, что в стороне смолят непрерывно. Поглядывают на своих жен, что привели. Во сука, думают, выходной испортила. Нужно, как только выйдем, в магазин заскочить за раствором успокоительного с градусом. Разве что один придет, поплачет, но это исключение… а так – кладбище не место. Фотографируются, да и разное делают. А они же ждут. Те, что лежат. Между собой переговариваются. Особенно первое время после похорон, после того, как приходят скучные лица с тоской и сожалением. «Поторопилась ты. Еще бы годик. А потом можно». А мои спокойные, да, резвятся, но так, по крайней мере, их никто не портит дурным влиянием, Я их один воспитываю. Они не против. Так я и ограду покрашу, и подмету, и землю взрыхлю, чтобы цветы росли. А пока пусть вот эти елочные цветы. Они ничего, правда же?
Сцена 2
Та же спальня примерно через год-полтора. Все, что должно быть при появлении ребенка – детская кроватка, комод, разложены пеленки, слипики, шапочки, над кроваткой мобиль. У Девушки на руках грудной ребенок. Ребенок плачет. Девушка пытается его успокоить с помощью бутылочки, соски, звука «з-з-зз», но тот не унимается. Слышится стук в стену.
Девушка. Поняла. Все! (Стук продолжается. Она встает, отвечает еще более сильным стуком.) Что, умный такой? Сейчас стену пробьешь, и что дальше? Чур, чай с меня, с тебя тортик. (Непрерывный стук.) У кого руки трясутся возле стенки? Мне наплевать, что у вас нервы, золотая свадьба и уважение с подписями. Мне нужно понимание. Он же ребенок, он должен кричать. Я же не могу его подушкой накрыть. Может быть, у вас принято подушкой и над газом держать, знаю, есть такие, но мне нужно время. (Стук, крик.) Вре-мя! (Устало.) Мне нужно время, мне нужно… (За стенкой слышится, что громко включили телевизор.) Спасибо. (Крик.) З-зззз-з. Молодежь переехала, теперь меня окружают старпёры, которые день и ночь дома, выстраивают график, как им угодно. А удобно им в точности то, что неудобно мне. Не любите ночью спать. Нормально. Ночью не спят, смотрят до самого утра телевизор, хотя, может быть, и спят под Олимпиаду, кино не для всех. При этом бормочут, бормочут… Вперед. Бл. дские лыжники. Бл. дские конькобежцы, бл. ские боксеры, бл. дские футболисты. Мимо! А ты чего телишься? А под утро другие соседи радио слушают. И все это в ответ на наш крик. (Крик.) Баю-бай, засыпай, а то соседи к нам придут, свою колыбельную споют. Только эта колыбельная не настоящая, а поддельная. (Громко.) Правда же? (В ответ стук, как в азбуке Морзе, – точка-тире, точка-тире.) Вот так живешь, не видишь соседей и кажется, что их и нет вообще, что там пустая стена. Как будто мы находимся в картонных декорациях. А там нет ничего. Весь этот звук – он записан. На нас направлены камеры, снимающие фильм, в котором мы спим, пытаемся уснуть. Чтобы потом его смотрели и под него спали. А что, большинство фильмов как раз для того и нужны, чтобы спалось как надо. Ретуширует ту реальность, в которой они живут. Мы спим, смотрим сон, в котором тоже спят. Уснул. Вот же уснул. (Телевизор делается тише.) Вот же уснул. Сперва с животиком мучились, потом не мог угомониться. А что сделать, если вечером не могу не выпить глоток. А потом другой. А утром понимаю, что не надо было – его, маленького, кормить снова и снова нужно, а я выпила, в груди не молоко, а ядреная простокваша. Остаются смеси. Ах, эти смеси… В них натолкают разного, от чего и пучит и выворачивает. Прочитаешь состав, хочется выбросить, а он-то тянется, вот и даешь. И укропная вода не помогает. «Эспумизан» извела. Потом даешь слово, а к вечеру повторяешь после ужина, а ночью открываешь новую банку и разводишь, морщась. И снова обещание, и еще одна банка. По-другому невозможно. И снова крик, и снова этот взгляд: «Помоги мне, почему я кричу? Мне это неприятно. А-а!» Блин! Я сдерживаю себя, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. З-зззз-з. Так и просится наружу. Такие мысли. З-зззз-з. И про падение, и желание свернуть шею, проколоть глаз. И про окно. И подушкой. (Успокаивается, всхлипывает.) Вот так. Я тебя люблю, только когда ты кричишь и не слышишь моего «ради бога!», то мне хочется ударить тебя так, что… тихо, тихо. Надо выпить.
Кладет ребенка, уходит, ребенок издает крик во сне, за стеной резко включается и выключается телевизор, она возвращается с бокалом, оправдываясь.
А что? Папки нет и не будет. А живот – это у нас семейное. Мама – чуть что, все своей сестре отдавала: и обед, и ужин порой, та же была младше, а отец – он так и умер от переедания. Весь день ничего не ест, а вечером придет и как наестся! Вот и ушел в тот мир сытым. Я к нему еще перед сном подходила, чтобы он лекарство выпил, он у меня взял, в руке зажав, уснул. Хре-хре. Хрю-хрю. Сделал вдох, а выдохнуть не смог. Если бы я жила с мамой, то она бы с тобой, и у меня… как только подумаю, как бы все получилось. Только и она тоже. Все уснули. И сестра от приема внутрь. И мама неосторожно приняла успокоительное. И папа. Хрю-хрю. Все спят… (Следующее она говорит быстро, как будто старается таким образом успокоить себя.) По мне, спать нужно много, чтобы не оставалось времени на плохие дела. А то, что остается, – нужно говорить, чтобы не обрывать жизнь. А так замолчишь, проснется и снова в крик, то все… Поэтому и гуляем мы больше, и купаемся тоже. Чтобы уставать. И спать по-другому.
Пауза здесь нужна. Во время этой паузы девушка рассматривает своего спящего ребенка, но нет в ее взгляде умиления, что свойственно матери по отношению к своему ребенку, а больше напряжение.
Родились мы слабые, чуть больше килограмма, думали – не жильцы. Да и этот «дущ» вечно в градусе, вот и получился «высококачественный» продукт, правда, с истекшим сроком. Первые три месяца прятались, он приходил, все так же спал, прятала под подушку его вещи, а потом заприметил. Я не знаю, чего ждала, но точно знала, как только скажу ему об этом, то больше не увижу. Поэтому тянула до последнего. Мог бы и вообще не заметить. Я слышала, что есть такие семьи, в которых отцы настолько зарабатываются, что забывают, сколько у них детей. А что – нормально. Когда бы он приходил, малыша в соседнюю комнату, а сами… Я думаю, справилась бы. Что ему надо – этого и того. Меня и буйвола на тарелке. Но фокус не удался, живот мой стал заметен, да еще тошнота в тот вечер открыла его узкие глаза. Смылся, конечно. Мне не нужно было в душ уходить, напевать и намыливать, прямо так и сказал: «Мне здесь делать нечего, коли так». Вот удод! Ушел и не приходил больше. Все. Да мне и не того даже. Успевай менять. Да, появился еще один. Ему нужно было попробовать с такими, как я. Тоже женатый, тоже не храпит, но не так одиноко. Обходимся без ночевки, спит всего час, а потом как ветер – фьють, и нет его. Не успеваю поговорить. Хорошо, что ты у меня родился. Какой-никакой, но уже мужчина. С тобой мы разговариваем. Я тебе рассказываю про все. А ты меня слушаешь, спишь и… только живот, но есть укроп и «з-ззз», только соседи не понимают.