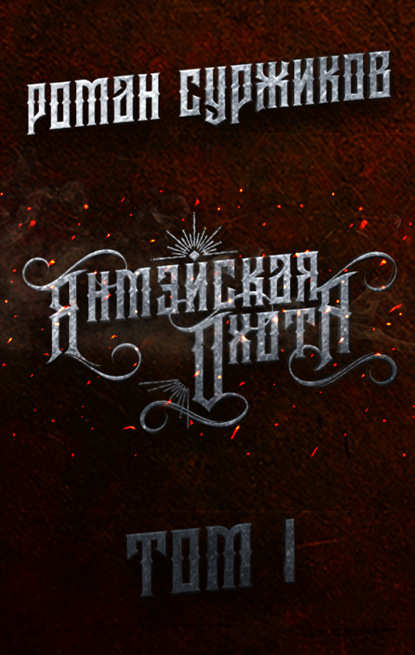По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Янмэйская охота. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вечерние процедуры, в противовес утренним, зависели от тяжести симптомов, что проявились у пациента за день. Самые легкие и процедурами-то не назовешь: например, восемь раз перечислить все свои хорошие поступки за день и громко похлопать в ладоши, когда перечисляет другой. «Сегодня я переписала восемь страниц, дважды поела с аппетитом, приняла все процедуры и хорошо слушалась лекарей» – хлоп, хлоп, хлоп, «Дороти, ты молодец, мы гордимся тобой! Ты идешь прямиком к исцелению!»
Более неприятные процедуры назывались «задуматься». Пациента лишали какого-нибудь права – скажем, запить ужин водой (каша тогда подавалась соленой). Запрещали лечь спать вместе со всеми (до середины ночи пациент стоял навытяжку в ярко освещенной комнате). Ставили на колени в деревянной приспособе, не дающей подняться. В течение нескольких часов пациенту полагалось думать о том, как он сегодня потакал недугу и мешал исцелению. Чтобы думал именно об этом и не сбился с мысли, раз в полчаса медбрат тормошил пациента:
– Сделай шаг к осознанию. Перечисли свои симптомы за сегодня.
– Я… э… плохо трудилась, позволила недугу отвлечь себя от работы. Еще я… из-за неосознанности воспротивилась утренней процедуре. Я забыла, что в обители заботы все делается для моего блага…
С тою же целью – чтобы задумался – могли назначить лишний сеанс труда: скажем, вынести и помыть все ведра с нечистотами, перестирать исподнее лежачих больных.
Но все это было приятными мелочами в сравнении с третьей группой процедур, которые звались «удар по недугу». Когда хворь обострялась, лекари решительными мерами заставляли ее отступить. Били по недугу, например, так. Подвешивали пациента головой вниз над пропастью – это звалось «удар страхом». Часами раскручивали на маленькой карусели и раскачивали, как маятник, – «дезориентация хвори». Сжимали череп стальным обручем – «окружающее давление». Фиксировали веки и светили прямо в зрачок мигающим фонарем – «удар светом по тьме недуга». В этих случаях пациенту не предлагали задуматься – да он бы и не смог, ибо частенько терял сознание от боли и ужаса. Хворь отступала перед атакующей мощью терапии, и пациент больше не проявлял симптомов.
Что же называлось симптомами? Прежде всего, нарушения дисциплины. Отказался есть или попробовал сцапать чужую порцию. Тронул человека другого пола. Дерзко ответил на вопрос лекаря, проявил строптивость, воспротивился процедуре. Сказал «нет» по какому-либо поводу. Плохое слово «нет» – камень на пути к исцелению. Нужно открыться терапии и всегда говорить «да».
Тяжелым симптомом считалась «странность»: бедняга сделал нечто такое, чего не ожидалось. Речь шла даже о невинных, но непривычных вещах: зачем-то прочел наизусть балладу о Терезе (наверняка это хитрости хвори), вторично за день захотел помыть руки (паническая боязнь грязи – явный симптом), отказался есть (падение аппетита – знак нездоровой апатии), не вовремя встал из-за стола (нервическая тревожность), не хотел возвращаться с прогулки (боязнь закрытого пространства). Никто, даже старожилы, вроде Карен, не могли сказать, за каким симптомом последует какая процедура. Однако справедливость всегда торжествовала: днем поступил странно – вечером получи процедуру. Однозначность и неизбежность этой связи успокаивала Дороти, виделась частью мудрого мирового порядка.
Но вот что было любопытно и непостижимо: каждому пациенту прощался некий один симптом. Дороти Слай очень плохо помнила свое прошлое, не могла назвать имен родителей и мужа, описать свой дом и улицу – и за это ей не давали процедур; но за все другое следовало наказание. Леди Карен спала в одежде и ела не больше котенка – ей сходило с рук; но попробовал бы кто другой отказаться от ужина. Аннет представлялась при каждой встрече, как при первой, и давала многословные советы – то была ее законная простительная странность, будто родовая привилегия при дворе. Парень через два стола от Дороти любил размахивать руками, как шаван хлыстом, – его тоже не наказывали, только на трапезе связывали рукава за спиною и кормили с ложки…
Но главным полем, из которого вырастали как наказания, так и редкие поощрения (например, право быть аккуратно расчесанной), являлась дневная работа. Труд – мощнейший инструмент терапии, потому на него и нацеливалось основное внимание. После завтрака и недолгой утренней прогулки пациентов делили на группы и отводили туда, где до конца светового дня они предавались исцелению трудом. Одни шили либо вышивали – работа с материей развивает ум и приучает мыслить созидательно. Другие вязали – гармоничные движения спиц умиротворяют душу. Третьи полировали посуду и наносили узоры – орнаменты структурируют мышление. Четвертые (грамотные) переписывали книги – тексты приносят осознание. Ежедневная трудотерапия методично теснила недуг по всему фронту, как сомкнутый строй копейщиков бьет дикарей. Попутно производились товары, которые раз в месяц увозил на продажу парусник. Прибыль, разумеется, тратилась на благо лечебницы – дружной семьи лекарей и пациентов. Дороти прескверно помнила свою жизнь в Маренго, но была абсолютно уверена: нигде еще она не встречала столь мудрого и справедливого уклада.
Одно плохо: труд переписчика нелегко давался Дороти. К своему собственному удивлению, она умела писать. Когда кошмары отпустили ее и пришло время для трудотерапии, магистр Маллин спросил:
– Что ты умеешь?
Она не помнила своих умений и с грустью признала:
– Боюсь, что ничего… Но я сильна, могу помогать медбратьям, если нужно что-нибудь носить, поднимать…
Магистр дал ей карандаш и лист бумаги:
– Напиши это.
Сама не поняв, как так получилось, она вывела: «Боюсь, что…» И тогда воскликнула:
– Ой! Я грамотна!
То было высшее, самое дорогое умение. Дороти отправилась в писчий цех, счастливая от того, что сможет внести столь ценный вклад в благополучие лечебницы. Но в первый же день работы обнаружились препятствия.
Ее очищенный от демонов разум был медлителен и беден мыслями. Она легко и с удовольствием могла четверть часа просидеть на месте, глядя в одну точку. А вот когда приходилось думать, Дороти терялась и путалась. Поди вспомни, в какую сторону смотрит хвостик q, есть ли черта в середине z?.. Дороти не умела концентрироваться, то и дело что-нибудь отвлекало ее. Она работала одна в комнате с окошком, выходящим на скучный пологий склон, но даже там находились помехи: то сядет чайка, то проедет телега. В переписываемой книге встречались то сцены поединков, то описания танцев, то просто слово «чресла» или «перси» – все это вышибало Дороти из колеи и порождало сонмы туманных фантазий. Перед нею ставили песочные часы, чтобы напомнить о времени, – но само течение песка тоже отвлекало: Дороти прилипала взглядом к струйке и не могла вернуться к тексту. В довершение бед, она встречала кучу малознакомых слов – скажем, «сюзерен» или «альтесса». Смутное понимание имелось, но точный смысл ускользал, а без него сложно было запомнить всю фразу целиком, приходилось прыгать глазами от исходника к чистовику и назад. От этого возникали помарки, а их прощалось не больше одной на страницу. Ляпнул вторую – изволь переписать целый лист…
Поначалу рукописной терапии Дороти создавала две-три страницы за день и неизменно получала процедуру. Однако она очень старалась и никогда не говорила «нет», всем своим естеством принимая порядки лечебницы. Потому она избегала «ударов по недугу», в худшем случае получала процедуры на «задуматься»: выносила дерьмо, подмывала лежачих пациентов, рапортовала медбратьям:
– Недуг наполнил меня ленью и праздностью… Мое внимание рассеяно из-за симптомов… Но я встану на путь исцеления и овладею концентрацией…
Конечно, столь сложные фразы она не выдумала бы сама, но запоминала и повторяла их за магистром Маллином, который приходил взглянуть на ее успехи.
Потом она слегка набила руку. Пальцы, наконец, вернули прежнюю подвижность, а в уме закрепился весь нехитрый лексикон исходной книги. (То был роман «Роза и смерть», весьма любимый столичными барышнями, причем любимый именно в рукописном, а не печатном виде: дрожание шрифта усиливало страсти.)
Однажды Дороти встретила в книге большое описание природы, по хитрой задумке автора сплетенное со внутренним миром героини. Дескать, за окном бушевала майская гроза (полстраницы текста о грозе), а в душе героини тем временем бушевали чувства (страничка о бурлящих чувствах). Раз проведя аналогию, автор так увлекся ею, что продолжал еще семь страниц в том же духе. Меж облаков отчаяния проглянул солнечный луч надежды; благотворный дождь романтических мечтаний пролился на рыхлый грунт суетливых будней; под солнцем влюбленности проросли нежные цветочки девичьих фантазий, но порыв штормового ветра тревог и сомнений унес лепестки… Все это было разжевано в мельчайших деталях и ужасающе скучно. Ничто здесь не увлекло Дороти, не вызвало ни чувств, ни эмоций, так что она с механической тупостью шарманки переписала все восемь страниц, не допустив ни одной огрехи. Мастер Густав, надзиравший за переписчиками, впервые остался почти доволен ею и назначил на вечер легкую процедуру: осознание успехов. После ужина полдюжины счастливчиков сели в кружок, восьмикратно повторили молитву лечебницы («Мы находимся в обители любви и заботы, мы идем по пути исцеления…»), а затем стали перечислять свои успехи за день:
– Я успешно и с радостью прошел все утренние процедуры. Я ел с аппетитом и гулял спокойно, не глазел по сторонам, а осознавал себя. Я сделал все, что полагалось за день, и был все время спокойным и радостным, темные мысли ни разу не овладели мною.
Лекарь Финджер хвалил докладчика, а пациенты повторяли хором:
– Ты молодец! Мы очень тобой гордимся! Ты твердо встал на путь исцеления и не собьешься с него.
Здесь Дороти услыхала и запомнила мудрые слова. Тощий паренек, что наносил орнамент на посуду, сказал так:
– Я сегодня расписал четыре тарелки, и сожалею, что не больше. Но вчера я сделал только три тарелки. Радуюсь, что сегодняшний я лучше вчерашнего меня. Чувствую, как моя хворь ослабела за день.
По знаку лекаря Финджера все аплодировали этому парню. Дороти хлопала громче других и чувствовала сильнейшее вдохновение: она очень хотела стать завтра лучше себя сегодняшней! На другой день Дороти жестоко провалила норму – ливень хлестал в окно, это очень будоражило и совсем не давало работать. Она переписала всего четыре страницы, простояла ночь на коленях, но со следующего дня стала прибавлять ежедневно по полстранички. Пять, пять с половиной, шесть страниц – этого все еще было очень мало. Но каждый вечер, отчитываясь перед мастером Густавом, она с гордостью повторяла:
– Я сегодняшняя лучше меня вчерашней на половину страницы. Я чувствую, как слабеет моя хворь!
С каждым днем ей назначали все более легкие процедуры, чтобы поощрить настрой на исцеление. Перевалив за дюжину страниц, Дороти получила первую заметную награду: право работать в общем зале, рядом с другими переписчиками.
* * *
Не считая самой Дороти, их было десять. Если бы она не была младенчески бесхитростной, то поняла бы, сколь исключительное положение занимала эта десятка. Во-первых, писчий зал всегда хорошо освещался и отапливался. Во-вторых, каждому переписчику полагались: удобный стул, нарукавники, личное пресс-папье и набор для чистки перьев, подставка для книг с фиксатором страниц, тазик для мытья рук и чистое полотенце, даже кувшин с питьевой водой. В-третьих, пациенты обоих полов трудились в одном помещении, имея возможность перемолвиться друг с другом. Мастер Густав то работал на своем месте (врисовывал красные буквы в книги), то прохаживался между столами, заглядывая в страницы, – но, пока длился рабочий день, ни на кого не повышал голоса и никого не наказывал. Мудро и справедливо: резко одернешь переписчика – он сделает ошибку и должен будет переделать страницу, а лишняя трата бумаги и времени вредит всей дружной семье. Ради общего блага соблюдались и комфортные условия труда: ведь на двенадцатом часу работы переписчик должен все еще хранить ясность ума и твердость пальцев, чтобы приносить пользу обители любви и заботы. Впрочем, Дороти не понимала всех приятных особенностей здешней обстановки. Просто, сев за свой стол, она почувствовала: здесь хорошо, хочу остаться.
– Я осознаю свою хворь и иду путем исцеления. Я сегодняшняя стану лучше меня вчерашней, – на всякий случай сказала Дороти.
– Ага, – выронил Густав. – Начинай с восьмой главы.
Она заскрипела пером, от старательности прикусив кончик языка. Книга так удобно лежала на пюпитре, глаза так естественно упирались в подставленную взгляду страницу, рука так легко скользила по обитой войлоком столешнице, что почти не возникало соблазна отвлечься. Пару часов Дороти работала без передышки и лишь затем подняла голову оглядеть местную публику.
Переписчики сидели по одному за столом, а столы располагались в три ряда. Пятеро женщин, включая саму Дороти, скучились в левом ряду, шестеро мужчин свободно расположились в двух остальных. Одну из женщин Дороти знала: то была ее соседка по палате, леди Карен. Среди мужчин не знала никого. Конечно, встречала их за завтраком и ужином, но и только.
Просветы меж столами были невелики, так что можно было шепотом перемолвиться с соседом. Впрочем, мало кто отвлекался на болтовню – изредка обменивались парой фраз да иногда проговаривали вслух сложные словечки из книги. Нечастые эти обрывки речи почти не слышались сквозь густой шершавый скрип дюжины перьев. Дороти тоже не стала раскрывать рта. Раз все помалкивают – значит, так нужно для пути исцеления. Вот только мужчина через проход выделялся яркими рыжими усами. Дороти невольно задержала на нем взгляд и хотела заговорить, но он заметил ее внимание, напрягся и прошипел:
– Меня звать Лоренс, и хватит на этом, ладно?
Она отвернулась и подумала: зато напишу много – получу награду. Правда, Дороти не представляла толком, о какой награде мечтает – ведь слухи среди пациентов ярко освещали лишь всевозможные процедуры и почти не касались редких поощрений. Ну и неважно: любая награда – это хорошо! Она сосредоточилась на работе.
В обеденное время обнаружилась еще одна привилегия переписчиков: им дали перерыв на полчаса и – подумать! – принесли перекусить луковые лепешки и яйца. Дороти настолько отвыкла от еды среди дня, что не сразу и поняла, как поступить со снедью. Остальные, напротив, накинулись на кушанье – привыкли, значит, к роскоши. Одна лишь Карен осталась верна своей апатии: брезгливо отодвинула лепешку, срезала верхушку яйца и медленно выела середку. Вот и Дороти взялась за еду, как вдруг заметила на себе пристальный мужской взгляд.
– Как тебя зовут? – спросил миловидный паренек.
– А тебя?
– Меня – Нави, но это неважно, я-то на месте. Тебя зовут как?
– Дороти Слай.
– Дороти! – повторил парень. – Первая буква – четыре, последняя – двадцать семь. Два по пятнадцать, и восемнадцать, и двадцать, и восемь, полная сумма – сто семь, значит, восемь… Ты не там сидишь!
Она не поняла. Парень схватился с места и принялся шагами мерить комнату. Отшагал пять вдоль прохода и очутился у стола Дороти.
– Видишь – пять! А должно быть – восемь! Это по долготе, теперь берем широту.
Более неприятные процедуры назывались «задуматься». Пациента лишали какого-нибудь права – скажем, запить ужин водой (каша тогда подавалась соленой). Запрещали лечь спать вместе со всеми (до середины ночи пациент стоял навытяжку в ярко освещенной комнате). Ставили на колени в деревянной приспособе, не дающей подняться. В течение нескольких часов пациенту полагалось думать о том, как он сегодня потакал недугу и мешал исцелению. Чтобы думал именно об этом и не сбился с мысли, раз в полчаса медбрат тормошил пациента:
– Сделай шаг к осознанию. Перечисли свои симптомы за сегодня.
– Я… э… плохо трудилась, позволила недугу отвлечь себя от работы. Еще я… из-за неосознанности воспротивилась утренней процедуре. Я забыла, что в обители заботы все делается для моего блага…
С тою же целью – чтобы задумался – могли назначить лишний сеанс труда: скажем, вынести и помыть все ведра с нечистотами, перестирать исподнее лежачих больных.
Но все это было приятными мелочами в сравнении с третьей группой процедур, которые звались «удар по недугу». Когда хворь обострялась, лекари решительными мерами заставляли ее отступить. Били по недугу, например, так. Подвешивали пациента головой вниз над пропастью – это звалось «удар страхом». Часами раскручивали на маленькой карусели и раскачивали, как маятник, – «дезориентация хвори». Сжимали череп стальным обручем – «окружающее давление». Фиксировали веки и светили прямо в зрачок мигающим фонарем – «удар светом по тьме недуга». В этих случаях пациенту не предлагали задуматься – да он бы и не смог, ибо частенько терял сознание от боли и ужаса. Хворь отступала перед атакующей мощью терапии, и пациент больше не проявлял симптомов.
Что же называлось симптомами? Прежде всего, нарушения дисциплины. Отказался есть или попробовал сцапать чужую порцию. Тронул человека другого пола. Дерзко ответил на вопрос лекаря, проявил строптивость, воспротивился процедуре. Сказал «нет» по какому-либо поводу. Плохое слово «нет» – камень на пути к исцелению. Нужно открыться терапии и всегда говорить «да».
Тяжелым симптомом считалась «странность»: бедняга сделал нечто такое, чего не ожидалось. Речь шла даже о невинных, но непривычных вещах: зачем-то прочел наизусть балладу о Терезе (наверняка это хитрости хвори), вторично за день захотел помыть руки (паническая боязнь грязи – явный симптом), отказался есть (падение аппетита – знак нездоровой апатии), не вовремя встал из-за стола (нервическая тревожность), не хотел возвращаться с прогулки (боязнь закрытого пространства). Никто, даже старожилы, вроде Карен, не могли сказать, за каким симптомом последует какая процедура. Однако справедливость всегда торжествовала: днем поступил странно – вечером получи процедуру. Однозначность и неизбежность этой связи успокаивала Дороти, виделась частью мудрого мирового порядка.
Но вот что было любопытно и непостижимо: каждому пациенту прощался некий один симптом. Дороти Слай очень плохо помнила свое прошлое, не могла назвать имен родителей и мужа, описать свой дом и улицу – и за это ей не давали процедур; но за все другое следовало наказание. Леди Карен спала в одежде и ела не больше котенка – ей сходило с рук; но попробовал бы кто другой отказаться от ужина. Аннет представлялась при каждой встрече, как при первой, и давала многословные советы – то была ее законная простительная странность, будто родовая привилегия при дворе. Парень через два стола от Дороти любил размахивать руками, как шаван хлыстом, – его тоже не наказывали, только на трапезе связывали рукава за спиною и кормили с ложки…
Но главным полем, из которого вырастали как наказания, так и редкие поощрения (например, право быть аккуратно расчесанной), являлась дневная работа. Труд – мощнейший инструмент терапии, потому на него и нацеливалось основное внимание. После завтрака и недолгой утренней прогулки пациентов делили на группы и отводили туда, где до конца светового дня они предавались исцелению трудом. Одни шили либо вышивали – работа с материей развивает ум и приучает мыслить созидательно. Другие вязали – гармоничные движения спиц умиротворяют душу. Третьи полировали посуду и наносили узоры – орнаменты структурируют мышление. Четвертые (грамотные) переписывали книги – тексты приносят осознание. Ежедневная трудотерапия методично теснила недуг по всему фронту, как сомкнутый строй копейщиков бьет дикарей. Попутно производились товары, которые раз в месяц увозил на продажу парусник. Прибыль, разумеется, тратилась на благо лечебницы – дружной семьи лекарей и пациентов. Дороти прескверно помнила свою жизнь в Маренго, но была абсолютно уверена: нигде еще она не встречала столь мудрого и справедливого уклада.
Одно плохо: труд переписчика нелегко давался Дороти. К своему собственному удивлению, она умела писать. Когда кошмары отпустили ее и пришло время для трудотерапии, магистр Маллин спросил:
– Что ты умеешь?
Она не помнила своих умений и с грустью признала:
– Боюсь, что ничего… Но я сильна, могу помогать медбратьям, если нужно что-нибудь носить, поднимать…
Магистр дал ей карандаш и лист бумаги:
– Напиши это.
Сама не поняв, как так получилось, она вывела: «Боюсь, что…» И тогда воскликнула:
– Ой! Я грамотна!
То было высшее, самое дорогое умение. Дороти отправилась в писчий цех, счастливая от того, что сможет внести столь ценный вклад в благополучие лечебницы. Но в первый же день работы обнаружились препятствия.
Ее очищенный от демонов разум был медлителен и беден мыслями. Она легко и с удовольствием могла четверть часа просидеть на месте, глядя в одну точку. А вот когда приходилось думать, Дороти терялась и путалась. Поди вспомни, в какую сторону смотрит хвостик q, есть ли черта в середине z?.. Дороти не умела концентрироваться, то и дело что-нибудь отвлекало ее. Она работала одна в комнате с окошком, выходящим на скучный пологий склон, но даже там находились помехи: то сядет чайка, то проедет телега. В переписываемой книге встречались то сцены поединков, то описания танцев, то просто слово «чресла» или «перси» – все это вышибало Дороти из колеи и порождало сонмы туманных фантазий. Перед нею ставили песочные часы, чтобы напомнить о времени, – но само течение песка тоже отвлекало: Дороти прилипала взглядом к струйке и не могла вернуться к тексту. В довершение бед, она встречала кучу малознакомых слов – скажем, «сюзерен» или «альтесса». Смутное понимание имелось, но точный смысл ускользал, а без него сложно было запомнить всю фразу целиком, приходилось прыгать глазами от исходника к чистовику и назад. От этого возникали помарки, а их прощалось не больше одной на страницу. Ляпнул вторую – изволь переписать целый лист…
Поначалу рукописной терапии Дороти создавала две-три страницы за день и неизменно получала процедуру. Однако она очень старалась и никогда не говорила «нет», всем своим естеством принимая порядки лечебницы. Потому она избегала «ударов по недугу», в худшем случае получала процедуры на «задуматься»: выносила дерьмо, подмывала лежачих пациентов, рапортовала медбратьям:
– Недуг наполнил меня ленью и праздностью… Мое внимание рассеяно из-за симптомов… Но я встану на путь исцеления и овладею концентрацией…
Конечно, столь сложные фразы она не выдумала бы сама, но запоминала и повторяла их за магистром Маллином, который приходил взглянуть на ее успехи.
Потом она слегка набила руку. Пальцы, наконец, вернули прежнюю подвижность, а в уме закрепился весь нехитрый лексикон исходной книги. (То был роман «Роза и смерть», весьма любимый столичными барышнями, причем любимый именно в рукописном, а не печатном виде: дрожание шрифта усиливало страсти.)
Однажды Дороти встретила в книге большое описание природы, по хитрой задумке автора сплетенное со внутренним миром героини. Дескать, за окном бушевала майская гроза (полстраницы текста о грозе), а в душе героини тем временем бушевали чувства (страничка о бурлящих чувствах). Раз проведя аналогию, автор так увлекся ею, что продолжал еще семь страниц в том же духе. Меж облаков отчаяния проглянул солнечный луч надежды; благотворный дождь романтических мечтаний пролился на рыхлый грунт суетливых будней; под солнцем влюбленности проросли нежные цветочки девичьих фантазий, но порыв штормового ветра тревог и сомнений унес лепестки… Все это было разжевано в мельчайших деталях и ужасающе скучно. Ничто здесь не увлекло Дороти, не вызвало ни чувств, ни эмоций, так что она с механической тупостью шарманки переписала все восемь страниц, не допустив ни одной огрехи. Мастер Густав, надзиравший за переписчиками, впервые остался почти доволен ею и назначил на вечер легкую процедуру: осознание успехов. После ужина полдюжины счастливчиков сели в кружок, восьмикратно повторили молитву лечебницы («Мы находимся в обители любви и заботы, мы идем по пути исцеления…»), а затем стали перечислять свои успехи за день:
– Я успешно и с радостью прошел все утренние процедуры. Я ел с аппетитом и гулял спокойно, не глазел по сторонам, а осознавал себя. Я сделал все, что полагалось за день, и был все время спокойным и радостным, темные мысли ни разу не овладели мною.
Лекарь Финджер хвалил докладчика, а пациенты повторяли хором:
– Ты молодец! Мы очень тобой гордимся! Ты твердо встал на путь исцеления и не собьешься с него.
Здесь Дороти услыхала и запомнила мудрые слова. Тощий паренек, что наносил орнамент на посуду, сказал так:
– Я сегодня расписал четыре тарелки, и сожалею, что не больше. Но вчера я сделал только три тарелки. Радуюсь, что сегодняшний я лучше вчерашнего меня. Чувствую, как моя хворь ослабела за день.
По знаку лекаря Финджера все аплодировали этому парню. Дороти хлопала громче других и чувствовала сильнейшее вдохновение: она очень хотела стать завтра лучше себя сегодняшней! На другой день Дороти жестоко провалила норму – ливень хлестал в окно, это очень будоражило и совсем не давало работать. Она переписала всего четыре страницы, простояла ночь на коленях, но со следующего дня стала прибавлять ежедневно по полстранички. Пять, пять с половиной, шесть страниц – этого все еще было очень мало. Но каждый вечер, отчитываясь перед мастером Густавом, она с гордостью повторяла:
– Я сегодняшняя лучше меня вчерашней на половину страницы. Я чувствую, как слабеет моя хворь!
С каждым днем ей назначали все более легкие процедуры, чтобы поощрить настрой на исцеление. Перевалив за дюжину страниц, Дороти получила первую заметную награду: право работать в общем зале, рядом с другими переписчиками.
* * *
Не считая самой Дороти, их было десять. Если бы она не была младенчески бесхитростной, то поняла бы, сколь исключительное положение занимала эта десятка. Во-первых, писчий зал всегда хорошо освещался и отапливался. Во-вторых, каждому переписчику полагались: удобный стул, нарукавники, личное пресс-папье и набор для чистки перьев, подставка для книг с фиксатором страниц, тазик для мытья рук и чистое полотенце, даже кувшин с питьевой водой. В-третьих, пациенты обоих полов трудились в одном помещении, имея возможность перемолвиться друг с другом. Мастер Густав то работал на своем месте (врисовывал красные буквы в книги), то прохаживался между столами, заглядывая в страницы, – но, пока длился рабочий день, ни на кого не повышал голоса и никого не наказывал. Мудро и справедливо: резко одернешь переписчика – он сделает ошибку и должен будет переделать страницу, а лишняя трата бумаги и времени вредит всей дружной семье. Ради общего блага соблюдались и комфортные условия труда: ведь на двенадцатом часу работы переписчик должен все еще хранить ясность ума и твердость пальцев, чтобы приносить пользу обители любви и заботы. Впрочем, Дороти не понимала всех приятных особенностей здешней обстановки. Просто, сев за свой стол, она почувствовала: здесь хорошо, хочу остаться.
– Я осознаю свою хворь и иду путем исцеления. Я сегодняшняя стану лучше меня вчерашней, – на всякий случай сказала Дороти.
– Ага, – выронил Густав. – Начинай с восьмой главы.
Она заскрипела пером, от старательности прикусив кончик языка. Книга так удобно лежала на пюпитре, глаза так естественно упирались в подставленную взгляду страницу, рука так легко скользила по обитой войлоком столешнице, что почти не возникало соблазна отвлечься. Пару часов Дороти работала без передышки и лишь затем подняла голову оглядеть местную публику.
Переписчики сидели по одному за столом, а столы располагались в три ряда. Пятеро женщин, включая саму Дороти, скучились в левом ряду, шестеро мужчин свободно расположились в двух остальных. Одну из женщин Дороти знала: то была ее соседка по палате, леди Карен. Среди мужчин не знала никого. Конечно, встречала их за завтраком и ужином, но и только.
Просветы меж столами были невелики, так что можно было шепотом перемолвиться с соседом. Впрочем, мало кто отвлекался на болтовню – изредка обменивались парой фраз да иногда проговаривали вслух сложные словечки из книги. Нечастые эти обрывки речи почти не слышались сквозь густой шершавый скрип дюжины перьев. Дороти тоже не стала раскрывать рта. Раз все помалкивают – значит, так нужно для пути исцеления. Вот только мужчина через проход выделялся яркими рыжими усами. Дороти невольно задержала на нем взгляд и хотела заговорить, но он заметил ее внимание, напрягся и прошипел:
– Меня звать Лоренс, и хватит на этом, ладно?
Она отвернулась и подумала: зато напишу много – получу награду. Правда, Дороти не представляла толком, о какой награде мечтает – ведь слухи среди пациентов ярко освещали лишь всевозможные процедуры и почти не касались редких поощрений. Ну и неважно: любая награда – это хорошо! Она сосредоточилась на работе.
В обеденное время обнаружилась еще одна привилегия переписчиков: им дали перерыв на полчаса и – подумать! – принесли перекусить луковые лепешки и яйца. Дороти настолько отвыкла от еды среди дня, что не сразу и поняла, как поступить со снедью. Остальные, напротив, накинулись на кушанье – привыкли, значит, к роскоши. Одна лишь Карен осталась верна своей апатии: брезгливо отодвинула лепешку, срезала верхушку яйца и медленно выела середку. Вот и Дороти взялась за еду, как вдруг заметила на себе пристальный мужской взгляд.
– Как тебя зовут? – спросил миловидный паренек.
– А тебя?
– Меня – Нави, но это неважно, я-то на месте. Тебя зовут как?
– Дороти Слай.
– Дороти! – повторил парень. – Первая буква – четыре, последняя – двадцать семь. Два по пятнадцать, и восемнадцать, и двадцать, и восемь, полная сумма – сто семь, значит, восемь… Ты не там сидишь!
Она не поняла. Парень схватился с места и принялся шагами мерить комнату. Отшагал пять вдоль прохода и очутился у стола Дороти.
– Видишь – пять! А должно быть – восемь! Это по долготе, теперь берем широту.