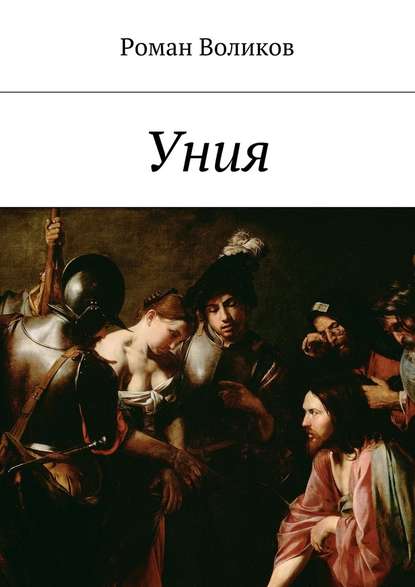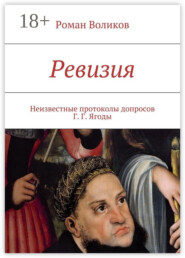По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Уния
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гроши у нас, однако, заканчиваются. Папа клялся взять на себя содержание православных делегаций, после открытия Собора тот же чиновник Ягарий торжественно зачитал папское распоряжение: «В месяц выдавать: императору – 30 флоринов, патриарху – 25, митрополитам – по 20, лицам дворов митрополичьих – по 4 флорина…» Но казначеи папины платить не торопятся, монеты выдают неохотно и своевольно. Как только православные на диспутах ерепениться начинают, тут же рассказывают, что флорины, мол, не подвезли. В общем, голодновато становится. Также слух прошёл, что к Ферраре чума подбирается.
Лето от сотворения мира 6947, день святого первомученика Стефана
Едем во Флоренцию. В начале месяца мокрый снег пошёл, и Палеолог с Папой как снег на голову свалились. Собрали нас всех в соборной божнице святого Георгия, где диспуты проходили. Торжественно было, как при открытии Собора. Папа, облачённый согласно святительскому сану и в рогатом клобуке, сидел на высоком месте, за ним сорок четыре кардинала и бискупа, также облаченные в соответствии с саном. А патриарх и митрополиты в мантиях сидели. Зачитали нам грамоты по-латински и по-гречески, что всему Собору нужно переехать из Феррары во Флоренцию.
Причина, говорят, в том, что чума совсем близко к городу подошла. Исидору же и ещё некоторым митрополитам Палеолог шепнул, что у Папы казна совсем худая. Флорентийский банкир Козимо Медичи по прозвищу Старый, после долгих уговоров, согласился взять на себя расходы. Папа ему за это полное отпущение грехов обещал. Банкиру Козимо, верно, есть в чём покаяться: большие деньги – большие бедствия.
Едем в повозках, запряжённых мулами. Скотина эта неприхотливая, тупая, медлительная. Потому и едем кое-как, по локтю в час. Зима же в Италии скверная, сырая, зябкая. Под стать скотине и погоде настроение наше. Диспуты все, а их в Ферраре пятнадцать прошло, так ничем и не закончились. Латиняне упорно стоят на своём мнении, ни в чём уступать не хотят. Слышал я, что Марк эфесский прилюдно сказал патриарху Иосифу: «Зачем метать бисер перед свиньями?», а патриарх ему попенял за гордыню богомерзкую. Патриарх совсем больной, на диспутах ни разу не присутствовал, дожил бы до окончания Собора.
Латиняне в своих заблуждениях тверды как гранит, а вот в наших рядах, православных, пожалуй, сумятица. Виссарион никейский и Марк эфесский, два главных наших представителя на диспутах, в Царьграде друг друга не сильно жаловали, Марк вовсе не хотел на Собор ехать, Палеолог на его участии настоял. Сдаётся мне, что Марк окончательно разуверился, что компромисса между церквями достигнуть можно. Он, наверное, рад был бы домой вернуться, но сан и положение перед императором не позволяют.
С Виссарионом сложнее. Он, Виссарион, в Царьграде закончил школу знаменитого ритора Мануила Хрисоккока, потом принял монашеский сан, пять лет жил в тихом монастыре в Фессалии. Митрополитом никейским его перед самым Собором назначили и, думаю, неспроста. Из всех князей церкви Виссарион, пожалуй, самый рьяный поборник Унии. Оратор же он знатный, по тому, как речи строит, сразу видно. О такой аудитории, как на Соборе, верно, всю жизнь мечтал. Марк на диспутах строг и непреклонен, Виссарион, напротив, многоречив и витиеват. Когда обсуждали вопрос о блаженстве праведных и Торквемада сослался на Дионисия Ареопагита, Марк возмущенно сказал, что он таких слов у блаженного Дионисия не встречал и намекнул, что латиняне их сами сочинили. Торквемада вспылил и предложил прения завершить. Виссарион тут же поднялся и со словами «мы ещё так много можем сказать прекрасного» говорил часа полтора.
Тот диспут – о разнице в учениях той и другой церкви о состоянии душ отошедших – имел конфузное продолжение. Постановили тогда, что православные напишут письменное мнение по этому вопросу за подписью патриарха. Собрались все митрополиты в келье патриарха Иосифа, долго спорили, прочли вслух многие свидетельства Отцов церкви, и пришли к выводу, что души праведные наслаждаются блаженством, но не полным и не сразу, как утверждают латиняне, а только когда после общего воскресения соединятся они с телами своими. Тогда души праведные, хорошо сказал Марк эфесский, просветятся подобно солнцу. Марку ответ и поручили написать. Виссарион же втайне написал свой ответ, куда более обтекаемый, зато ладно скроенный по законам грамматики. Ответ этот виссарионов, как бы невзначай, ко всем кафолическим кардиналам и бискупам, бывшим в Ферраре, попал. Патриарх Иосиф сделал вид, будто и не произошло ничего. Марк рассердился, хотел Палеологу жаловаться, но, в конце концов, махнул рукой. Что ни говори, не ладят наши иерархи меж собой.
Я, конечно, человек мирской, от богословских вопросов далёкий, только вот не пойму никак, зачем за тридевять земель надо было к латинянам ехать Унию предлагать, если вожди наши одни, подобно Марку эфесскому, стоят в своей непримиримости, как одинокая скала в бушующем море, а другие, подобно Виссариону никейскому, ради сладости красноречия своего готовы и веру забыть и судьбу царьградскую и самоё себя.
В день отъезда из Феррары подслушал я случайно разговор между митрополитом Исидором и владыкой суздальским Аврамием.
– Вижу я, куда вы, греки, клоните, – сказал Аврамий. – Поломаться, как срамные девки, для видимости, а потом на все условия латинян согласиться. Мол, Царьград спасать надо, погаснет свеча, что тогда. Но негоже мне, православному владыке, христопродавцем быть. Не подпишу я такую Унию, Исидор.
– Без твоей подписи не поперхнёмся, – ответил Исидор. – Не по сану честь. А будешь народ баламутить, в темницу посажу.
Тут Исидор меня заметил и осёкся. «Потом поговорим», – сказал он, то ли мне, то ли Аврамию. Со мной пока не говорил.
В дороге меня забавляет наш казначей Антип, мы в одной повозке едем. Антип, как положено казначею, дядька въедливый, с другим таким же въедливым, казначеем патриарха Сиропулом, снюхался. Два этих бедолаги высчитали, что за четыре месяца пребывания в Ферраре папский двор выплатил православным 2691 золотой флорин, должны же были, в соответствии с обещанием, 3425 флоринов. Антип мне эти вычисления по сто раз на дню пересказывает и всё причитает: «Дурят нашего брата, ох, дурят!» Я от этих его причитаний уж вою.
На одной из ночёвок ко мне подошёл Гемист Плифон и пригласил продолжить путь в его повозке. Гемист славный философ нашего времени, и всех великих учёных мужей-мирян Палеолог лишь с ним советуется и иногда с Георгием Схоларием, тоже необъятного ума человеком. Гемист в молодости был очень тучный, за что его и прозвали «плифон». Так как прозвище это было созвучно боготворимому им Платону, он взял его как второе имя.
В моём представлении Гемист возраста почти саваофовского, ему семьдесят девять лет, но в учёных спорах он живее и горячее молодых. Плифон привёз в Италию свое новое сочинение «О разнице учений Платона и Аристотеля» и сразу устроил в Ферраре по царьградской традиции театр. Театр это любопытное действо, происходит в хорошую погоду на улице, в дождь в каком-нибудь помещении, обычно, в харчевне. Собираются образованные люди и спорят между собой на разные темы. Послушать да и сказать что-нибудь, если не стыдно, может всякий желающий, и без всякой платы. Театр, который устроил Плифон, пожалуй, даже интереснее, чем диспуты Вселенского Собора, которые в божнице святого Георгия происходили. Так его речи были дерзки, неожиданны и новы для всех слушающих, привожу по памяти отрывок одной из них: «Сторонники учения об идеях, учения Платона, не думают, что бог есть непосредственный творец нашей вселенной. Он есть создатель иной природы и иной субстанции, более близкой к своей собственной и вечной, которая также пребывает в своей тождественности. Что же касается нашей вселенной, то Бог её создал только через посредство этой субстанции, а не благодаря самое себе. Этот сверхчувственный мир, составленный из различных идей и понятий, и создал нашу вселенную и наш чувственный мир. Наш чувственный мир есть образ этого сверхчувственного мира, как в целом, так и в отдельных частях, не имея ничего, что не от высшего мира, по крайней мере, в том, что требует причины. Ведь все сущее и возникающее нуждается в причине. В тоже время лишения, провалы, все падение в небытие, не требуют, как видно, причины. Скорее всего из-за отсутствия причины происходят вещи такого рода. Отрицания также не имеют причины, ибо они появляются вследствие неучёта причины, которая ставит противоположные утверждения. Для явлений, происходящих в нашем мире случайно, нет чего-то единого наверху, что было бы их причиной. Бесконечные также не имеют наверху особой реальности, однако в сверхчувственном мире имеется идея, которая является единой причиной всех вещей, которые в нашем мире впадают в бесконечность, потому что существа высшего мира никогда не участвуют в количественно бесконечном. Напротив, высшему Богу не свойственна никакая форма множественности, так как он действительно в высшей степени един. С другой стороны, в недрах этого сверхчувственного мира существует множественность, но конечная и никоим образом не бесконечная ни в возможности, ни в действительности. Только в нашем чувственном мире может появиться бесконечность, ибо бесконечность материи её первый признак. Конечно, только от высшего мира материя получает эту причинность, но там не существует бесконечно. Люди размышляют об этих вещах давно, поэтому Аристотель лжёт, когда говорит, что первым начал рассуждать об идеях. До него был Платон, до Платона – его учитель Сократ, до Сократа – пифагорейцы исповедовали это учение, как можно заключить из книги Тимея Локрского. Учение Аристотеля – сухое древо, а Сократ, Платон и пифагорейцы его живые корни, и главный из этих корней – Платон. Аристотель велик, но Платон восхитителен, и только он даёт человеческому уму удовлетворительный ответ на жгучие вопросы познания».
К моему удивлению, латиняне о философе Платоне никогда не слышали, искренне считают самым главным древним мудрецом Аристотеля, поэтому речи Плифона сопровождают восторженными овациями и ходят за ним по Ферраре толпой.
С Гемистом я подружился сам того не предполагая. Я посещал каждый его театр и, как человек скромный, помалкивал в тряпочку, внимая чужой мудрости. В тот раз Плифон рассуждал о месте Пелопоннеса в человеческой истории. Тема ему чрезвычайно близкая, Плифон давно живёт в деспотате Морея, в городе Мистра, который выстроен на развалинах древней Спарты. Из Царьграда его изгнали лет двадцать назад, когда отцу нынешнего императора Мануилу он написал письмо с предложением ликвидировать монастыри и назвал монахов трутнями на теле больного государства.
Театр происходил за городом, на берегу мутноватой от ила речушки, был ясный солнечный день, до того мы с Афанасием распили кувшин вина, закусив отменным куском сыра, который притащила очередная его деваха. Сквозь полудрёму слова Плифона хорошо ложились на душу.
– Хвала императору Палеологу за то, что он восстановил укрепления на Истмийском перешейке, – говорил Плифон. – Ведь именно здесь пролегла та черта, где эллины остановили армуздян персов. Это как бы водораздел между миром варварским и миром культурным, между миром государства Ликурга и неистовством азиатской дикости, где один повелитель, а остальные рабы. Из Пелопоннеса пришли в Италию древние спартанцы, под именем сабинян соединились с латинами и основали Рим. Ведь кто есть турки-османы, как не потомки парасомонов, которых когда-то в Азии изничтожил Александр Великий. Движимые старой и незабытой местью, они алчут нашего падения…
«Ну, пожалуй, про османов это он заливает», – подумал я, взял да и поднял руку, что означало – прошу слова. Афанасий только крякнул как утка.
– Уважаемый ритор! – сказал я. – Твоя мудрость не вызывает сомнений, но я не встречал у Фукидида, Ксенофонта, Плутарха и Страбона упоминаний о паросомонах. Даже если они существовали и являются предками османов, то зачем столько столетий надо было ждать возмездия? Они могли прийти с аварами или уграми, которые из тех же азиатских краев. Также я не вполне понимаю, как древние спартанцы могли оказаться в Италии и зачем им нужно было называть себя сабинянами? Мне кажется, у спартанцев и дома забот хватало.
Тут публика зашикала и освистала меня, я сел обратно на траву, опозоренный. После окончания театра подошёл человек и сказал, что Плифон хочет поговорить со мной. «Чего ты полез! – тихонько проворчал Афанасий. – Скажут, чтобы больше не приходили. Вот обидно будет».
Плифон сидел на небольшом коврике и перекусывал лепешкой с заячьим паштетом.
– Какие похвальные знания для столь юного создания, – сказал Плифон с очевидной издёвкой. – Нам, старикашкам, можно спокойно помирать. Новый Плутарх явился на италийских берегах.
Я покраснел как варёный рак.
– Из каких краев будешь?
– Из Руси, – ответил я.
– Литовской или Московской? – оживился Плифон.
– Московит.
– Много раз хотел побывать, – задорно засмеялся Плифон. – Но уж больно холодно у вас. Твоя мать понтийская гречанка?
– Точно, – удивился я. – Неужели по речи так заметно?
– Заметно, – снова засмеялся Плифон. – Поживешь с моё, многое будешь замечать. Я решил завершить один трактат, недописанный великим Федором Метохитом. Ты слышал об этом человеке?
– Слышал, – сказал я. – Знаменитый царьградский астроном.
– Не только астроном, – продолжил Плифон. – Метохит был человек универсальный, теперь таких нет. Трактат этот логографический, посвящен славянам, живущим за Борисфеном. Поможешь мне?
– Я с радостью, – сказал я. – У меня свободного времени много.
Четыре раза в неделю я приходил в дом, где остановился Гемист, и рассказывал ему о наших обрядах, порядках, традициях, в общем, обо всей нашей жизни. Гемист редко бывал один, обычно вокруг крутились ученики, которые взирали на него подобострастно, как на вновь явленное божество. Меня это немного раздражало, и всё же передо мной постепенно разворачивался невероятный мир этого удивительного человека.
Плифон не был христианином. Не придерживался он и веры в Магомета, Иегову или неведомого Зороастра, про которого любят рассказывать небылицы купцы из-за дербентских железных ворот. Плифон был самым настоящим эллинским язычником, таким же, как Геркулес и Орфей. В учении, которое его ученики так и называли «Эллинская теология», древние греческие боги существовали в строгой и ясной иерархии: Зевс – причина всех причин, Посейдон – посредник между людьми и явлениями, Гера – матушка-природа и так далее: от высокого к низменному. «Пройдёт считанное количество лет, – утверждал Плифон, – христианство и ислам рухнут, как подросший человек выбрасывает игрушки, подаренные ему, когда он был капризным ребенком. Не надо быть великим философом, чтобы понимать: есть ценности вечные, а есть вещи временные, преходящие. Явление Христа в эманации римских умов было вызвано безудержным наступлением варваров, это была наивная попытка спасти тот мир, который рушился у них на глазах. В глазах же варваров, в свою очередь, Иисус и апостолы были куда более приятными существами, чем их жестокие, тупые и ограниченные Перуны, Одины и Армузды. Конечно, в эру Христа и Магомета мир изменился, но ни одна, повторяю, ни одна животрепещущая проблема добродетельного и благополучного существования людей так и не была решена. Значит, надо возвращаться к тому, что придумано до нас и умами лучшими, чем мы».
Разумеется, Гемист вёл такие речи только в узком кругу, и я был польщен, что оказался допущен в этот круг. На диспутах Вселенского Собора, где он порой выступал, Плифон держался рьяным противником латинян. Как нормальный человек нашего времени, он был двуличен.
Гемист кряхтит в повозке. Дождь стучит по войлоку, которым она обтянута.
– Не люблю зиму, – ворчит Гемист. – Как можно всё время жить под дождём? На Пелопоннесе крестьяне в это время делают крепкое вино. Оно желтоватое по цвету, отменно согревает старые кости.
Я смотрю в окошко, вырезанное в войлоке. Серый, унылый, предгорный пейзаж. «В Москве скоро масленица, – думаю я. – Настюшка блины будет печь. Как она там, моя родная».
– Я предупреждал Палеолога, – говорит Плифон, – что это будет судилище, а не Собор. Так оно и вышло.
– Утопающий хватается за любую соломинку. Ты же сам всё понимаешь, господин.
– Но не также бездарно, – возражает Плифон. – Латинянам не до нас. Они все передрались за место под солнцем, столько грязи и желчи излили на Лик Божий, что его уже и не рассмотришь. Надёжные люди сообщили мне, что французский король Карл VII отказался признать Папу Евгения. Король сейчас в Базеле, на Соборе, где осуждают две ереси – современную, богемскую и древнюю, от греков исходящую. Замечательно, нас к извергам гуситам приравняли. Без французского короля крестовый поход против турок утопия. Да и османы совсем не сарацины, которые сражались с крестоносцами в Палестине. Современно организованное государство, которому, пожалуй, можно позавидовать.
– Я заметил, что ты уважительно относишься к неверным, ритор, – сказал я.
– Я был одним из воспитателей нынешнего султана Мурада, – сказал Плифон. – Давно, двадцать пять лет назад. Тогда моя жизнь в Константинополе совсем осложнилась, больно бешено я нападал на монастыри и призывал к их закрытию, – Плифон захихикал. – Когда чем-то сильно увлечён, глупость всегда летит впереди тебя. Мне намекнули, что мой зад хорошо подходит для кола. Я бежал, мои соратники сделали так, будто я попал в плен к туркам. Султан Баязет милостливо принял меня в Андрианополе и назначил учителем своего старшего сына. Так что я хорошо изучил османов, и, поверь, у них чему есть поучиться. Мой воспитанник султан Мурад блестяще образованный человек, который извлекает максимум пользы из дикости своего народа. Кроме того, он искусный политик. Перед самым отплытием Палеолога в Венецию он прислал ему письмо, где предлагал больше надежд возлагать на дружбу с ним, чем с латинянами.
– Не ты ли посоветовал султану написать такое письмо, господин?
– Ты преувеличиваешь моё значение в этом мире. Пусть не покажется тебе это апорией, но я не вижу ничего противоестественного в соседстве мечети и святой Софии.
– Да, мне это трудно представить, – сказал я.