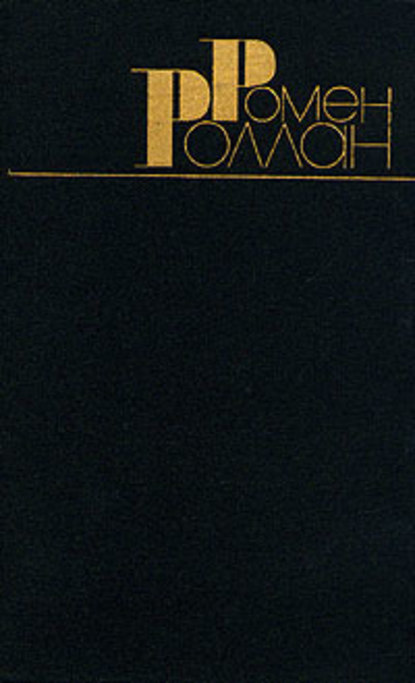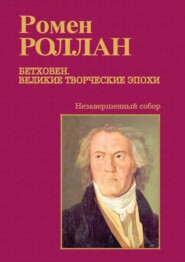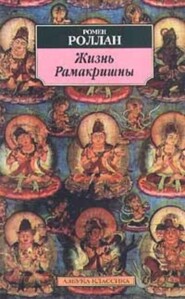По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кола Брюньон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака!..
Господи, я тебя чту и полагаю, при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день, если только не врет поговорка, добрая галльская поговорка: «Кто пьет много, видит бога». Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Ты уж мне разреши оставить тебя в покое; и единственное, о чем я тебя прошу, – это чтобы и ты поступил со мной так же. Нам обоим хватит работы, каждому по своему хозяйству, тебе – в твоей вселенной, и мне – в моем мирке.
Господи, ты мне дал свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распоряжался вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался, каким образом тебе угодно быть вкушаему, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим и моим!.. Моим?
Дудки! У меня врагов нет. Все люди мне друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры… Да, кабы можно было! В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те и другие. Так ладно же, раз, посреди двух станов, я буду вечно бит, начнем бить и мы! Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока, дадимка лучше сами тумака.
Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти хари-стократы, эти политики, эти феодалы, нашей Франции объедалы, которые, воспевая ей хвалу, грабят ее на каждом углу и, покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро, покушаются на Германию, зарятся на Италию и в гинекей к Великому Турку нос суют, готовы поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют!.. Полно, мой друг, успокойся, раздражаться не стоит! Все хорошо и так, как оно есть… пока мы его не улучшим (а это мы сделаем при первой возможности). Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слыхал я, что однажды господь бог (что это я, господи, только о тебе сегодня и говорю?), с Петром прогуливаясь вместе, увидел в Бейанском предместье – сидит женщина сложа руки и умирает от скуки. И до того она скучала, что наш отец, пошарив в доброте сердечной, вытащил, говорят, из кармана сотню вшей, кинул их ей и сказал: «На тебе, дочь моя, позабавься!» И вот женщина, встрепенувшись, начала охотиться; и всякий раз, как ей удавалось подцепить зверюшку, она смеялась от удовольствия. Такая же милость, должно быть, и в том, что небо нас наградило, ради нашего развлечения, этими двуногими тварями, которые гложут нам шкуру. Так будем же веселы, ха-ха! Гниды, говорят, признак здоровья. (Гниды – это наши господа.) Возрадуемся, братья: ибо в таком случае нет никого здоровее нас… И потом, я вам скажу (на ушко): «Терпение! Наша вывезет. Холода, морозы, сволочь лагерная и придворная побудут и пройдут. Добрая земля останется, и мы, чтобы она рожала. Она за один помет с лихвой свое вернет… А пока прикончим мой бочонок! Надо очистить место для будущего урожая».
Моя дочь Мартина мне говорит:
– Ты – бахвал. Тебя послушать, так можно подумать, что ты только глоткой и умеешь действовать: ротозейничать, трезвонить языком, зевать от жажды да на ворон; что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить, как губка; а ты и дня не проживешь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрахом, сорвиголовой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке, туго он набит или налегке; а сам бы заболел, если бы у тебя на дню всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах; ты знаешь до последней копейки все, что издержал с прошлой ПАСХИ, и еще не родился тот человек, который бы тебя надул… Простачок, буйная головушка! Полюбуйтесь на этого ягненка! Знаем ваших ягнят: пусти их втроем – волка съедят…
Я смеюсь, я не возражаю госпоже зубастой. Она права!.. Напрасно она все это говорит. Но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает, ведь я же ее сработал… Чего уж. Кола Брюньон, сознайся, старый ветрогон: как ты там ни блажи, никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой, и у тебя, как у всякого, есть блажь, за пазухой, и ты ее при случае показываешь; но ты ее суешь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувство порядка и рассудок, что ты, забавы ради, можешь и покуролесить: опасно это только простофилям, которые смотрят на тебя, разинув рты, и вздумали бы тебе подражать. Пышные речи, звучные стихи, головокружительные затеи-все это весьма приятно: воодушевляешься, загораешься. Но при этом мы палим только хворост; а самых дров, в сарае сложенных, не трогаем. Фантазия моя оживляется и задает спектакль моему разуму, который ее созерцает, удобно усевшись. Все мне занятно. Театром мне служит вселенная, и я, не вставая с кресла, смотрю комедию: рукоплещу Матамору или Франкатриппе, наслаждаюсь турнирами и царственными празднествами, кричу «бис!» всем этим людям, которые ломают себе шею.
Это они, чтобы доставить нам удовольствие! Дабы его усугубить, я делаю вид, будто и сам участвую в потехе и верю ей. Какое там! Я верю всему этому ровно настолько, чтобы мне было занятно. Так же вот, как я слушаю сказки про фей. И есть не только феи… Есть важный господин, живущий в Эмпирее… Мы его чтим весьма; когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, с песнопениями, мы облекаем в белые простыни стены наших домов. Но между нами… Болтун, прикуси язык! Тут пахнет костром… Господи, я ничего не сказал! Я снимаю перед тобой шляпу…
Конец февраля
Осел, общипав луг, сказал, что стеречь его больше не требуется, и отправился объедать (стеречь, хотел я сказать) другой, по соседству.
Гарнизон господина де Невера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них, жирных, как окорока. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всяческие любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не померз.
– Работай, дядя, – сказал мне Фиакр Болакр, мой постоялец-сержант.
(Так он меня зовет, и по заслугам: «Тот настоящий дядя, кто потчует, в рот не глядя».) – Не жалей трудов и возделывай свой виноградник. На святого Мартына мы к тебе вернемся пить…
Славный народ, всегда готовый прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном!
Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупоривают свои тайнички. Те, что еще недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы сеновальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя. Нет нищего, который бы не сумел весьма умно, охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно, припрятать лучшее свое вино. Я сам (уж и не знаю, как это так вышло), чуть только отбыл мой гость Фиакр Болакр (я проводил его до конца Иудейского предместья), вдруг вспомнил, хлопнув себя по лбу, про некую бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма опечален, как это поймет всякий; но когда зло содеяно, то оно содеяно, и с ним приходится мириться. Я и мирюсь. Болакр, мой племянник, ах, чего вы лишились! Какой нектар, какой букет!.. Но вы не горюйте, мой друг, мой друг, но вы не горюйте: его выпьют за ваше здоровье!
Люди ходят по соседям, из дома в дом. Показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах; и перемигиваются, как авгуры, со взаимными поздравлениями. Толкуют про убытки и напасти (по женской части). Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. Справляются о здоровье супруги Венсана Плювьо. После каждого войскового постоя в городе, по странной случайности, эта доблестная дочь Галлии распускает пояс. Отца поздравляют, восхищаются мощью его плодоносных чресл в час общественного испытания; и по-дружески, смеха ради, без всякого злого умысла, я похлопываю по пузу этого счастливчика, у которого, говорю я, дом ходит с полным животом, когда все прочие при пустом. Все посмеиваются, как и следует, но вежливенько, по-простецки, во весь рот. Однако Плювьо наши поздравления приходятся не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж ее-то счастливый обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад. Что подтвердил и стар и млад.
Но вот и масленица. Как ни плохо мы оснащены, ее надо ознаменовать.
Это дело чести и для города и для каждого из нас. Что сказали бы про Кламси, родину сосисок, если бы к мясоеду у нас не оказалось горчицы?
Сковороды шипят; уличный воздух напоен сладким запахом жира… Прыгай, блин! Выше! Прыгай, для моей Глоди!..
Гром барабанов, переливы флейт. Смех и крики…
Это господа из Иудеи [1 - «Иудеей» прозвано Вифлеемское предместье, населенное кламсийскими сплавщиками. «Рим» – верхний город; это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Мартина к Бевронскому предместью. – Р.Р.] являются на своей колеснице с визитом в Рим.
Во главе идут музыка и алебардщики, рассекающие толпу носами. Носы хоботом, носы копьем, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны, или с птицей на конце. Они расталкивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат. Но все шарахается и бежит перед королем носов, который прет, как таран, и, словно бомбарду, катит свой нос на лафете.
Следует колесница Поста, императора рыбоедов.
Бледны, зелены, хмуры – тощие, дрожащие фигуры, в рясах и скуфьях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске; у другого на вилке, вот, смотри, насажены пескари; у третьего на плечах щучья голова, изо рта у нее торчит плотва, и он разрешается от бремени, пилой вспарывая себе брюхо, полное рыб. У меня, глядя на них, резь в животе начинается… Другие, разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы ее распялить, давятся, запихивая себе в горло (Пить! Пить!
Пить!) яйца, которые не пролезают. Справа и слева, с высоты колесницы – хари совиные, рясы длинные – удильщики тянут на лесках поварят, которые скачут, наподобие козлят, и хапают на лету, кому что попадет, – обсахаренный орешек или птичий помет. А сзади пляшет дьявол, одетый поваром; он мешает в кастрюле большой ложкой; гнусным варевом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках.
Но вот и триумфаторы, герои дня! На троне из окороков, под балдахином из копченых языков, появляется Колбасная королева, увенчанная цервелатами, в ожерелье из сосисок, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами, окруженная гайдуками, белыми и черными колбасами, кламсийскими сосисками, которых Жирколбас, полковник, ведет к победе.
Вооруженные вертелами и шпиговальными иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота – котел или вместо туловища – запеченный паштет и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дижонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней выезжает, под общий хохот, верхом на осле, король рогачей, друг Плювьо. Венсан, это он, он избран! Сидя задом наперед, в высоком тюрбане, со стаканом в руке, он внимает своей гвардии, навербованной из сплавщиков, рогатым чертям, которые, с баграми и шестами на плечах, возвещают зычным голосом, на честном и откровенном французском языке, без всяких покровов, его славное житье и знаменитое бытье. Он, как мудрец, не выказывает при этом суетной гордости; равнодушный, он пьет, промачивает горло; но, поравнявшись с чьим-либо домом, прославленным той же участью, он восклицает, поднимая стакан: «Эй, собрат, за твое здоровье!»
Наконец, замыкая шествие, выступает красавица весна. Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желт и мелок, и перевязь у ней, вокруг маленьких грудей, из сережек зелененьких с орешников тоненьких.
Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поет, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые, как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки, она поет ломким голоском, что скоро ласточка вернется в свой Дом. Рядом с ней на повозке, запряженной четверкой больших белых волов, дородные красотки в самой поре, славные молодухи, стройные и упругие телом, и подростки в невыгодном возрасте, которые, подобно молодым Деревцам, вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостает; но тем, что имеется, волк закусил бы недурно… Милые дурнушки! У одних клетки в руках, полные перелетных птах, другие, черпая из корзины у королевы-весны, кидают ротозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки, предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога.
Доехав до рынка, возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с писцами и приказчиками, в то время как Масленица, Пост и король рогачей продолжают свое торжественное шествие, останавливаясь каждые двадцать шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть ее на дне стакана…
Пить! Пить! Пить!
Не так же друзей отпустить!
Нет!
Среди бургундцев нет такого дурака,
Чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка.
Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет и настроение подмокает. Моего приятеля Венсана с его свитой я покидаю у новой остановки, под сенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке. Надо подышать свежим воздухом!
Мой старый приятель, кюре Шамай, приехавший из своей деревни, в тележке с осликом, попировать у господина настоятеля церкви святого Мартына, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою Глоди. Мы садимся в его трясучку. Пошел, длинноухий!.. Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку, между Глоди и мной… Тянется белая дорога. Дряхлое солнце дремлет; оно не столько греет нас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже и останавливается, погруженный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом:
– Магдалинка! Ослик вздрагивает, перебирает ножками, виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, не внемля никаким разносам.
– Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя на спине, – ворчит Шамай, шпигуя ему палкой бедра, – изломал бы я дубинку о твой хребет!
Чтобы отдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни, на повороте дороги, спускающейся оттуда к белому селению Арм, которое в зеркале вод острой мордочкой пьет. На соседнем лугу, вокруг высокого, раскидистого орешника, подымающего к лучистому небу свои черные руки и свой мощный оголенный остов, девушки ведут хоровод. Идем плясать!.. Это они принесли масленичный блин кумушке-сороке.
– Видишь, Глоди, видишь Марго-сороку, как она уселась в белом жилете, на краю гнезда, вон там высоко-высоко, и смотрит вниз! Ишь, любопытная!
Чтобы все подцепить своим круглым глазком и болтливым язычком, она построила себе дом без окон и дверей, на самой высокой из ветвей, открытый на все стороны. Она и зябнет, она и мокнет, ну так что? Зато ей все видно. Она не в духе, у нее такой вид, словно она говорит: «На что мне ваши подарки? Дурачье, уберите их вон! Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за ним сама? Дареное есть невкусно. Я люблю только краденое».
– Тогда почему же, дедушка, дарят ей блин с этими красивыми лентами?
Почему поздравляют с праздником эту воровку?
– Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду…
– Однако, Кола Брюньон, хорошему ты ее учишь! – ворчит кюре Шамай.
– Я ей не говорю, чтобы это было похвально, я только говорю, что так поступают все, и ты, кюре, первый. Выкатывай глаза! Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая все видит, все знает, всюду сует нос, у которой рот набит злословьем, как мешок, да неужели же ты, чтобы ее унять, не заткнул бы ей клюв блинами?
– О господи, если бы это могло помочь! – восклицает кюре.
– Я Марго оклеветал, она лучше всякой женщины. Ее язык хоть иногда на что-нибудь полезен.
– А на что, дедушка?
– Когда подходит волк, она кричит…