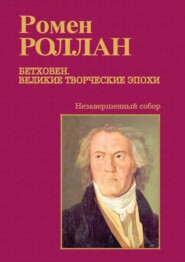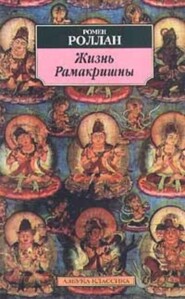По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Его зовут Франц, а меня Жермен… Жермен – француз, а Франц-немец!.. Познакомились мы года за два до войны. Франц уже несколько лет как поселился в Париже. Занимался живописью. Мы жили близко друг от друга: наши комнаты выходили окнами в один и тот же сад. Много месяцев мы прожили почти рядом, ни разу не заговорив друг с другом. Как-то вечером, задумавшись, мы столкнулись на перекрестке. Но вспомнилось это позднее… В вихре парижской жизни, который кружит мужчин и женщин, как листья, можно встречаться, соприкасаться задолго до того, как по-настоящему приметишь друг друга. Но какой-нибудь случайный толчок – и вдруг вспоминаешь: мы уже виделись… Однажды его привел ко мне общий знакомый. И я узнал его…
Ему уже минуло тогда двадцать три года, но он казался совсем юнцом.
На нем еще лежал отпечаток женщины, матери, которую он потерял ребенком.
Тонко очерченное лицо, взволнованное, беспокойное, открытое всем ветрам надежд и подозрений. Свет и тени скользят по нему без перехода. От беспечной доверчивости сразу к разочарованию и подавленности. То он весь нараспашку, то замыкается в себе, враждебный, неприступный. Но я один это замечал и старался объяснить себе. Никто из приятелей Франца не интересовался этим. Люди любят или не любят, но им некогда приглядываться к тем, кого они любят. Да и я тоже долго не обращал на это внимания. Но жизнь заставила меня дорого заплатить за это (я вам уже рассказывал). И я узнал на горьком опыте, что никогда не следует любить ближнего, как самого себя, – люби в нем того, кого он собой представляет, кем он хочет быть, кого ты должен открыть…
Нет, между мной и этим юным иностранцем не было сходства… И именно поэтому… я нуждался в нем! А он нуждался во мне…
Свое детство и годы учения он провел в среде, жестоко угнетавшей его: среде дворянчиков, военных, клерикалов с их узкими нравственными правилами и всеми ненормальностями замкнутой касты. Для его женственной натуры эта среда была чрезмерно груба. Слишком слабый, слишком одинокий, чтобы давать отпор, он волей-неволей подчинился этим правам и мировоззрению. Но на всю жизнь у него осталась от этого рана, как у изнасилованной девушки. Он навсегда остался застенчивым, подозрительным, неуверенным, безвольным, плохо приспособленным к жизни, нелюдимым, с неутоленной потребностью любить, быть любимым, отдавать себя – с вечной болью разочарования. Ведь люди этого склада как будто для того и созданы, чтобы ими злоупотребляли. Они слишком легко обнаруживают свое наиболее уязвимое место. Люди не могут устоять перед соблазном вонзить в такого человека острие ножа, чтобы исторгнуть у него крик боли. Лучше не вооружаться вовсе, чем вооружаться наполовину…
После смерти отца Франц уехал за границу. Он поселился в Париже и попытался забыть дурной сон своего детства. Но мучительное прошлое-все равно что шагреневая кожа, которая стягивается от времени. И причиняет все более острую боль. Однако Париж очаровал юношу, утолил его жажду пластической красоты. Ведь пластическая красота – стихия этого города, ее вдыхаешь там в чистом виде; даже аморальность там ощущается как новое очарование. Но Франц привык жить внутренней жизнью и не мог не почувствовать, как мало дорожат ею окружающие; он страдал от их насмешек, черствости. У него были свои верования; в них завелась червоточина. Он был неспособен в одиночку обороняться от неверия, от притягательной силы наслаждений. А друзья не видели в них ничего опасного, им доставляло удовольствие учить уму-разуму этого варвара. Да и что может быть опасно для тех, которые никого и ничего не принимают всерьез, коль скоро их самих никто и ничто всерьез не принимает! Но Франц, как ни боролся с этим, ко всему относился серьезно… Он шел ко дну, ненавидя свою беззащитность.
В это-то время я и повстречался с ним. Приятели, познакомившие нас, люди милые, но далеко не чуткие, любили его, а такого сорта народ считает это достаточной причиной для бесцеремонного обращения. Их потешали признания, которые они вырывали у него и по доброте душевной передавали другим: это была пожива для всею их кружка. В обществе они показывали Франца, как милую и забавную редкость. Разумеется, его «покровители» (таковыми они считали себя) злоупотребляли услужливостью и застенчивостью Франца. Мадам давала ему поручения, как мальчику на побегушках, или же таскала с собой по большим магазинам, чтобы советоваться и навьючивать на него свои покупки. Хозяин дома читал ему свои литературные упражнения и возлагал на него неприятную обязанность ходить по редакциям. Франц был слуга, которого можно нагрузить до отказа. Зато его шлифовали, муштровали, давали кучу советов, которых он не просил, крали его мысли, выпытывали целомудренно скрытые чувства и выставляли их на всеобщее обозрение, смешные, оголенные, – для его же блага. Сетовать на это было бы черной неблагодарностью.
Он и не сетовал, но, слава богу, он был, на свое счастье, неблагодарным… Это мне стало ясно тотчас же. В натянутой улыбке, которую он вымучивал из себя в ответ на лестные и иронические слова представивших его приятелей, я подметил боль, досаду, мрачную подавленность. Мне не понадобилось объяснений, чтобы почуять это. Одним взглядом я обнял расстояние между ним и его «покровителем». И когда «покровитель» заговорил, я, не отвечая, обратился к тому, кто молчал, – с сочувствием и уважением, которые я испытывал бы к юному Оресту, попавшему в руки варваров Тавриды. Жаль, что вы не видели, как ярко засветились его глаза при первых же моих словах. Он узнал язык своей родины. Родины, которая переживет все Трои, – Дружбы… И уважение, которое душа человека должна выказывать такой же человеческой душе, но которое отпускается столь скупой мерой, взволновало его до слез. Я не подал виду, что замечаю их, и продолжал говорить, чтобы дать ему время совладать со своим смятением. Франц угадал мой умысел, и, как только он пересилил себя, между нами завязалась беседа, вдумчивая и нежная, на глазах у недоумевающего Фоанта. Мы говорили о всяких пустяках. Но все выражал голос, Взгляд спрашивал:
«Ты ли это?»
Голос отвечал:
«Это я, брат мой».
Вернувшись к себе, Франц тотчас же написал мне теплое письмо. На следующий день мы увиделись наедине… Да, я не мог себе даже представить, какой отклик вызовет в этом изголодавшемся сердце порыв выказанной ему симпатии. И уж совсем не мог вообразить, какое место этот пришелец займет в моей жизни. У меня, как у всех, было два-три друга. Я не ждал от них многого, не давал им много и сам. Мы с искренней радостью встречались, оказывали услуги друг другу, но молча соблюдали границы, которые было бы неосторожно переступать. Молодежь, в своем эгоизме, считает их естественными. От других не ждешь того, чего они не ждут от тебя. Француз мерит жизнь и людей собственной мерой. И ничего – сверх меры! Надо уметь вовремя сдержать себя…
Но юный Орест, раскованный мною, не сдерживайся! Он никогда не мерил своих чувств мерой, которой требовала жизнь. Он принес мне дружбу, которая пришлась бы по плечу уже исчезнувшей породе людей. И мне надо было вырасти, чтобы стать достойной ее. Я не очень в этом успел, но делал все, что было в моих силах, потому что этого хотел Франц. Ведь он отдавал мне все. И требовал всего… И, боже мой, думается мне, что – много ли это, мало ли, – он взял все…
После этого длинного повествования – Жермен говорил не спеша, больше для себя, чем для Аннеты, временами замедляя речь, чтобы еще раз пережить некоторые мгновения, – Жермен умолк и впал в раздумье.
Аннета, нагнувшись к нему, старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть очарования. Ее глаза, в которых мелькали тени проходивших перед ней картин, продолжали слушать и после того, как он замолчал. Жермен смотрел в них. Минуты текли в немой беседе. Аннета отлично понимала его. Жермен сказал несколько смущенно, как бы в ответ на мысль Аннеты (он словно извинялся):
– Не занятно ли это? С рождения живешь в собственном обществе, знаешь себя или думаешь, что знаешь… Человек на вид совсем прост, вытесан из одного куска. Все люди как будто на один фасон, как будто вышли готовыми, законченными из магазина… Но стоит столкнуться с любым – и сколько различных существ откроешь под его оболочкой! Кто бы мог подумать, что я обнаружу в себе тоскующую душу любящей матери или сестры?.. Вы смеетесь?..
– Смеюсь над собой, – сказала Аннета. – У меня тоже немало этих тоскующих душ.
– Да, я вижу некоторые из них. Вы – пастушка целого маленького стада.
– И хорошо еще, – сказала Аннета, – если я веду своих баранов, а не они меня!
– Все хотят жить, – сказал Жермен. – Пусть их пасутся!
– А полевой сторож? Они рассмеялись.
– Черт бы побрал наше общество! – сказал Жермен. – Оно признает лишь одно: свод законов.
Подумав, он продолжал:
– Так я, значит, говорил о нашей бедной дружбе. Когда видишь живое существо, которое тонет, что может быть человечнее, чем протянуть ему руку и, как только оно уцепилось за нее, унести его в своих объятиях и печься о нем! Франц с детских лет не знал настоящей привязанности, и за оградой страдания у него накопилось много неизжитой любви. Когда он встретился со мной, шлюзы открылись: поток рванулся наружу. Я попытался оказать сопротивление. Но кто откажется принять дар благородного и живого сердца, которое верит в тебя? Благодаришь его за эту веру, которой у тебя не было. Стараешься заслужить ее. И вот, столкнувшись с этой великой привязанностью, я почувствовал, насколько и мне не хватало ее!.. Если она не была тебе дана, приучаешься жить впроголодь; нужда умудряет, и ничего уже не ждешь от жизни. Но когда возникает такая привязанность, сливая два ума в единое гармоническое целое, начинаешь понимать, как ты тосковал по ней; не постигаешь, как это ты жил без нее – без Дружбы!..
Но о таком открытии можно поведать только тому, кто и сам сделал его.
Никто из моих не мог уяснить себе причины нашей близости… Причины? Их нет! Друг нужен для того, чтобы ты мог быть самим собой. Только вдвоем составляешь полное существо… И вот этого не могут простить окружающие!
Если ты составляешь полного человека вместе с другим, остальные считают себя оскорбленными.
– Мне это чуждо, – сказала Аннета. – За отсутствием любви, которой мне всегда не хватало, я усыновляю любовь других. Кто любит своего друга, любит меня.
– Жадная же вы! – сказал Жермен.
– Мне нечего есть, – возразила Аннета.
– Отсюда и жадность. Блаженны неимущие, ибо псе дается им!
Аннета разочарованно покачала головой:
– Так всегда говорят богачи. Они уверяют бедняка, что ему-то и дано больше, чем всем.
Жермен коснулся ее руки.
– Не так уж вы бедны! В вашей риге много добра.
– Какого?
– Любви, которую вы можете дать.
– Она никому не нужна.
– Подарите мне хоть сноп! Уж я сумею распорядиться им.
– Берите. Чем я могу вам помочь?
Семья Шаваннов никогда не одобряла этой неестественной дружбы, не основанной на слитности социальных интересов – родины, среды, карьеры – и дерзко показывавшей, что она обойдется без них. Провинциальное общество еще до войны считало, что такая тесная близость с немцем есть проявление дурного вкуса. Ее приписывали, как и многое в характере Жермена, стремлению пооригинальничать. В этом краю обыватели с их непреоборимой ленью и привычкой к зубоскальству склонны объяснять рисовкой всякое отступление от шаблона у своих земляков, лишь бы не утруждать себя, не стараться понять. Впрочем, до войны было принято, посмеявшись, проявлять терпимость ко всему непонятному: кому какое дело! А с 1914 года – прощай прекрасное безразличие, облегчавшее жизнь в обществе! Все присвоили себе право надзора над другими, даже чувства подвергались проверке. На любовь без паспорта был наложен запрет! Открыто дружить с немцем считалось непозволительным. На взгляд зятя и сестры Жермена, любовная связь с атаманом какой-нибудь разбойничьей шайки была бы менее противоестественна.
Это были премилые люди, почтенные и ограниченные.
Госпожа де Сейжи, урожденная Шаванн, была старше брата лет на семь, на восемь; она обладала той решительностью мысли, которой не хватало Жермену. Ей незачем было утруждать себя выбором: на каждый случай у нее имелась в запасе одна-единственная мысль, ясная и точно отграниченная, и она сразу читалась на лице г-жи де Сейжи, очерченном твердо и правильно, но в один прием, без доработки: длинный и тонкий нос идет совершенно прямо, без малейшего изгиба, а когда останавливается, то уж ни шагу дальше, даже ноздри поджал. Лоб выпуклый, без единой морщинки. Волосы стянуты, ни одной выбившейся пряди, уши и виски открыты. Брови тонкие, дугой, глаз зоркий. Крошечным рот: узкая дверь, будто для того и созданная, чтобы оставаться на запоре. Жирный подбородок, но кожа туго натянута; ничто не дрогнет, не шевельнется на этом лице; ни единой бороздки нет на нем, кроме прямых волевых линий. Будто написано сверху вниз:
«Спорить бесполезно!» Впрочем, г-жа де Сейжи очень сдержанна и учтива.
Вам не удастся вывести ее из себя! Это воплощенная самоуверенность. Стена. Со стеной не вступают в пререкания, ее обходят; стена отрезывает и замыкает: это ее назначение. И то, что ею отрезано, – не про вас: это частное владение, частная собственность. Каждый – у себя дома, а вы – за порогом!..
Под этим «своим» домом подразумевались первым делом Сейжи-Шаванны, затем город, затем провинция и, наконец, вся Франция. Война все это сплавила в единое целое: в отечество. Но г-жа Сейжи была в центре. Как председательница местной организации Союза французских женщин, она считала себя правомочной говорить от имени всех женщин. А во Франции женщина – значит весь дом. Г-жа де Сейжи не была феминисткой, как и большинство француженок, – ведь фактическая власть в их руках; права им ни к чему – это, по их мнению, костыль для хромых. Г-жа де Сейжи-Шаванн считала, что она отвечает за всех мужчин, принадлежащих к ее дому. И они ее не посрамили: один дал себя убить (г-н де Марей), другой получил тяжелое ранение (ее брат), а что касается ее мужа, артиллерийского капитана, то он вот уже полгода как находился под верденским ураганом. Это не значит, что она была героиней в духе Корнеля. Она любила своих Горациев.
Она не стремилась к тому, чтобы они умирали. Она ходила за ними, не щадя сил. Будь на то ее воля, она разделила бы их судьбу. Но перенесенных испытаний она бы от них не отвратила. Франция, родной край, родной город, Сейжи – они всегда правы. И эту правоту надо доказать делом. Без дела – правота ничто. Мое право (справедливо или несправедливо) и есть настоящее право. Пусть погибнут все Сейжи и Франция, но от своего права я не отступлюсь… Г-жа де Сейжи была потомком героических сутяг прошлого.
Война, жизнь, смерть – это тяжба. Лучше просудить последнее, но не идти на мировую…
Понятно, что такого сорта женщине не стоит и говорить о правах противной стороны!.. Она гордится своим братом: он оборонял Францию, а она энергично обороняет его от приближающейся смерти. Но она предпочла бы дать ему умереть, чем потворствовать его позорной слабости – дружбе с немцем. Она знает об этой дружбе, но ей не угодно знать. И Жермен подписывается под этим. Между ними – безмолвный уговор. Кто любит, тот не хочет оскорблять – не только словами (г-жа де Сейжи – воплощенное самообладание), но и мысленно (это еще хуже) – дорогое ему имя.