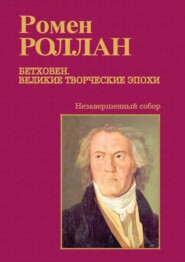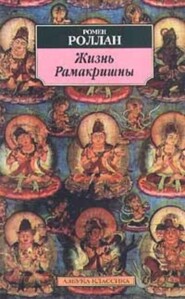По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь в плену была для Франца не так уж мучительна. Его лагерь пользовался некоторыми льготами. Немало пленных работало в городе, и все, что от них требовалось, это аккуратно являться утром и вечером на перекличку. Наблюдение было поверхностное: пленных не считали опасными, а побег, если бы им взбрела на ум такая мысль, за дальностью расстояния от границы казался невозможным. И в самом деле, никто не помышлял о бегстве. В большинстве своем эти честные люди, поселившиеся во Франции до 1914 года, хоть и тосковали по родным, оставшимся в Гешиании, не стремились делить с ними опасности и участвовать в боях. Местные мелкие буржуа, сыны этого обильного и сонного западного края, прекрасно их понимали. И говорили им об этом без обиняков.
Франца поставили на малярную работу. Он был на побегушках у комендантши. Он белил простенки в ее гостиной и освежал выцветшие розовые зады пастушек, игравших с амурами, которых разбросал по потолку один из старых учеников Буше. Работа эта не была бы ему неприятна, если бы комендантша не помыкала им, как лакеем, считая это одним из своих неотъемлемых преимуществ перед подневольным «бошем». Гордый и робкий юноша, наделенный обостренной аристократической чувствительностью, страдал от таких обид, которые ничуть не задели бы его товарищей. Может быть, именно поэтому милая дама все более входила во вкус. У самки, даже самой грубой, когда в ней разгораются жестокие инстинкты, всегда хватит тонкости, чтобы разобраться в чувствах своей жертвы.
Франц по окончании работы вышел на улицу в таком состоянии, точно с него содрали кожу. Ему бы насладиться добрым глотком воздуха и трубкой, произнести «уф» и вместе с дымом выдохнуть все свои заботы в мягкий сумерки (небо в этот вечер было нежным и теплым, как щечка абрикоса), а он плелся подавленный и удрученный. В это время к нему подошла Аннета.
– Франц шарахнулся. Женщин он боялся до дикости, хотя и тянулся к ним. Аннета окликнула его. Не останавливаясь, встревоженный и раздраженный, он бросил на нее искоса хмурый взгляд и сдвинул брови, как будто она посягала на его невинность. Аннета с улыбкой смотрела на юного Иосифа, защищавшего свою одежду. Она сказала:
– Меня послал Жермен.
Франц, растерявшись, остановился.
– Жермен Шаванн… – прошептал он.
Он искал ответа в ее глазах. Аннета движением век подтвердила:
«Да».
Франц схватил ее за руку и потащил за собой.
Он шел впереди и волочил ее, как нетерпеливый ребенок, озадаченная Аннета не пыталась высвободить руку, хотя и боялась, как бы их не заприметили. Но час был поздний; никто не попался им навстречу, кроме маленькой крестьянки, которая, увидев их, рассмеялась, Франц вышел по какой-то глухой улочке в поле. Вокруг фруктового сада шла полуразрушенная стена. Они уселись рядом, касаясь друг друга коленями, в проломе, защищенном от глаз прохожих выступом стены. Наклонившись к Аннете и не выпуская ее рук, Франц спросил с мольбою в голосе:
– Жермен? В сумеречном свете Аннета видела пронзавшие ее глаза, глаза требовательного нищего. Они торопили ее и мешали заговорить. Она смотрела в эти изменчивые глаза: они то недоверчиво ускользали от нее, то порывисто отдавались и вдруг меркли, как бы погруженные в дремоту. У него были светло-каштановые волосы, выпуклый лоб, тонко очерченный нос, пухлые губы и ребяческое выражение лица: постоянное смутное ожидание радости или боли. Ребенок. Ставя его рядом с тем образом, который нарисовал ей Жермен, Аннета не могла понять, чем этот юноша мог внушить ему такое чувство…
Франц нетерпеливо стискивал ей пальцы, напоминая, что он ждет ответа.
Она заговорила о далеком друге, но Франц то и дело перебивал ее вопросами, а когда Аннета стала рассказывать о болезни Жермена, ей самой пришлось прервать свой рассказ: она увидела, что Франц взволнован, и постаралась успокоить его, – скрыть тревогу об отсутствующем, щадя того, кто был здесь…
Из лагеря донесся звук рожка, и тут оба вспомнили, что он уже однажды протрубил. Пришлось расстаться. Аннета не без труда уговорила Франца вернуться, посулив ему назавтра продолжительную встречу. Они уже собирались разойтись, как вдруг Франц увидел руки Аннеты, за которые все еще крепко держался. И посмотрел на них. Посмотрел на свои.
– Эти руки касались его… – сказал он и, прильнув лицом к ее ладоням, стал вбирать в себя их запах.
Аннета очень скоро поняла, что Франц не способен составить план действий и выполнить его. Не то чтобы ему не хватало мужества: он был готов поставить на карту все; скорее приходилось опасаться, как бы он не принял очертя голову какое-нибудь (нечаянное решение, Едва Аннета намекнула на возможность побега, он сразу так загорелся, выказал такое безрассудство, что Аннета осеклась и решила таить в себе задуманное: ведь один опрометчивый шаг – и дело может сорваться. Надо все подготовить помимо него, а ему открыться лишь тогда, когда придет пора действовать. И то еще ее брало сомнение, способен ли он действовать самостоятельно.
Придется водить его за руку, шаг за шагом. Надежда на успех, и без того шаткая, при таких условиях почти равнялась нулю. Однако Аннета не думала отступать. Она была верна своему обещанию, она была захвачена этой страстью, этой удивительной дружбой, двойным потоком, который бил в нее, как в островок, лежащий на слиянии двух рек. Островок недвижим, но в водовороте именно он кажется движущимся. Во всей этой буре чувств она как будто была посторонним лицом, но испытывала от нее головокружение.
Два друга, казалось, охмелели и утратили всякое ощущение действительности; их соединяли узы рыцарства, созданного страстной душой как оружие против мира, который их отрицает, как своеобразный мятеж против своеобразной формы гнета. Это рыцарство доходило до героизма у старшего и более сильного, у Жермена, который заслонял собой в битве более слабого и на пороге смерти переносил на своего молодого товарища всю оставшуюся у него любовь к жизни. У младшего, запертого во враждебном ему мире, дружба переходила – в мистическое обоготворение друга-покровителя, который на расстоянии рисовался ему почти сверхъестественным существом, как святые в храмах. Нужна была война, чтобы так раздвинуть естественные границы чувств и придать им необыкновенное величие. В обычное время они удержались бы на средней высоте, в рамках повседневной жизни. Опасность и лихорадочное напряжение подняли их на вершины, куда можно вознестись лишь на крыльях молитвы. Для цельных душ, уже наполовину отрешившихся от жизни, дружба, как и молитва, один из путей к божеству. Из трех друзей ни один – ни Жермен, ни Франц, ни Аннета – не верили в бога. И никто из них не видел, что бог, как Юпитер в своих превращениях, принял в них форму дружбы. Они были полны им. Они сгорали от нетерпения пожертвовать ему собой.
Из всех троих в самом странном положении находилась Аннета. Она не испытывала пока ни к тому, ни к другому ничего похожего на любовь. Она не переходила границ братского сочувствия, этого влечения настоящей женщины ко всякому обездоленному существу, если оно страдает, если оно нуждается в ней; в особенности когда это существо – мужчина, ибо его сокрушенная мощь еще больше волнует и притягивает. Но так как – Жермен и Франц не могли встретиться и действовать, она испытывала те чувства, которыми они обменивались через нее. Они любили друг друга в ней, своей поверенной, а действовать предоставили ей одной.
Опасная затея! Не безумие ли браться за ее осуществление? Да, безумие, думала Аннета, оставшись наедине с собой, и ей хотелось затормозить. Но машина двинулась, и с каждым оборотом колеса Аннета увязала все глубже.
Очутившись в поезде, снова уносившем ее в Париж, Аннета содрогнулась от ужаса. Она вдруг увидела все необоримые препятствия и опасности. Она не находила способа выполнить молчаливый договор, который заключила с двумя друзьями. Аннета казалась самой себе муравьем, который силится вытащить соломинку из-под каменной громады. Если даже он ухитрится высвободить соломинку, не расплющит ли его вместе с его добычей нависшая над ним глыба? Но подобная опасность не останавливает муравья. А для Аннеты она, пожалуй, была еще одним двигателем. Для той частицы ее души, которая не выносит грубой угрозы. Но на ее другое «я», более слабое, минутами нападал страх.
«Боже мой, во что это я ввязалась? Нельзя ли отказаться, отступить, убежать? Кто меня толкает на это?»
«Я сама».
Аннета одиноко стояла перед громадой, которая называлась Государством. Она смотрела в грозное лицо отечества. Она очутилась под пятой разгневанных великих Богинь. Они могли ее уничтожить, но не могли покорить. Она утратила веру в них. Как только она вновь обрела первичные и священные чувства, попранные бесчеловечными колоссами, – любовь и дружбу, – все прочее для нее померкло, ото прочее – сила. А против силы – душа!
Безумие? Пусть. Но, значит, безумие-это тоже душа. Благодаря этому безумию я живу, я иду вперед над пропастью, как апостол шел по волнам.
Она приехала во вторник на Пасхе; в Париже она могла пробыть только последние пять дней своего отпуска. У равнодушного Марка это вызывало горькое разочарование. Полгода назад можно было бы подумать, что ему нужна жертва, – нужно причинять страдания. (Вполне человеческая слабость! Любящее сердце для того и создано, чтобы им злоупотребляли…).
Но Марк потерял охоту злоупотреблять им. Да Аннета теперь и не допустила бы этого. Положение изменилось. За последние полгода Марк основательно провеял свои привязанности – и любовные и дружеские. Осталось больше трухи, чем зерна. У него был жесткий, до странности острый взгляд, безжалостный к тому, на ком он останавливался, – к себе самому или другим, не все ли равно! Это были не глаза его матери, немного близорукие, горячие, блестящие. И не глаза его тетки, напоминавшие озорного воробышка, который на лету подбирает все смешное, которому все без разбора годится для смеха и еды. Марк не был так неприхотлив, все найденное он разрубал на части; после этой операции от его случайных приятелей редко оставалось что-нибудь ценное и полновесное. Марк упорно добирался до самой середки и находил в ней червяка, пустоту или грязь. И среди всей этой трухи устояло лишь одно-единственное зерно: сердце его матери.
Как он ни изощрялся, оно оставалось нетронутым. Он еще не знал, что внутри этого зерна. Но то, что оно осталось цельным, без следа какой-либо порчи, внушало ему уважение, и тайное желание проникнуть туда… Он очень любил Сильвию, но в этом чувстве была примесь ласкового презрения.
Впрочем, Сильвия платила ему той же монетой. Марк мог полагаться на нее, как на сообщницу, и был ей за это признателен: когда справедливость нарушали ради него, он не возражал. (только чтобы из него не строили дурачка – к дуракам он был безжалостен). Но Марк по-разному относился к Сильвии и Аннете. Чтобы завоевать душу Аннеты, стоило потрудиться. Ведь за последние полгода ему стало ясно еще кое-что: мать любит его, но власти над ней у него нет. Материнская любовь – сильный и надежный инстинкт, однако Марк хочет большего: не только любить, но узнать и быть узнанным, владеть самым потаенным, лучшим, не матерью, а человеком. Мать – она и есть мать: безыменная наседка. Но у каждого человека своя скрытая сущность, неповторимая, источающая свой особый аромат. Марк почуял этот аромат. Он хотел добраться сквозь скорлупу до душистого ядра: «Ты, которая есть, ты, существующая один только раз! Я хочу вырвать у тебя твою тайну…»
Зачем? Чтобы отбросить ее, насытившись? Души подростков, этих маленьких грызунов, жаждут обладать, но ничего не умеют хранить. Хорошо, если сокровище, на которое они зарятся, защищено от их зубов.
У Аннеты оно было под надежной охраной. Пусть в улыбке ее прекрасных губ читалась готовность отдать себя всю, о она сама не владела ключом от шкатулки, где хранилась тайна ее существа, и не могла принести ее в дар. К счастью для нее. Сколько было случаев расточить этот клад! Это неприкосновенное убежище влекло к себе Марка; маленькому норманну хотелось силой ворваться в святилище.
Он возлагал надежды на пасхальные каникулы. Но мать не приезжала, и он с досады грыз себе ногти. Когда, наконец, она явилась, больше недели было потеряно зря! Надо было поскорее восстановить близость, которую она столько раз предлагала ему и от которой он открещивался. Он ждал, что она снова, как в прошлые каникулы, даст ему для этого повод, и если его хорошенько попросят, он на сей раз соблаговолят откликнуться…
Но на сей раз у Аннеты голова была занята Другим. Мать не делала первого шага к сближению. У него свои тайны? Превосходно! Пусть хранит их.
У нее свои, и она тоже хранит их.
Марку ничего не оставалось, как наблюдать эту «чужую» женщину, самую близкую – и такую далекую – свою мать. Разве попытаться подсмотреть снаружи, сквозь ставни? Еще так недавно подсмотреть хотелось ей, а он отгораживался от нее. Унизительная перемена ролей!
Она нисколько не отгораживалась…
«Смотри, если хочешь!»
Она не обращала на него внимания. И это было всего оскорбительнее!
Волей-неволей он проглотил эту бессознательно нанесенную ему обиду: любопытство и сила притяжения перевешивали самолюбие.
В этой женщине его теперь изумляли покой и равновесие, которые она сумела сохранить среди пыльного вихря душ, кружившихся по воле ветра.
Дом походил на разбитый корабль. Сломанные машины, изнемогающий экипаж, в душах – тайфун. На дверях снова был отпечатан – красным и черным – знак смерти. Аполлина покончила с собой спустя некоторое время после отъезда Аннеты, но Аннете это стало известно только сейчас: Сильвия умышленно молчала. В конце ноября в Сене было найдено тело этой обезумевшей женщины. Никто не знал, куда девался Алексис: он канул в бездну забвения… Братья Бернарден канули в другую бездну, именуемую доблестью, – подобную тем эпическим рвам, куда сваливают в Андалусии туши растерзанных быками лошадей. Они остались на глинистом дне Соммы, которое так долго месили адские пальцы своей и вражеской артиллерии: на поверхность не всплыло ничего. Горе, как смерч, обрушилось на семью Бернарденов. Несколько секунд – и род их уничтожен. Свежая рана еще горела – ведь с тех пор прошло всего каких-нибудь две недели. Бернарден-отец походил на раненого быка, глаза его налились кровью, его ярость я его вера вступили друг с другом в жестокий бой; были минуты, когда он схватывался с богом. Но бог был могущественнее, и раздавленный человек, понурив голову, сдался.
В первую же ночь после своего приезда Аннета оказалась вместе со всем поредевшим стадом в подвале дома, где их собрала воздушная тревога.
Здесь не было и следа любезности и оживления первой поры, когда люди жались друг к другу, стремясь слить воедино свою веру и свои надежды и тем еще укрепить их. Правда, все старались соблюдать внешние приличия и видимость взаимного участия, но чувствовалось, что каждая семья – а в семье каждый человек – замыкается в своей, высохшей ячейке. Все казались утомленными, раздраженными. Нотки гнева, страдания прорывались при самом невинном обмене учтивостями. Почти у всех этих бедных людей было на счету немало обид, разочарований, утрат, горечи… Но кому предъявите этот счет? Где прячется Должник?.. Не находя его, каждый срывал свое горе на ближнем.
В апреле 1917 года по всей Франции шло глухое брожение. Грянула Русская Революция. От северного сияния окрасилось кровью небо. Первые вести о Революции получились в Париже три недели назад, а на прошлой неделе, в Вербное воскресенье, ее бурно приветствовал на митинге народ Парижа. Но у него не было вождей, никто им не руководил, ни малейшего единства действий; множество противоречивых откликов, множество одиночек, которые страдали, но не знали, как им сплотиться; разбить их не представляло бы никакого труда. Дух революции распылялся на отдельные вспышки возмущения. Они разъедали армию. Эти полки, эти бунтари сами не знали, чего хотят, как и несчастные обитатели дома, и их палачам это было на руку. Все хорошо знали одно: они страдают – и искали, на ком выместить это страдание.
Озлобление сквозило в жестах, в голосах (больше, чем в словах). жильцов, когда они «отсиживались» в подвале. Им не приходило в голосу сложить вместе свои ноши; каждый как будто сравнивал свою ношу с чужой, как будто упрекал соседей в том, что ему досталось влачить самую тяжелую. Бернарден и Жирер несли бремя своей утраты, сторонясь друг друга.
Они не разговаривали, только холодно раскланивались. Горе имело свои пределы. Они их не переступали.
Аннета выразила горячее сочувствие Урсуле и Жюстине Бернарден. Робких девушек, которые никогда ни словом не перекидывались с ней, поразил этот порыв симпатии; они покраснели от волнения, но застенчивость и недоверие взяли свое, и, отойдя от Аннеты, они спрятались за своей траурной вуалью – ушли в свою раковину. Аннета не настаивала. Если другие нуждались в ней, она была готова протянуть им руку, но сама в других не нуждалась. У нее не было желания навязывать себя или свои идеи.
В подвале шел разговор, в котором проглядывал холодный фанатизм.
Клапье излагал содержание нового фильма: «Восстаньте, мертвые!», где разоблачались преступления немцев. Одна из надписей гласила: