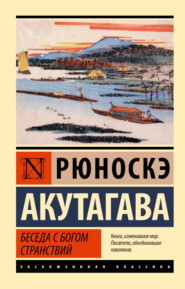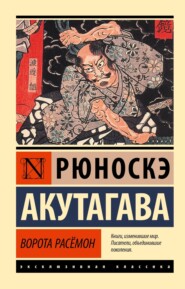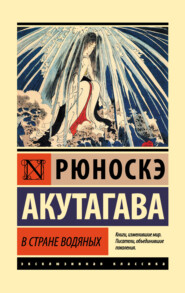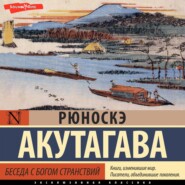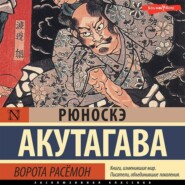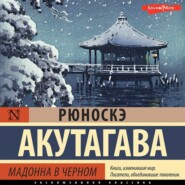По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ворота Расёмон
Автор
Жанр
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что ещё лето, – стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, – и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.
Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска всё-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с чёрными лицами и руками, – кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.
Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз – ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За всё время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Ма?кита, тоже кадет, как и я, нашёл украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нара?сима. Там же нашёлся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.
Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого – «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радёшеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, – они чувствовали себя прямо счастливчиками. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.
Я-то был ещё неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник – нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причём в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли ещё живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.
Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!
Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго – так строго, что штатскому даже не понять, – соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация – великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.
Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:
– Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.
– Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, всё будет в порядке.
– Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим – удерёт.
– Пусть удирает. Обезьяна – она и есть обезьяна.
Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз.
Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль – снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого – полученных в подарок, у кого – купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватали нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, – в общем, всё было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, её не упустили. Один из них схватил её за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию – двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и ещё до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел её такую унылую – хоть обезьяна, а всё же жалко стало», – говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.
Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблёскивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, – прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена, и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.
Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всём теле. Оно – как бы это сказать? – было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьём в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрей, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.
– Нарасима!
Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный – Нарасима.
Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, всё так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» – этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли – и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остаётся, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесётся, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и ещё более этим раздражённый, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.
Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы – вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слёз глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подёргивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо – его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение – его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом своё описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе – так сильно потрясло меня лицо матроса.
– Негодяй! Чего тебе тут надо? – сказал я.
И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» – я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчётливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».
Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало моё собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.
Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключённых там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключённых нет ничего. Помню у Достоевского в «Мёртвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остаётся лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, – веснушчатый, робкий, тихий человечек…
Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошёл Макита и шутливо сказал:
– Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.
Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.
– Нарасима – человек. Он не обезьяна, – ответил я резко и отошёл от борта.
Остальные, конечно, удивились: мы с Макита ещё в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.
Шагая по палубе от кормы к носу, я с тёплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, ещё презирали его – невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже тёмной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.
Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решёткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.
Сентябрь 1916 г.
Носовой платок
Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетёном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга.
Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Драматургию», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как учёный, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»[1 - «Из глубины» (лат.).] и «Замыслы» Оскара Уайльда – книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.
Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в жёлтом холщовом переплёте на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.
Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарём японской культуре. Профессор был убеждён, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришёл к заключению, что, кроме бусидо – этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И, возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарём японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.
Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушённо покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее:
«…Когда актёр находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический приём…»
Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Ба?йко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:
– Послушайте, кто такой этот – Байко?
– Байко? Байко – актёр театра Тэйко?ку в Маруноу?ти. Сейчас он играет роль Миса?о в десятом акте пьесы «Тайко?ки», – вежливо ответил студент в дешёвеньких хакама.
Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.
С потолка веранды свисает ещё не зажжённый фонарь-гифу. А в плетёном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Драматургию» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод – значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу… Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове, – чистым наслаждениям профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами…
Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисия?ма То?куко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокойно оправляя на себе лёгкое кимоно из шёлкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идёт о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.
Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приёмную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в лёгкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из чёрного шёлкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застёжка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу «марумагэ» – это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолица, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости – интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что её лицо он уже где-то видел.
– Хасэгава, – любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.
– Я мать Нисия?ма Конъитиро?, – ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.
Нисияма Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лёг в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.
– А, Нисияма-кун… вот как! – Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: – Прошу.
Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска всё-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с чёрными лицами и руками, – кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.
Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз – ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За всё время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Ма?кита, тоже кадет, как и я, нашёл украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нара?сима. Там же нашёлся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.
Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого – «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радёшеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, – они чувствовали себя прямо счастливчиками. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.
Я-то был ещё неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник – нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причём в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли ещё живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.
Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!
Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго – так строго, что штатскому даже не понять, – соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация – великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.
Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:
– Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.
– Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, всё будет в порядке.
– Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим – удерёт.
– Пусть удирает. Обезьяна – она и есть обезьяна.
Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз.
Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль – снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого – полученных в подарок, у кого – купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватали нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, – в общем, всё было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, её не упустили. Один из них схватил её за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию – двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и ещё до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел её такую унылую – хоть обезьяна, а всё же жалко стало», – говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.
Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблёскивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, – прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена, и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.
Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всём теле. Оно – как бы это сказать? – было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьём в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрей, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.
– Нарасима!
Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный – Нарасима.
Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, всё так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» – этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли – и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остаётся, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесётся, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и ещё более этим раздражённый, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.
Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы – вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слёз глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подёргивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо – его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение – его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом своё описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе – так сильно потрясло меня лицо матроса.
– Негодяй! Чего тебе тут надо? – сказал я.
И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» – я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчётливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».
Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало моё собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.
Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключённых там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключённых нет ничего. Помню у Достоевского в «Мёртвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остаётся лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, – веснушчатый, робкий, тихий человечек…
Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошёл Макита и шутливо сказал:
– Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.
Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.
– Нарасима – человек. Он не обезьяна, – ответил я резко и отошёл от борта.
Остальные, конечно, удивились: мы с Макита ещё в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.
Шагая по палубе от кормы к носу, я с тёплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, ещё презирали его – невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже тёмной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.
Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решёткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.
Сентябрь 1916 г.
Носовой платок
Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетёном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга.
Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Драматургию», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как учёный, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»[1 - «Из глубины» (лат.).] и «Замыслы» Оскара Уайльда – книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.
Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в жёлтом холщовом переплёте на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.
Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарём японской культуре. Профессор был убеждён, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришёл к заключению, что, кроме бусидо – этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И, возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарём японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.
Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушённо покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее:
«…Когда актёр находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический приём…»
Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Ба?йко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:
– Послушайте, кто такой этот – Байко?
– Байко? Байко – актёр театра Тэйко?ку в Маруноу?ти. Сейчас он играет роль Миса?о в десятом акте пьесы «Тайко?ки», – вежливо ответил студент в дешёвеньких хакама.
Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.
С потолка веранды свисает ещё не зажжённый фонарь-гифу. А в плетёном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Драматургию» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод – значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу… Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове, – чистым наслаждениям профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами…
Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисия?ма То?куко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокойно оправляя на себе лёгкое кимоно из шёлкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идёт о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.
Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приёмную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в лёгкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из чёрного шёлкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застёжка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу «марумагэ» – это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолица, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости – интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что её лицо он уже где-то видел.
– Хасэгава, – любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.
– Я мать Нисия?ма Конъитиро?, – ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.
Нисияма Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лёг в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.
– А, Нисияма-кун… вот как! – Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: – Прошу.