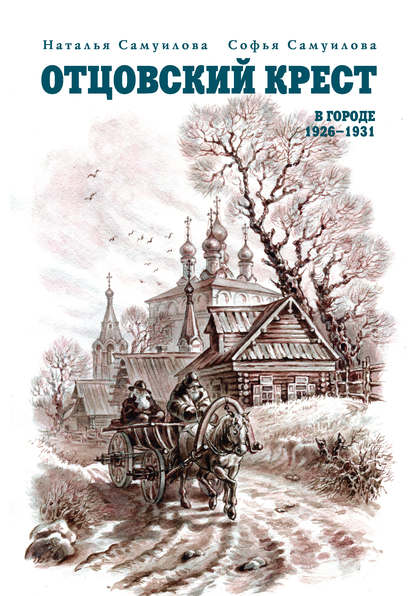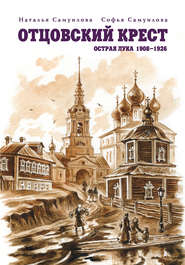По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отцовский крест. В городе. 1926–1931
Год написания книги
1996
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не могут начать сразу! – горячился он. – Священник возглас даст, а они «докают» да «микают», камертон разогревают.
Эта привычка не беспокоиться о непрерывности богослужения, задавать и перезадавать тон иногда в самые важные моменты, даже во время Евхаристийного канона, волновала и о. Сергия. Еще больше его возмущало то, что даже в эти моменты регент и певчие считаются только с собой, по собственной фантазии выбирая то очень быстрый, то очень медленный напев.
Во время Евхаристийного канона, хотя бы и не сам служил, хочется сосредоточиться, углубиться, – говорил о. Сергий, объясняя, почему не выходит в это время исповедовать. Он и в селе перестал руководить хором отчасти для того, чтобы не рассеиваться. – А то читаешь тайные молитвы и прислушиваешься, как певчие такую-то и такую-то ноту возьмут.
В селе он мог не следить за пением, знал, что певчие возьмут нужный темп и кончат одновременно с ним, а если поторопятся, то и повторят последние слова. А здесь?
– Я евхаристийные молитвы читаю, в это время все должно идти по порядку, в привычном ритме, чтобы не нарушалось молитвенное настроение, – жаловался он. – А тут читаешь и слышишь, что на клиросе молчат: спели что-то быстрое и меня поджидают. Тут невольно начинаешь нервничать, торопиться. А то еще хуже, дойдешь до самого важного момента, скажешь начало стиха, нужно возглашать: «Приимите, ядите!» – а певчие все свои рулады выводят. Вот и сохрани тут молитвенное настроение перед самым Пресуществлением!
Он ненадолго замолкал, чтобы дать почувствовать серьезность сказанного, особенно если его собеседником был Михаил Васильевич, потом продолжал.
– Рассказывали про митрополита Филарета Киевского, что ему однажды пришлось служить в присутствии императора Николая Первого. Придворные перед началом шепнули митрополиту что, мол, его величество торопится, нужно кончить литургию за час. А он два прослужил и на сделанное ему замечание ответил: «В присутствии Царя Небесного я не могу помнить о земном». Знаете, что Николай Первый из себя представлял? А вы хотите, чтобы я к певчим приноравливался!
По поводу какого-то такого «Господи, помилуй», в котором сопрано выделывает замысловатые коленца, один слушатель высказался так: «Посмотрел бы я, как она запоет „Господи, помилуй“, когда смерть пред собой увидит; пожалуй, забудет все эти выкрутасы-то».
Глава 6
Новоселье
Едва квартира была приведена в порядок, устроили новоселье. У о. Сергия собралась та же компания, которая была на поминках у Моченевых, только Михаил Васильевич на этот раз явился «со своей Панюркой». Они вместе с дьяконом Медведевым пришли первыми. Михаил Васильевич хозяйским взглядом окинул знакомую комнату. Она совершенно изменилась: трюмо, фисгармония, книжный шкаф, небольшой красивый буфет, какие были в моде, когда о. Сергий женился, портреты его родителей на стенах. Но чего-то не хватало: исчез корявый, полузасохший фикус, который раньше занимал середину комнаты.
– А где же древо жизни? Выбросили? – спросил Михаил Васильевич, здороваясь.
Дьякона Федора Трофимовича заинтересовал японский лакированный альбом, лежавший на столике перед трюмо. Мальчики, приехавшие на каникулы из с. Приволжья, где они учились, подсели к нему, и Костя начал объяснять, кто изображен на фотографиях. Евгений Егорыч Самуилов… он же с женой… Юлия Гурьевна.
Отец Сергий с женой вскоре после рукоположения, еще с короткими волосами и пушком вместо бороды. Братья обоих супругов в студенческой и военной форме. Юлия Гурьевна с двумя красавцами сыновьями. Отец Сергий, вернее, маленький Сережа Самуилов, то один, то с братьями, то на руках у матери… Федор Трофимович перевернул еще один лист; с небольшой «визитной» фотографии на него взглянуло юношеское лицо с задумчивыми глазами и светлыми волосами. Федор Трофимович перевел взгляд с фотографии на Костю, снова на фотографию, опять на Костю и сказал чуть-чуть укоризненно, словно тот хотел его обмануть: «Да это и не ты!»
– Не я, – подтвердил Костя. – Это папа.
– Похож ты на отца. Я сначала подумал, что ты.
В прихожей хлопнула дверь. Вошли Жаровы, и следом за ними сразу четверо Моченевых. Жаровы, как и в прошлый раз, были принаряжены. Димитрий Васильевич в новеньком костюме, Женя – в светлой шелковой кофточке и высоких сапожках с пуговицами. Эти сапожки, из дорогой кожи, на белой шелковой подкладке, Димитрий Васильевич недавно купил за 35 рублей и уже хвастался ими перед сослуживцами. Михаил Васильевич тогда сокрушался, что не имеет возможности подарить такие своей жене, а о. Сергий возмущался.
Отдал за сапожки чуть не весь месячный заработок! Конечно, им родители помогают, и те, и другие, да не в том дело. Если и средства позволяют, недопустимо бросать такие деньги на наряды.
Все гости, за исключением матушки Моченевой и отца дьякона, не переступавшего в своих музыкальных познаниях за пределы церковных служб, были певцами. Они заинтересовались грудой нот, лежавших около фисгармонии, и после молебна и обеда занялись ими. Там было несколько тетрадей с партитурами опер, кипа различных печатных нот, но больше всего рукописных, оставшихся от того времени, когда квартиру Самуиловых каждое лето наполняла музыкальная молодежь, братья и сестры хозяев.
– Споем? – предложил кто-то из гостей. – Отец Сергий, найдите что-нибудь хорошенькое!
Отец Сергий порылся в нотах и вытащил четыре тоненькие тетрадочки.
– Вот! Полностью все голоса сохранились! Знакомо ли это вам? «Дай, добрый товарищ, мне руку свою».
– Знакомо. Хорошая вещь! – потеплевшим голосом отозвался о. Александр.
Молодежь была не настолько осведомлена, но Прасковья Степановна смело взяла тетрадь с надписью «Дискант». К ней подошла Женя Моченева. Женя Жарова, единственный альт, получила свою тетрадь в единоличное пользование, мужчины сгруппировались у двух других. Отец Сергий, знавший теноровую партию наизусть, приготовился аккомпанировать. Но пение не пошло. Мелодия оказалась красивой, но довольно трудной, а молодежь не привыкла петь с листа, без подготовки. Все-таки им не хотелось отступать, и, когда батюшки отошли, они продолжали перебирать ноты, пробовали спеть то одно, то другое.
– А ваши дети не поют? – спросила Софья Ивановна Моченева, заметив, что дети хозяина присоединились к сидящим за столом.
– Нет, не поют. И желание есть, да певческих данных нет. Отец Сергий не стал подробно распространяться о том, что являлось его больным местом. Когда-то давно он много пел с детьми и убедился, что певцами они не будут. Поэтому он не стал тратить дорогого времени на обучение их теории пения, а все свободные часы употреблял на другое – занимался с мальчиками богословскими предметами, необходимыми будущему священнику. В надежде на то, что его сыновья пойдут по этому пути, он еще в Острой Луке требовал, чтобы они вставали на клирос, читали и пели там, на практике знакомясь с уставом и гласовым пением. Миша выполнял это без особого энтузиазма, зато Костя с большой готовностью, но у него была слабая грудь, заставлявшая опасаться туберкулеза, и петь ему было трудно. Соня в епархиальном училище начала было учиться пению и музыке, но все заглохло, когда ее в 1917 году взяли из третьего класса. Миша одно время увлекался скрипкой. Отец Сергий по случаю купил ему недорогой инструмент, чтобы неопытный музыкант не испортил тона хорошей скрипки, и вскоре они вдвоем уже исполняли несложные скрипичные дуэты и украинские песенки. Потом бурей налетели события 1923-25 гг. и направили мысли в другую сторону. Теперь пределом музыкальных знаний всех четверых являлось умение одним пальцем наиграть на фисгармонии любимую мелодию.
Должно быть, Софья Ивановна поняла, что крылось за коротким ответом о. Сергия, потому что добавила: «Наташе самое время вставать на правый клирос, начинать учиться петь».
Конечно, о. Сергий и сам уже думал об этом. Именно в этом возрасте начинало большинство певчих. Если бы она стала сейчас петь, возможно, что и голосок у нее развился бы, и она постепенно научилась бы разбираться в нотах, хотя бы вот так, как эти молодые певчие. А еще чему научилась бы она там? Болтать, считать из всей службы заслуживающим внимания одно нотное пение? И он сказал:
– Пусть лучше учится молиться.
Точку зрения о. Сергия неожиданно поддержали давнишние, почти забытые знакомые Юлии Гурьевны, сестры Кильдюшевские, из которых младшая, Александра Михайловна, была ее одноклассницей по епархиальному училищу, а вторая, Людмила Михайловна, одноклассницей ее старшей сестры, Ольги Гурьевны. Самая старшая, Аполлинария Михайловна, была одной из старейших самарских епархиалок. Она окончила училище во втором выпуске и сразу же, еще совсем молодой девушкой, была назначена классной дамой в том классе, где учились ее сестры и Юленька, а впоследствии много лет была начальницей своего родного училища. В свое время все сестры пели в хоре, сначала там, а потом в тех селах, где жили. Лучшей певицей считалась Александра Михайловна, которая даже была солисткой в епархиальном училище. И именно она отчетливо выразила свое «еретическое» отношение к хору, с которым соглашались все сестры.
Ведь это мы, только когда стояли на клиросе, считали, что принесем кому-то пользу, если разучим новый концерт, – вспоминала она, – а теперь я вижу, что мы делали это для себя. Нам самим было приятно и лестно сознавать, какие трудные вещи мы научились петь. А слушателям, вроде меня теперь, гораздо дороже простое пение, под него легче молиться. И Наташе нечего делать на клиросе.
Последняя сестра, Юлия Михайловна, была года на два старше Александры Михайловны, ей было под семьдесят лет. Это была очень красивая старушка, с волнистыми серебряными волосами и большими кроткими глазами. Она единственная из сестер выходила замуж. Ее мужем был монастырский священник о. Павел Смеловский. В прошлом году сестры, сложив свои маленькие средства, приобрели при его содействии домик в городе. Тогда еще, познакомившись с о. Сергием, они передавали приветы и поклоны Юлии Гурьевне и с нетерпением ожидали ее приезда. Осенью о. Павел умер, едва успев отремонтировать домик и перевезти в него жену и своячениц. Осиротевшие старушки ждали Юлию Гурьевну так, словно надеялись новым знакомством отчасти возместить недавнюю утрату. Действительно, скоро между семьями установились близкие, почти родственные отношения.
Юлия Гурьевна гораздо спокойнее отнеслась к предстоящей встрече с подругой детства, но это сближение оказалось приятным и полезным и для нее, давая ей возможность отвлечься от домашних забот и волнений. Оно даже в какой-то мере смягчало ее тоску о детях.
Каждый год она месяца на два, на три уезжала из дома и гостила у дочери, сына и сестры. Дети не раз уговаривали ее остаться у них навсегда, но она возвращалась туда, где чувствовала себя более необходимой. Однако, считая своим домом дом зятя, она сильно скучала о детях, беспокоилась, если долго не получала писем.
– Что-то Санечка (или Миша) не пишет, – упоминала она сначала вскользь; через день-два заговаривала об этом настойчивее, а еще через некоторое время ее беспокойство переходило в настоящую тревогу.
– Что-нибудь случилось с ними, – волновалась она. – Заболели. У Миши грудь слабая, не дай Бог воспаление легких! А Санечка постоянно в поле, и до лаборатории далеко ходить, долго ли простудиться!
Письмо приходило, когда тревога достигала наивысшей степени, и это повторялось с такой регулярностью, что Соня, успокаивая бабушку, уверенно говорила о ее волнении как о следствии передачи мыслей на расстоянии.
– Они начинают подумывать, что пора бы написать письмо, убеждала девушка, – а вы в это время начинаете думать, что давно их не получаете. Может быть, происходит и наоборот: сначала вы подумаете, и тем у них пробудите первую мысль о письме. Только едва ли и они обладают такой же способностью воспринимать мысли. Эта мысль приходит все чаще, но все что-то мешает, наконец они садятся писать, а у вас поднимается беспокойство: заболели. А когда письмо опущено в ящик и уже приближается, вы места себе не находите. И вот наконец…
С этой теорией был согласен и о. Сергий. Иногда он даже командовал дочери: «Ну-ка, Соня, запиши, какое сегодня число. Бабушка начала беспокоиться». Скоро приходило письмо, дата которого была очень близка к записанной. Полученное письмо Юлия Гурьевна перечитывала несколько раз, обсуждая все его подробности, без конца рассматривая новые фотографии. А в свободное время она доставала свой толстый семейный альбом и небольшую шкатулочку, обтянутую потертым зеленым бархатом, где хранились самые мелкие фотографии, и тихо рассматривала их. Когда очередь доходила до маленькой карточки, с которой смотрели обрамленные зимними шапками детские личики ее самарских внуков, она слегка улыбалась: ей вспоминалось определение, сделанное одним островским попечителем. Он пришел к о. Сергию в то время, когда Юлия Гурьевна, любуясь только что полученным снимком, сказала, что малыш Вова выглядит тихоньким, будто и не он.
– Что, разве озорковатый? – спросил Василий Максимович, с интересом заглядывая через ее плечо. – А взгляд-то хозяйственный.
Глава 7
Домашние заботы
На Святки Кильдюшевские в первый раз пришли к Юлии Гурьевне и были встречены необычным образом. Двери квартиры были открыты, из них полз едкий дым с запахом горелой краски, а посредине выходящей в прихожую двери спальни виднелось черное, вздувшееся пузырями пятно.
Произошло вот что: ожидая редких гостей, Соня поскорее прибежала из церкви, натаскала полную прихожую бурьяна-чернобыла, которым отапливалась половина города, растопила печь и пошла в кухню ставить самовар. Когда она выглянула, бурьян пылал. От напора воздуха печная дверца открылась, пламя «вымахнуло» в комнату и подожгло приготовленный запас. Хорошо еще, что девушка была в кухне и могла схватить ведро воды и быстро ликвидировать начавшийся пожар; если бы она отошла в какую-то из двух комнат, дело могло кончиться хуже.
Кто знает, если бы в этой массивной изразцовой печке вместо нескольких корзин чернобыла сжигать столько же охапок хороших дубовых дров, может быть, в квартире было бы тепло. Но в степном безлесном городке дрова были редки и дороги; русские печи топили кизяком, а голландки – соломой, подсолнечными стеблями и вот этим чернобылом. Он давал большое пламя, очень много золы и не так-то много полезного тепла; печь от него прогревалась плохо и быстро остывала; в квартире, по пословице, можно было волков морозить. Еще в спальне, где устроились все три женщины, было теплее: там имелось всего одно окно и туда выходили две стороны печки. Зато в зале, угловой комнате, открытой трем четвертям всех ветров, бушующих по широкой равнине, окон было четыре, а от печи в нее выглядывала только одна небольшая стенка возле самой двери.
Представляя себе жизнь в городе, Самуиловы были довольны, что вместо деревянной избы, в какой жили последние годы, они опять поселятся в более поместительной городской квартире, где можно расставить всю мебель и каждому иметь свой уголок. Общим советом даже определили, что в дальней, наиболее светлой и наиболее уютной части залы можно устроить кабинет для отца Сергия, использовав в качестве перегородки фисгармонию. «Кабинет» отгородили, поставили туда кровать и письменный стол, но пользоваться им не пришлось: по температуре он не намного отличался от сарая. Заниматься о. Сергий выходил к обеденному столу, приткнувшемуся около печки, сюда же поближе перетащили и кровать. Вскоре и этого оказалось мало, и он перебрался на небольшую кухонную печь. В маленькой полутемной кухоньке, с окном в коридор, тоже стоял собачий холод, но печные кирпичи сохраняли на ночь небольшой запас тепла, и о. Сергий, хоть с трудом, умащивался по диагонали печки. В довершение всех прелестей, внизу, у самой печки, мирно посапывал теленок. Это превысило даже непоколебимое терпение о. Сергия, и теленка, маленькую телочку, на которую возлагались большие надежды, вскоре продали за бесценок.
Что ни дальше, все заметнее становилась правота о. Сергия, предположившего, что в материальном отношении в городе будет тяжелее, чем в деревне. В конце концов, в селе жили не только на церковный доход, но и благодаря своему хозяйству. Был небольшой посев, огород, пчелы, корова, козы и куры. Сена накашивали сами, с выделенной в лугах на общих правах делянки, как и все, заготовляли в лесу дрова – переросший хворост и дубовую мелочь. Осенью, по прадедовскому обычаю, хоть и очень тяжелому для отца Сергия, он обходил село со сбором капусты, шерсти, хлеба, дополняя таким образом то, чего не добрал в своем хозяйстве. После этого осенью, в урожайные годы, можно было чувствовать себя обеспеченным всем необходимым «до нового».
В городе не было уверенности ни в чем. За все нужно было платить, а сколько получат в следующем месяце – неизвестно. Еще в зимние праздники и Великим постом доход был побольше, а пройдет Троица – и клади зубы на полку на все лето. О каких-нибудь заготовках на зиму не могло быть и речи, впору хоть зимой откладывать на лето. Зимой же всякий лишний рубль съедало отопление. Не только чернобыл, но и кизяки, по-местному – пласты, покупали на базаре возами. А закрутит на недельку-другую буран, позанесет все дороги – и хоть сиди с нетопленой печью. Подвоз прекращается, отдельных смельчаков, не испугавшихся погоды, ловят еще за городом. Если крестьянин окажется упорным и не захочет продавать, пока не увидит, что делается на базаре, то за ним бежит целая толпа покупателей и он заламывает такую цену что этих покупателей, несмотря на мороз, в жар бросает. Вдобавок, в такой обстановке некогда не только торговаться, но и посмотреть товар, и, когда привезешь покупку на двор, может оказаться, что воз только снаружи обложен приличными кизяками, а внутри – одни сырые, промерзшие крошки. Даже если покупка оказалась сравнительно удачной, хозяин и хозяйка оценивали ее по-разному.
– Посмотри, какие я пласты купил, не поднимешь! – хвалился жене о. Александр. Матушка горестно всплескивала руками: «Саша, да тут же одна земля!»
Отец Сергий никогда не попадал впросак, покупая в селе пласты оптом на год, а то и на два. Там товар был налицо, делали для себя, а здесь с каждым возом новые сюрпризы. Впрочем, он скоро покончил с этими недоразумениями.
Эта привычка не беспокоиться о непрерывности богослужения, задавать и перезадавать тон иногда в самые важные моменты, даже во время Евхаристийного канона, волновала и о. Сергия. Еще больше его возмущало то, что даже в эти моменты регент и певчие считаются только с собой, по собственной фантазии выбирая то очень быстрый, то очень медленный напев.
Во время Евхаристийного канона, хотя бы и не сам служил, хочется сосредоточиться, углубиться, – говорил о. Сергий, объясняя, почему не выходит в это время исповедовать. Он и в селе перестал руководить хором отчасти для того, чтобы не рассеиваться. – А то читаешь тайные молитвы и прислушиваешься, как певчие такую-то и такую-то ноту возьмут.
В селе он мог не следить за пением, знал, что певчие возьмут нужный темп и кончат одновременно с ним, а если поторопятся, то и повторят последние слова. А здесь?
– Я евхаристийные молитвы читаю, в это время все должно идти по порядку, в привычном ритме, чтобы не нарушалось молитвенное настроение, – жаловался он. – А тут читаешь и слышишь, что на клиросе молчат: спели что-то быстрое и меня поджидают. Тут невольно начинаешь нервничать, торопиться. А то еще хуже, дойдешь до самого важного момента, скажешь начало стиха, нужно возглашать: «Приимите, ядите!» – а певчие все свои рулады выводят. Вот и сохрани тут молитвенное настроение перед самым Пресуществлением!
Он ненадолго замолкал, чтобы дать почувствовать серьезность сказанного, особенно если его собеседником был Михаил Васильевич, потом продолжал.
– Рассказывали про митрополита Филарета Киевского, что ему однажды пришлось служить в присутствии императора Николая Первого. Придворные перед началом шепнули митрополиту что, мол, его величество торопится, нужно кончить литургию за час. А он два прослужил и на сделанное ему замечание ответил: «В присутствии Царя Небесного я не могу помнить о земном». Знаете, что Николай Первый из себя представлял? А вы хотите, чтобы я к певчим приноравливался!
По поводу какого-то такого «Господи, помилуй», в котором сопрано выделывает замысловатые коленца, один слушатель высказался так: «Посмотрел бы я, как она запоет „Господи, помилуй“, когда смерть пред собой увидит; пожалуй, забудет все эти выкрутасы-то».
Глава 6
Новоселье
Едва квартира была приведена в порядок, устроили новоселье. У о. Сергия собралась та же компания, которая была на поминках у Моченевых, только Михаил Васильевич на этот раз явился «со своей Панюркой». Они вместе с дьяконом Медведевым пришли первыми. Михаил Васильевич хозяйским взглядом окинул знакомую комнату. Она совершенно изменилась: трюмо, фисгармония, книжный шкаф, небольшой красивый буфет, какие были в моде, когда о. Сергий женился, портреты его родителей на стенах. Но чего-то не хватало: исчез корявый, полузасохший фикус, который раньше занимал середину комнаты.
– А где же древо жизни? Выбросили? – спросил Михаил Васильевич, здороваясь.
Дьякона Федора Трофимовича заинтересовал японский лакированный альбом, лежавший на столике перед трюмо. Мальчики, приехавшие на каникулы из с. Приволжья, где они учились, подсели к нему, и Костя начал объяснять, кто изображен на фотографиях. Евгений Егорыч Самуилов… он же с женой… Юлия Гурьевна.
Отец Сергий с женой вскоре после рукоположения, еще с короткими волосами и пушком вместо бороды. Братья обоих супругов в студенческой и военной форме. Юлия Гурьевна с двумя красавцами сыновьями. Отец Сергий, вернее, маленький Сережа Самуилов, то один, то с братьями, то на руках у матери… Федор Трофимович перевернул еще один лист; с небольшой «визитной» фотографии на него взглянуло юношеское лицо с задумчивыми глазами и светлыми волосами. Федор Трофимович перевел взгляд с фотографии на Костю, снова на фотографию, опять на Костю и сказал чуть-чуть укоризненно, словно тот хотел его обмануть: «Да это и не ты!»
– Не я, – подтвердил Костя. – Это папа.
– Похож ты на отца. Я сначала подумал, что ты.
В прихожей хлопнула дверь. Вошли Жаровы, и следом за ними сразу четверо Моченевых. Жаровы, как и в прошлый раз, были принаряжены. Димитрий Васильевич в новеньком костюме, Женя – в светлой шелковой кофточке и высоких сапожках с пуговицами. Эти сапожки, из дорогой кожи, на белой шелковой подкладке, Димитрий Васильевич недавно купил за 35 рублей и уже хвастался ими перед сослуживцами. Михаил Васильевич тогда сокрушался, что не имеет возможности подарить такие своей жене, а о. Сергий возмущался.
Отдал за сапожки чуть не весь месячный заработок! Конечно, им родители помогают, и те, и другие, да не в том дело. Если и средства позволяют, недопустимо бросать такие деньги на наряды.
Все гости, за исключением матушки Моченевой и отца дьякона, не переступавшего в своих музыкальных познаниях за пределы церковных служб, были певцами. Они заинтересовались грудой нот, лежавших около фисгармонии, и после молебна и обеда занялись ими. Там было несколько тетрадей с партитурами опер, кипа различных печатных нот, но больше всего рукописных, оставшихся от того времени, когда квартиру Самуиловых каждое лето наполняла музыкальная молодежь, братья и сестры хозяев.
– Споем? – предложил кто-то из гостей. – Отец Сергий, найдите что-нибудь хорошенькое!
Отец Сергий порылся в нотах и вытащил четыре тоненькие тетрадочки.
– Вот! Полностью все голоса сохранились! Знакомо ли это вам? «Дай, добрый товарищ, мне руку свою».
– Знакомо. Хорошая вещь! – потеплевшим голосом отозвался о. Александр.
Молодежь была не настолько осведомлена, но Прасковья Степановна смело взяла тетрадь с надписью «Дискант». К ней подошла Женя Моченева. Женя Жарова, единственный альт, получила свою тетрадь в единоличное пользование, мужчины сгруппировались у двух других. Отец Сергий, знавший теноровую партию наизусть, приготовился аккомпанировать. Но пение не пошло. Мелодия оказалась красивой, но довольно трудной, а молодежь не привыкла петь с листа, без подготовки. Все-таки им не хотелось отступать, и, когда батюшки отошли, они продолжали перебирать ноты, пробовали спеть то одно, то другое.
– А ваши дети не поют? – спросила Софья Ивановна Моченева, заметив, что дети хозяина присоединились к сидящим за столом.
– Нет, не поют. И желание есть, да певческих данных нет. Отец Сергий не стал подробно распространяться о том, что являлось его больным местом. Когда-то давно он много пел с детьми и убедился, что певцами они не будут. Поэтому он не стал тратить дорогого времени на обучение их теории пения, а все свободные часы употреблял на другое – занимался с мальчиками богословскими предметами, необходимыми будущему священнику. В надежде на то, что его сыновья пойдут по этому пути, он еще в Острой Луке требовал, чтобы они вставали на клирос, читали и пели там, на практике знакомясь с уставом и гласовым пением. Миша выполнял это без особого энтузиазма, зато Костя с большой готовностью, но у него была слабая грудь, заставлявшая опасаться туберкулеза, и петь ему было трудно. Соня в епархиальном училище начала было учиться пению и музыке, но все заглохло, когда ее в 1917 году взяли из третьего класса. Миша одно время увлекался скрипкой. Отец Сергий по случаю купил ему недорогой инструмент, чтобы неопытный музыкант не испортил тона хорошей скрипки, и вскоре они вдвоем уже исполняли несложные скрипичные дуэты и украинские песенки. Потом бурей налетели события 1923-25 гг. и направили мысли в другую сторону. Теперь пределом музыкальных знаний всех четверых являлось умение одним пальцем наиграть на фисгармонии любимую мелодию.
Должно быть, Софья Ивановна поняла, что крылось за коротким ответом о. Сергия, потому что добавила: «Наташе самое время вставать на правый клирос, начинать учиться петь».
Конечно, о. Сергий и сам уже думал об этом. Именно в этом возрасте начинало большинство певчих. Если бы она стала сейчас петь, возможно, что и голосок у нее развился бы, и она постепенно научилась бы разбираться в нотах, хотя бы вот так, как эти молодые певчие. А еще чему научилась бы она там? Болтать, считать из всей службы заслуживающим внимания одно нотное пение? И он сказал:
– Пусть лучше учится молиться.
Точку зрения о. Сергия неожиданно поддержали давнишние, почти забытые знакомые Юлии Гурьевны, сестры Кильдюшевские, из которых младшая, Александра Михайловна, была ее одноклассницей по епархиальному училищу, а вторая, Людмила Михайловна, одноклассницей ее старшей сестры, Ольги Гурьевны. Самая старшая, Аполлинария Михайловна, была одной из старейших самарских епархиалок. Она окончила училище во втором выпуске и сразу же, еще совсем молодой девушкой, была назначена классной дамой в том классе, где учились ее сестры и Юленька, а впоследствии много лет была начальницей своего родного училища. В свое время все сестры пели в хоре, сначала там, а потом в тех селах, где жили. Лучшей певицей считалась Александра Михайловна, которая даже была солисткой в епархиальном училище. И именно она отчетливо выразила свое «еретическое» отношение к хору, с которым соглашались все сестры.
Ведь это мы, только когда стояли на клиросе, считали, что принесем кому-то пользу, если разучим новый концерт, – вспоминала она, – а теперь я вижу, что мы делали это для себя. Нам самим было приятно и лестно сознавать, какие трудные вещи мы научились петь. А слушателям, вроде меня теперь, гораздо дороже простое пение, под него легче молиться. И Наташе нечего делать на клиросе.
Последняя сестра, Юлия Михайловна, была года на два старше Александры Михайловны, ей было под семьдесят лет. Это была очень красивая старушка, с волнистыми серебряными волосами и большими кроткими глазами. Она единственная из сестер выходила замуж. Ее мужем был монастырский священник о. Павел Смеловский. В прошлом году сестры, сложив свои маленькие средства, приобрели при его содействии домик в городе. Тогда еще, познакомившись с о. Сергием, они передавали приветы и поклоны Юлии Гурьевне и с нетерпением ожидали ее приезда. Осенью о. Павел умер, едва успев отремонтировать домик и перевезти в него жену и своячениц. Осиротевшие старушки ждали Юлию Гурьевну так, словно надеялись новым знакомством отчасти возместить недавнюю утрату. Действительно, скоро между семьями установились близкие, почти родственные отношения.
Юлия Гурьевна гораздо спокойнее отнеслась к предстоящей встрече с подругой детства, но это сближение оказалось приятным и полезным и для нее, давая ей возможность отвлечься от домашних забот и волнений. Оно даже в какой-то мере смягчало ее тоску о детях.
Каждый год она месяца на два, на три уезжала из дома и гостила у дочери, сына и сестры. Дети не раз уговаривали ее остаться у них навсегда, но она возвращалась туда, где чувствовала себя более необходимой. Однако, считая своим домом дом зятя, она сильно скучала о детях, беспокоилась, если долго не получала писем.
– Что-то Санечка (или Миша) не пишет, – упоминала она сначала вскользь; через день-два заговаривала об этом настойчивее, а еще через некоторое время ее беспокойство переходило в настоящую тревогу.
– Что-нибудь случилось с ними, – волновалась она. – Заболели. У Миши грудь слабая, не дай Бог воспаление легких! А Санечка постоянно в поле, и до лаборатории далеко ходить, долго ли простудиться!
Письмо приходило, когда тревога достигала наивысшей степени, и это повторялось с такой регулярностью, что Соня, успокаивая бабушку, уверенно говорила о ее волнении как о следствии передачи мыслей на расстоянии.
– Они начинают подумывать, что пора бы написать письмо, убеждала девушка, – а вы в это время начинаете думать, что давно их не получаете. Может быть, происходит и наоборот: сначала вы подумаете, и тем у них пробудите первую мысль о письме. Только едва ли и они обладают такой же способностью воспринимать мысли. Эта мысль приходит все чаще, но все что-то мешает, наконец они садятся писать, а у вас поднимается беспокойство: заболели. А когда письмо опущено в ящик и уже приближается, вы места себе не находите. И вот наконец…
С этой теорией был согласен и о. Сергий. Иногда он даже командовал дочери: «Ну-ка, Соня, запиши, какое сегодня число. Бабушка начала беспокоиться». Скоро приходило письмо, дата которого была очень близка к записанной. Полученное письмо Юлия Гурьевна перечитывала несколько раз, обсуждая все его подробности, без конца рассматривая новые фотографии. А в свободное время она доставала свой толстый семейный альбом и небольшую шкатулочку, обтянутую потертым зеленым бархатом, где хранились самые мелкие фотографии, и тихо рассматривала их. Когда очередь доходила до маленькой карточки, с которой смотрели обрамленные зимними шапками детские личики ее самарских внуков, она слегка улыбалась: ей вспоминалось определение, сделанное одним островским попечителем. Он пришел к о. Сергию в то время, когда Юлия Гурьевна, любуясь только что полученным снимком, сказала, что малыш Вова выглядит тихоньким, будто и не он.
– Что, разве озорковатый? – спросил Василий Максимович, с интересом заглядывая через ее плечо. – А взгляд-то хозяйственный.
Глава 7
Домашние заботы
На Святки Кильдюшевские в первый раз пришли к Юлии Гурьевне и были встречены необычным образом. Двери квартиры были открыты, из них полз едкий дым с запахом горелой краски, а посредине выходящей в прихожую двери спальни виднелось черное, вздувшееся пузырями пятно.
Произошло вот что: ожидая редких гостей, Соня поскорее прибежала из церкви, натаскала полную прихожую бурьяна-чернобыла, которым отапливалась половина города, растопила печь и пошла в кухню ставить самовар. Когда она выглянула, бурьян пылал. От напора воздуха печная дверца открылась, пламя «вымахнуло» в комнату и подожгло приготовленный запас. Хорошо еще, что девушка была в кухне и могла схватить ведро воды и быстро ликвидировать начавшийся пожар; если бы она отошла в какую-то из двух комнат, дело могло кончиться хуже.
Кто знает, если бы в этой массивной изразцовой печке вместо нескольких корзин чернобыла сжигать столько же охапок хороших дубовых дров, может быть, в квартире было бы тепло. Но в степном безлесном городке дрова были редки и дороги; русские печи топили кизяком, а голландки – соломой, подсолнечными стеблями и вот этим чернобылом. Он давал большое пламя, очень много золы и не так-то много полезного тепла; печь от него прогревалась плохо и быстро остывала; в квартире, по пословице, можно было волков морозить. Еще в спальне, где устроились все три женщины, было теплее: там имелось всего одно окно и туда выходили две стороны печки. Зато в зале, угловой комнате, открытой трем четвертям всех ветров, бушующих по широкой равнине, окон было четыре, а от печи в нее выглядывала только одна небольшая стенка возле самой двери.
Представляя себе жизнь в городе, Самуиловы были довольны, что вместо деревянной избы, в какой жили последние годы, они опять поселятся в более поместительной городской квартире, где можно расставить всю мебель и каждому иметь свой уголок. Общим советом даже определили, что в дальней, наиболее светлой и наиболее уютной части залы можно устроить кабинет для отца Сергия, использовав в качестве перегородки фисгармонию. «Кабинет» отгородили, поставили туда кровать и письменный стол, но пользоваться им не пришлось: по температуре он не намного отличался от сарая. Заниматься о. Сергий выходил к обеденному столу, приткнувшемуся около печки, сюда же поближе перетащили и кровать. Вскоре и этого оказалось мало, и он перебрался на небольшую кухонную печь. В маленькой полутемной кухоньке, с окном в коридор, тоже стоял собачий холод, но печные кирпичи сохраняли на ночь небольшой запас тепла, и о. Сергий, хоть с трудом, умащивался по диагонали печки. В довершение всех прелестей, внизу, у самой печки, мирно посапывал теленок. Это превысило даже непоколебимое терпение о. Сергия, и теленка, маленькую телочку, на которую возлагались большие надежды, вскоре продали за бесценок.
Что ни дальше, все заметнее становилась правота о. Сергия, предположившего, что в материальном отношении в городе будет тяжелее, чем в деревне. В конце концов, в селе жили не только на церковный доход, но и благодаря своему хозяйству. Был небольшой посев, огород, пчелы, корова, козы и куры. Сена накашивали сами, с выделенной в лугах на общих правах делянки, как и все, заготовляли в лесу дрова – переросший хворост и дубовую мелочь. Осенью, по прадедовскому обычаю, хоть и очень тяжелому для отца Сергия, он обходил село со сбором капусты, шерсти, хлеба, дополняя таким образом то, чего не добрал в своем хозяйстве. После этого осенью, в урожайные годы, можно было чувствовать себя обеспеченным всем необходимым «до нового».
В городе не было уверенности ни в чем. За все нужно было платить, а сколько получат в следующем месяце – неизвестно. Еще в зимние праздники и Великим постом доход был побольше, а пройдет Троица – и клади зубы на полку на все лето. О каких-нибудь заготовках на зиму не могло быть и речи, впору хоть зимой откладывать на лето. Зимой же всякий лишний рубль съедало отопление. Не только чернобыл, но и кизяки, по-местному – пласты, покупали на базаре возами. А закрутит на недельку-другую буран, позанесет все дороги – и хоть сиди с нетопленой печью. Подвоз прекращается, отдельных смельчаков, не испугавшихся погоды, ловят еще за городом. Если крестьянин окажется упорным и не захочет продавать, пока не увидит, что делается на базаре, то за ним бежит целая толпа покупателей и он заламывает такую цену что этих покупателей, несмотря на мороз, в жар бросает. Вдобавок, в такой обстановке некогда не только торговаться, но и посмотреть товар, и, когда привезешь покупку на двор, может оказаться, что воз только снаружи обложен приличными кизяками, а внутри – одни сырые, промерзшие крошки. Даже если покупка оказалась сравнительно удачной, хозяин и хозяйка оценивали ее по-разному.
– Посмотри, какие я пласты купил, не поднимешь! – хвалился жене о. Александр. Матушка горестно всплескивала руками: «Саша, да тут же одна земля!»
Отец Сергий никогда не попадал впросак, покупая в селе пласты оптом на год, а то и на два. Там товар был налицо, делали для себя, а здесь с каждым возом новые сюрпризы. Впрочем, он скоро покончил с этими недоразумениями.