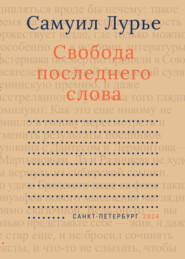По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Техника текста. Лекции, прочитанные в Музее современного искусства Эрарта в 2012 году
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Техника текста. Лекции, прочитанные в Музее современного искусства Эрарта в 2012 году
Самуил Лурье
В сборник вошли расшифровки трех лекций петербургского литератора Самуила Ароновича Лурье (1942–2015), посвященных этике, технологии и психологии литературного творчества.
Самуил Лурье
Техника текста. Лекции, прочитанные в Музее современного искусства Эрарта в 2012 году
© С. А. Лурье (наследники), 2018
© Издательство «Симпозиум», 2018
* * *
Лекция I. Невыразимое чувство невыразимого смысла
Возьмем человека вроде меня, который всю жизнь этим занимался. Первый вопрос, который я задал сам себе: «зачем?». Зачем я писал, зачем вообще люди пишут? Недавно один молодой человек, который мне очень дорог, при упоминании о том, что у меня вышло в этом году две книжки, сказал: «Знаешь что? Люди слишком много пишут». И был прав, конечно, хотя должен был меня уязвить. На вопрос «зачем?», как я мог не раз убедиться, ответа вообще нет. Зачем я учился в этом вузе, зачем я работал в этой редакции, зачем я спал с этими женщинами, зачем я пришел сюда, в «Эрарту»? Низачем, нет такого ответа.
И все-таки – сколько я видел людей пишущих – есть люди, которые испытывают сильное желание, неодолимую потребность, иногда даже чувствуют необходимость писать, чувствуют диктовку, как будто им и вправду кто-то диктует. Это счастливые люди. Обычно они делятся на гениев и графоманов; и тем и другим свойственно «чувство диктовки», они так и говорят. И графоманы заслуженные, и графоманы безвест ные, – все они считали себя гениями. Я даже как-то посчитал, что за свою жизнь встречал по крайней мере двести человек, которые открыто называли себя гениями, и человек двадцать более профессиональных, которые стеснялись и только в очень пьяном виде или в очень интимной ситуации говорили: «Ты знаешь, кто лучший писатель в России?» Понятно было кто… Это ложное, обманчивое чувство диктовки – оно подводит. Но все равно это счастливые люди, им не надо отвечать на вопрос «зачем?». Да хочется ему, во-первых, и Бог ему диктует, во-вторых. Вот Андрей Дементьев, самый известный и самый читаемый поэт современной России – как это, может быть, вам ни удивительно, – только что по радио говорил: «Когда мне Бог диктует…» И в последнем интервью Вознесенского я тоже слышал: «Бог. Диктует». Его спрашивают: «И поэму „Ленин в Лонжюмо“[1 - Поэма А. А. Вознесенского «Лонжюмо» (1963), посвященная слушателям партийной школы, созданной большевиками в г. Лонжюмо в 1911 г.] тоже?» Он: «Ну конечно, ритм же там…» У этих людей нет вопросов.
Есть еще несчастные люди, их очень много, которые пишут тексты просто потому, что работа у них такая: надо писать тексты – без любви, без смысла. Сегодня в газету нужно дать пятьсот строк, тысячу строк, для телевидения надо дать текстовку. Это несчастные люди, их мы тоже не спрашиваем «зачем?».
Я отношусь, видимо, к третьему типу людей, которые не могут вот так вмертвую писать, но и чувство диктовки тоже не испытывают. Лично я чрезвычайно мало текстов в своей жизни написал не по необходимости, не по заказу, – но писать просто так, впустую, бессмысленно, тоже никогда не мог. Надо было найти в себе такое чувство… Например, у поэта оно выглядит так: настоящий поэт чувствует невыразимое чувство невыразимого смысла. То, о чем пишет Пастернак в своем тексте «Люди и положения»[2 - Автобиографический очерк «Люди и положения» (1956), в котором Пастернак, в частности, пишет о первой встрече со стихами Блока: «Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только поэтому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота…»]: что значит быть поэтом? Вы чувствуете, что все на свете описано, кроме чувства, которое вы сейчас испытываете. А это чувство есть чувство… нет, не диктовки, а некоего шифра. Есть про это и у Набокова рассказ[3 - Рассказ «Знаки и символы» (1947), в котором «…больной воображает, будто все, что происходит вокруг, содержит скрытые намеки на его существо и существование. ‹…› Облака в звездном небе медленными знаками сообщают друг другу немыслимо доскональные сведения о нем. ‹…› Все сущее – шифр, и он – тема всего». (Перевод С. Ильина.)], где оказывается, что это чрезвычайно близко к мании преследования: даже облака, когда бегут по небу, складываются в некий узор, который вам надо расшифровать. Это чувство, свойственное скорее поэтам. Но оно – или близкое к нему – возникает и у таких людей, как я, которые пишут про более или менее реальные предметы, не желая прежде всего выразить себя и свое особенное призвание, а погружены скорее в вещи.
Жизнь моя складывалась так, что первые двадцать или двадцать пять лет меня печатали только по случаю того, что какому-нибудь Микеланджело исполнилось 450 лет. И если заказать специалисту, то он напишет длинно и непонятно, а если заказать Лурье, то он напишет коротко и красиво, – поэтому ладно, пусть напишет, только мы уберем у него пять букв. Всю жизнь до 1991 года меня печатали как «С. Лурье», перестройка вернула мне несколько букв. И когда вы берете все равно кого: Стендаля, Микеланджело, я в основном про русскую литературу писал, – смысл писать об этом возникает только тогда, когда вы улавливаете у вашего предмета или у вашей темы какое-то слабое место. Вы должны понять, что не сказано про это. Все сказано, а это – не сказано; так что это довольно близко к тому, о чем говорит Пастернак.
Для этого приходится много читать – например, про какого-нибудь Рубенса сначала все прочитать, после чего вы обнаруживаете то, что вы знали с самого начала, а именно… Я потом попытаюсь разъяснить это подробнее, это трудный момент. Сначала я в этом убеждался с удивлением, а потом привык: то, что я с самого начала хотел сказать про Рубенса, про Сервантеса, про Гончарова, про Пелевина, – я с самого начала это знал, и никто другой этого не написал. Но в этом убеждаешься с огромным чувством облегчения, потому что сначала тебя ужасно тревожит вся эта библиография. Это не потому, что я такой парадоксального и сложного ума человек и обо всем имею собственное мнение. Я просто обнаружил, что каждый из нас, из тех, кто более или менее создан для того, чтобы писать тексты, – а может быть, и каждый человек, просто не каждый доводит это до текста, – каждый из нас имеет некое знание о сути описываемого предмета, даже если мы знаем о нем довольно мало. Это может показаться парадоксом. Но при слове, допустим, «Рубенс» каждый, даже мало образованный, не получивший искусствоведческого образования человек чувствует какую-то вспышку в мозгу. Если тебя запереть в одиночную камеру и сказать: если через десять дней не будет текста, просто не выйдешь отсюда – ты обязательно напишешь, напишешь, просто вспомнишь все, что ты про это думал.
Ноосфера же не выдумка. Почти всему, что существует в мире, в нашем сознании есть какое-то соответствие; оказывается, мы про все на свете что-то думаем. И проблема состоит только в том, чтобы отличить то, что думаем мы, от того, что мы знаем от других, собственное интуитивное знание – от знания понаслышке. Это собственное знание и есть то, что вы хотите, то, что должно быть написано. Основная трудность как раз состоит в том, чтобы оголить в себе это чувство, выявить в себе светящуюся точку, эту мысль – то, что вы на самом деле хотите сказать.
Очень помогает при этом человеческая глупость, автоматизм, халтура, потому что про все на свете сказано невероятно много чепухи. Это особенно помогает такому человеку, как я, который много писал и пишет про русскую литературу. Мы живем в стране, где семьдесят лет господствовала чрезвычайно простая для понимания всего на свете социологическая схема, сводившаяся буквально к двум-трем предложениям. Это было так просто: чьи интересы выражает Диккенс? Ну, конечно, нарождающейся буржуазии английской. А Байрон? – ну и так далее, это же так просто. Про все на свете написано невероятное количество глупостей, и они так раздражают, что вы начинаете говорить просто из чувства протеста: вы видите, что сказано – не то, а нужно сказать то, что было. Один молодой господин написал на сайте «Прочтения» про мою книжку «Изломанный аршин»: «Да что мы, не знаем о водевиле про Белинского? Его наука уже всячески изучила». Ну да, в том-то и дело – и изучила, и атрибутировала. Только они не заметили, что Белинский подумал: этот водевиль написал Николай Полевой – и за это загнобил и уничтожил Николая Полевого. А так они всё изучили, безусловно. Конечно, никаких тайн. Вся моя книжка на этом построена: вот же, все открыто, в школе нам давали эти тексты, но только давали неверную интерпретацию; а посмотрите, как это будет с точки зрения здравого смысла.
Если на полтона поднять: я не люблю эти слова, пишущиеся с больших букв, но все-таки мне кажется, что текст в своем пределе стремится к вещи, называемой Истиной. Не такой я философски образованный, чтобы определять это; но когда текст попадает в истину, крайним острием своим прорывает эту пленку, которая между нами и вещами находится, – мы всегда это чувствуем и осознаем это место текста как гениальное, даже если не говорим себе это слово. Просто оно начинает нас волновать – не эмоционально, не эстетически. Возникает ощущение, что вам говорится нечто очень важное, и это очень важное вызывает в вас волнение, и по этому признаку мы определяем гениальность. Задача – неисполнимая, конечно, – состоит в том, что если текст стремится к истине, то он должен стремиться быть гениальным. Есть такой замечательный литературный памятник – письма Флобера, которые я лично предпочитаю его романам. Он там молодому Мопассану пишет: «Умоляю Вас, умоляю, друг мой, во что бы то ни стало, чего бы это Вам ни стоило, будьте гениальны, прошу Вас, будьте гениальны»[4 - Подобную фразу в письмах Флобера Мопассану обнаружить не удалось; возможно, имеются в виду слова Флобера из письма к Жорж Санд (декабрь 1866 г.): «Надо усилием разума перенестись в своих персонажей, а не привлекать их к себе. Вот каким должен быть, по меньшей мере, метод, а отсюда вывод: старайтесь быть очень талантливым, даже, если возможно, гениальным».]. Вот что должен говорить пожилой литератор молодому.
Нужно отыскать слабое место в вашем предмете, такую «точку», которую думаете вы и которая про него не сказана никем – а наоборот, сказана какая-то ерунда. Простейший пример; прошу прощения у тех, кто его слышал, я несколько раз его приводил. Мое первое литературоведческое открытие, сделанное еще в детстве. По радио какой-то человек читал басню Крылова про ларчик, который один человек не открыл, другой человек не открыл, и механик пришел с инструментом – не открыл. И последняя фраза звучала так: «А ларчик просто открывался». Но это все-таки выглядит против здравого смысла, Крылов же не мог быть таким идиотом, чтобы написать, что ларчик просто открывался, а никто не мог его открыть. Тогда это получается басня о том, что все люди дураки. Ну и что? Не интересно. И тогда я подумал: слово «просто» означает, что он был не запертый, открытый (есть же слово «простоволосый»). То есть «не умножайте сущностей»: мы ищем сложных ответов, сложных ключей, подступаем с инструментами к предмету, а он просто открыт нашему знанию – басня об этом. Потом я залез в Даля, туда-сюда посмотрел – оказалось, это правда. Несколько раз про это сказал, несколько раз написал – смотрю, другие люди это уже приводят как хрестоматийный пример.
Такой же у меня был случай с «Маленькими трагедиями» Пушкина. Какой-то народный артист читал «Моцарта и Сальери», и у него Моцарт все время говорил звонким голосом, такой он у него был блестящий, легкий, гениальный. А Сальери все шипел, завидовал, был плохой, тупой и так далее. Я думал: ну как же так, ведь Сальери так любит Моцарта, он так любит музыку. Там же не про зависть написано, там про то, что музыка пропадет, если каждый человек – не стараясь, не учась, не платя собою, не чувствуя ничего, – будет писать гениальную музыку. Тогда все это теряет смысл. Я подумал: вот так же Солженицын рассердился бы на человека, который написал бы про лагерь гораздо гениальнее, чем он, гораздо лучше, подробнее, сильнее, страшнее, – а сам не пробыл в этом лагере ни одного дня, все придумал, подсмотрел ответ в задачнике. Значит, речь идет о себестоимости. И тогда я посмотрел: а о чем же остальные маленькие трагедии? А они, оказывается, все о себестоимости – богатства, любовного успеха и так далее.
Это были не дураки, а банальные люди, которые повторяли глупости, сказанные другими. И это помогает: если вас дурак разозлит или бездарный человек скажет автоматическую глупость, вам хочется сказать по-другому. И вот уже вам есть зачем написать ваш текст.
Следующий вопрос у меня такой: «Каким должен быть текст?» На это есть довольно банальный ответ на всяких таких мастер-классах: представьте себе текст, который вы хотели бы прочитать. И то, что вы хотели бы прочитать об этом, – попробуйте написать. Честно говоря, у меня не получается представить себе свой собственный текст прежде, чем он написан. Я никогда не знаю, каким он будет. Может быть, мой рецепт не годится никому, но, по крайней мере, таково мое убеждение… Если бы мне сказали: ты сейчас в самый последний раз говоришь про литературу, и нужно сказать главное, что ты думаешь про текст, то я бы сказал так: текст прежде всего должен быть очень быстрым. Путь к сущности предмета, к тому, что вы хотите сказать, должен быть максимально коротким. Мне кажется, что на самом-то деле вся сущность вещей, которые мы называем «слог» или «стиль» – это экономика. Вы ищете наиболее экономный путь. И вот уже тогда встает вопрос, как этого добиться.
Текст, который я считаю гениальным… На одном из своих семинаров я просил своих слушателей принести тексты, которые кажутся им гениальными. Я тоже принес. Мы пришли сообща к решению, что для текстов, которые мы называем гениальными, характерно не то, что они нас потрясают эстетической красотой или эмоциональной силой. Они пробуждают в нас волнение и чувство важности происходящего – тем, что они необыкновенно стремительны внутри, они горячи, у них высокая температура, они плотны. Там текст достигает какого-то уровня сверхвещества, сверхтекста. И если это так, то более или менее понятно уже, к чему стремиться. Может быть, это мой в последние годы образовавшийся старческий невроз, но почти любой текст кажется мне слишком медленным – мне надо, чтобы он внутри был быстрее. Чтобы каждая фраза была как можно короче, чтобы весь текст был как можно короче, чтобы он обрывался на полуслове, чтобы он начинался с полуслова. Чтобы он был как вырванный из вашей головы клочок пламени. Обжигающим должен быть текст.
Дальше начинаются очень скучные советы, как этого добиться. Все это очень хорошо: вы хотите написать текст… Хотя, честно сказать, этого редко когда физически хочется, по крайней мере мне. Это оттого что я все-таки не настоящий писатель, я эссеист, хотя два почти романа написал; все же обычно я пишу о чем-то другом, я пишу не о себе, почти не придумываю людей. А настоящие писатели – они, наверное, испытывают удовольствие от самого процесса. Не очень многих я спрашивал людей, но кое-кого спрашивал; я все-таки работал в редакции журнала, в день виделся с двадцатью, с тридцатью авторами, по-разному к ним относясь. Я однажды спросил Бориса Натановича Стругацкого, с которым дружил и который уж точно настоящий писатель; он еще был молод. Он сказал: «Мы с Аркадием так это ненавидим, сам процесс. Писать – это так тяжело, так неприятно…» Но они были вдвоем, это немножко веселей: обсуждают, расходятся в разные комнаты, договорившись о содержании главы, потом сходятся… А вообще-то мало хорошего. Допустим, вас уже охватило чувство: «я это знаю, а никто не знает» – ну и что дальше? Всегда ли вы так тщеславны, чтобы всем рассказать: «Эй вы, человечество! Я знаю про Рубенса или про „Маленькие трагедии“ то, чего еще никто не знает!» Должны быть какие-то дополнительные стимулы – денег должны за это много заплатить, премию дать, ученую степень и так далее. Вот так сесть и вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь разумным, – переписывать, переписывать страницу за страницей, чтобы было как можно более плотно, более точно и разнообразно, это тяжелая вещь. Профессиональная болезнь писателей – геморрой, не в обиду никому будь сказано. Я помню, однажды в компании Сережа Довлатов напал на одну молодую поэтессу; она сказала, что пишет, а он стал ей объяснять: «Зачем вам это надо? У вас будут плохие зубы, у вас будет геморрой, все как у меня». Наговорил ужасов, бедную девушку страшно смутил. Это свойственно было нашему поколению, такое гиньольное чванство. В недавней книжке о Бродском я прочел, что он так же напал на какую-то молодую американку, которая сказала, что она пишет. «Зачем? Это такая неприятная, такая противная работа. С чего вы решили, что вы для нее годитесь?» То же самое, что спрашивала его судья Савельева на процессе.
Предположим, есть какие-то дополнительные стимулы. Один из них, конечно, привычка, вот как теперь у меня. Я теперь иначе и думать не умею, как только в письменном виде, в остальное время я, видимо, не думаю вовсе – не знаю даже, как живу; а вот сажусь перед экраном – и думать начинаю. Привычка постепенно переходит в потребность, удовлетворение потребности становится каким-никаким наслаждением, хотя радость чувствуешь только, не знаю… Да, знаю когда: сначала мне ужасно неловко, неудобно, что текст опять не получился – такой, какой я хотел; потом я его кому-нибудь посылаю, пишу при этом: «Вы сами видите, опять ничего не получилось», меня кто-то успокаивает, пишет, что улыбнулся, засмеялся… Мне очень дорого, чтобы в тексте было хоть что-нибудь смешное, чтобы заставить человека улыбнуться. Мне кажется, всякая правда, и даже самая высокая истина, должна быть хоть немного смешной, так устроен человеческий ум – а может быть, даже человеческая душа. Истина, которая пытается выдавать себя за слишком серьезную, – не настоящая. Некоторые люди это знают, даже поумнее меня, буддисты про это говорят…
Допустим, вы нашли такие стимулы и по какой-то причине хотите записать то, что вы придумали. Тут несколько технических моментов. Как настроиться на текст? Есть простые советы. Для меня, например, чрезвычайно важно выспаться; потом я могу не спать несколько ночей, но для начала мне нужно много спать. До того момента, пока сам не проснусь – чего никогда почти не бывает, потому что под окном какой-нибудь компрессор или автомобильная сигнализация… Или телефонный звонок – я это называю «сплю до первых мудаков»: позвонит какой-нибудь человек в восемь утра и скажет какую-нибудь совершенно ненужную чушь, например: «Вы читали последний номер „Звезды“?» Обязательно почему-то такие люди звонят в восемь утра. Очень важно ощущение свежести в голове;
Гоголь про него писал, он для этого мыл голову, у него были длинные волосы; как будто какие-то чакры открываются. Хотя для лысого человека, как я, это не так важно. Нельзя ни в коем случае… хотя я не знаю точно, нельзя ли, потому что я боялся этого всю жизнь больше всего и никогда ни строчки, ни страницы не написал, выпив хотя бы рюмку – не говоря уже о наркотиках. Также я полагаю, что не следует писать тексты после занятий любовью, или по крайней мере должен быть какой-то перерыв. Это почти допинг, что-то не то в голове – а ведь вам надо расслышать, что делается у вас в голове. Услышать свой собственный голос, его собственную интонацию.
Потом есть еще одна вещь, очень важная психологически. Сначала-то, понятно, у вас эйфория – особенно если вы знаете, что вы напишете. Но, во-первых, вы очень быстро убеждаетесь, что даже первая фраза всегда трудна. Если не случилось такого счастья, что она сама пришла или вы ее поймали из воздуха, то уже над ней одной сколько придется сидеть… Помогает, мне кажется, с самим собою немного поработать, смириться, как-то понять: нет, ты сейчас опять проиграешь, и эту партию тоже, великого ты не напишешь, и гениального не напишешь. Вспомни, пожалуйста, что не такое ты существо, чтобы пасти народы и учить человечество.
Иногда помогает от ложного пафоса, от высокомерной иронии, от всего, что не является вашим голосом, а является наслоением на него – вспомнить какой-нибудь поступок, которого стыдишься, сцену неприятную и так далее. Чтобы осознать свой собственный масштаб. Потому что когда человек садится за стол с ощущением своей значительности, когда человеку нравится, что он пишет, как он пишет… Если б я назвал фамилию, вы даже не поверили бы, настолько это был ничтожный писатель, который мне говорил: «Я пока сорок страниц за вечер не напишу, не чувствую себя физически здоровым». Какая это была жалкая графомания, и все с таким наслаждением… Главное – не допустить себя до этого наслаждения, до ощущения «какой я молодец и как хорошо то, что я пишу»: это значит, все пропало. Это потом видно сразу – я, по крайней мере, различаю, – то место на странице, где автор сказал себе: ай да Пупкин, ай да сукин сын! И все, и ничего не получилось.
Но это все пустяки, черновая техника, а самое главное все-таки – услышать свой собственный голос у себя в голове, поймать эту интонацию. Ведь мысли как будто не имеют интонации. Они проходят в голове как бегущая строка, причем в несколько этажей, и кажутся беззвучными. Но проблема как раз и состоит в том, чтобы услышать, кто я сегодня. Не всегда, а вот сегодня, сейчас, думая об этом, в эту самую минуту, такой, какой я есть. Почувствовать свое пребывание в этой минуте и услышать свой голос – это, собственно говоря, и есть главная задача. Голос иногда легче придумать. Я несколько лет назад придумал человека по имени Гедройц, гораздо моложе меня, такого безбашенного, непочтительного критика, который пишет и на жаргоне, может и присвистнуть, и непристойность написать… Только надо соблюдать правила игры, но это гораздо легче – писать от имени другого.
Также не особенно сложно придумать персонажа, которому вы не симпатизируете, и думать за него. У меня был в романе о Писареве комендант крепости Сорокин, еще какой-то цензор; у меня интерес к таким людям. Что я больше всего в жизни ненавижу? Я ненавижу тех, от кого я больше всего страдал – цензуру и госбезопасность, и я очень хорошо представляю себе их мышление. Оно в общем похоже на наше, но вывернуто наизнанку: то, что нам кажется хорошим, им кажется отвратительным. Я, когда был молодой и только поступил в редакцию журнала «Нева», проводил эксперименты, потому что уже тогда понимал, куда поступил. Но я-то думал, что буду такой «чужой среди своих», я поступаю как шпион, я из этого вынырну – но вынырнуть оказалось некуда. Или сопьюсь, думал я. Вышло ближе ко второму, чуть не спился, но не стал как они, не сделался презренным циником. Но я проводил эксперименты. И вот представьте себе: если дашь главному редактору – а главные редакторы и их заместители и были тогда главными цензорами, а не эти жалкие маленькие люди, которые сидели в Комитете по охране государственных тайн, – дашь, скажем, главному редактору два рассказа. Один на четверку написан, а другой на тройку с плюсом. Он обязательно выберет тот, который на тройку с плюсом, обязательно! А если в рассказе есть хорошая фраза, он обязательно ее найдет и с брезгливой гримасой вычеркнет. У них антивкус, понимаете? Это довольно легко – попытаться передать, как они мыслят: надо просто про то, что нам кажется нормальным и разумным, писать с брезгливым презрением. И вы сразу поймете ухмылку… достаточно же в телевизор взглянуть, и вы увидите этот презрительный прищур гэбэшника: он презирает вас как раз за то, за что вы себя уважаете, и он очень хорошо это знает. И этот голос тоже можно передать. А вот свой собственный найти…
Есть такое понятие «слог». И есть понятие «стиль». Я думаю, дело обстоит таким образом: слог может быть в том числе у ученого, у юриста, у естествоиспытателя. Прекрасный слог, говорят, был у Бюффона, это же он и сказал, что гений – это терпение; прекрасный слог, на мой взгляд, у Дарвина, у Брема замечательный. Это слог, где все слова стоят в правильном порядке, мысль не короче и не длиннее самой себя, а расположение слов соответствует расположению предметов. В слоге нет только одного – интонации: интонация Брема не отличается от интонации Бюффона, Шлезингера и так далее. Можно применить ораторский прием, сделать какое-нибудь восклицание или вопрос, но интонации – личной интонации – в слоге нет. Хотя слог – это уже очень большое достижение; писать хорошо, хорошим ясным слогом – большая удача и счастье. Вообще-то каждый должен таким слогом владеть.
Стиль – все-таки нечто иное. Даже про больших писателей вы можете не помнить, какие у них романы, они могут быть разные, неважно, все равно внутри себя мы отличаем Чехова от Толстого по интонации – по интонации их ума. Не по голосовой, а по интонации ума. Мне кажется, что найти кратчайшие, быстрейшие, наиболее экономные средства, чтобы передать интонацию своего ума, когда он думает о том, что вас волнует – потому что вам кажется, что вы можете сопоставить вашу мысль с истиной, что ваша мысль направлена на истину, – это и есть главная задача.
Настоящий текст, по-моему, как минимум трехслойный. Я говорю о тексте настоящем, который следовало бы как-то определить, но пока что, на сегодняшний день… тем более что у меня еще есть эпизод в конце, когда мне придется еще раз это объяснять, я лучше скажу это сейчас. Я думаю, что ключевое слово для настоящего текста – «волнение». Настоящий текст – тот, который содержит в себе волнение. То есть вы пытаетесь передать свое волнение от чего бы то ни было – а мы видим, что все-таки от важности сообщения, от того, что на самом деле в вас происходит, – и это волнение передается тому, кто читает ваш текст. Когда соблюдены эти условия, когда текст содержит в себе этот квант волнения – такой текст я называю настоящим. И вот настоящий текст, кажется мне, должен быть трехслойным. Потому что нет никакого смысла, как-то нелепо – и у вас не получится – писать с волнением про какого-нибудь Рубенса, если… Про Рубенса я так и не написал, просто у меня так получалось: попишу-попишу в какой-нибудь печатный орган два-три раза, а на четвертый мне давали от ворот поворот и больше не заказывали, или сам печатный орган закрывался. С Рубенсом как раз не получилось, и, может быть, поэтому я его часто вспоминаю. Но я хочу сказать: неинтересно мне было бы писать про Рубенса только то, что я угадал – да я и не угадал бы про него, – если бы это не было связано с какой-то личной, может быть даже интимной ситуацией моей собственной жизни. Потому что будь ты хоть какой литературовед или философ, все равно человек, который пишет стилем – он пишет про самого себя, так или иначе. Но проблема в том и состоит – и это очень хитро, – что вы должны писать про другого, ни в коем случае не разрешая себе думать, что пишете про себя. А все-таки эта связь с вашей личной ситуацией должна сохраняться, и это один слой. А другой слой – предмет, который вы описываете; он явный, верхний.
Есть еще третий слой. И это тоже очень трудно будет объяснить, потому что мне не хватает философского и психологического образования. Но. Что значит понять предмет, вещь, писателя, художника, человека, ситуацию, чувства – что бы то ни было? Понять для меня, не для великого мыслителя какого-нибудь, значит – почувствовать. Лучше почувствовать, а не придумать, лучше догадаться – вот правильное слово; вот если вам посчастливилось правильно догадаться, на что это похоже… По-моему, всякое наше понимание связано с тем, что мы сопоставляем вещь с чем-то. Почему мы, когда смотрим на живописный портрет, видим, кто там изображен? Мы видим этого человека и понимаем, что он, допустим, хитрый, злой, жестокий или, наоборот – добрый, глупый, еще какой-нибудь. Почему мы, глядя на людей, особенно с возрастом, понимаем это с одного взгляда? Потому что мы встречали людей, похожих на этого человека, и с ними у нас происходили разные вещи, они при нас говорили то-то и то-то. Мы можем очень ошибаться, вероятность ошибки тут чрезвычайно велика! Но понять что бы то ни было, не сопоставив, не сравнив, нельзя. Это не аналогия, это нечто иное: должны быть сопоставлены вещи из разных миров. И пересечение миров может случайно создать некий прорыв из этой реальности в ту, где находится истина.
Больше всего на свете я обожаю и считаю признаками гениальности вот такие сравнения и метафоры. Бывают такие метафоры, когда вы сопоставляете не просто человека с человеком, не человека с деревом, не морской прибой с музыкой, нет; дело даже не в банальности, а в том, что надо бы сравнить человека с ситуацией или предмет со сценой, которая с вами случилась в детстве. Самое простое, что приходит в голову – стихотворение Пастернака «На Страстной». Вот снег там такой: «А март разбрасывает снег / На паперти в толпе калек, / Как будто вышел человек, / И вынул, и раскрыл ковчег, / И все до нитки роздал». Понимаете, как это идет? Вот снег, а вот человек, который раздает милостыню. И на этом пересечении невозможного, казалось бы, сравнения возникает этот голос и то, ради чего это написано – а написано про Пасху, про Воскресение, про абсолютную раскрытость, – вот здесь она и возникает. Это мы все еще идем к тому, с чего начинается текст. Начинается все с этой охоты. Мы смотрим, мы думаем, мы чувствуем, мы пытаемся понять, вспомнить, на что похоже то, про что я хочу сейчас сказать, про что я думаю. Пока я не пойму, на что это похоже, я, собственно, не пойму, что я про это думаю. Потому что думаем мы, пробираемся к сути вещей всегда через другие вещи. Так устроено наше познание, насколько я его понимаю.
…Мы остановились на том, что текст является трехслойным. В нем то, что вы думаете о предмете. В нем то, что вы держите про себя в уме, в подсознании даже – чем этот предмет важен для вас, потому что он как-то связан с вашей личной жизнью, вашей личной судьбой, вашим мнением о самом себе. И он, кроме того, на что-то похож. Тут такое противоречие получается: это сходство, с одной стороны, должно быть убедительное и глубокое; но с другой стороны, если его можно высказать сразу и двумя словами, то, скорее всего, оно неглубокое. А если глубокое, то оказывается почему-то, что его никак не выразить сразу. Бо?льшая часть работы уходит на то, чтобы самому себе это внутреннее сходство уяснить и доказать. Это надо на примерах, у меня сейчас, пожалуй, не получится.
А вот что важно еще. Есть такое определение, оно лично мне принадлежит и некоторым кажется правильным. Есть еще одно измерение у текста: поэзия, написал я однажды, есть речь, похожая на свой предмет. Когда я читаю, скажем, у Бродского: «И громоздкая письменность с ревом идет на слом, / Никому не давая себя прочесть»[5 - Из стихотворения «Прилив» (1981).], то мне кажется, что я вижу одновременно и письменность, и эти зубчатые волны. И сама внутренняя графика строчки, фразы, чего угодно, – она может, если нам везет… тут от нас почти ничего не зависит, тут зависит от того, есть ли в вас эта одаренность. Оказывается, есть в вас не просто чувствительность, не просто ум, не просто выразительность слога, – хотя всего этого больше чем достаточно, чтобы быть приличным или даже очень хорошим писателем, – а вот есть ли в вас это: написать так, чтобы строчка была похожа на листву, на волну, чтобы волей-неволей ваш рассказ, о чем бы он ни был… чтобы ваш рассказ о Шукшине был похож на Шукшина! Но не так, чтобы вы Шукшину подражали, не так просто, как делает Анненский в «Книге отражений», когда пишет про Гоголя – под Гоголя, про Чехова – под Чехова; это слишком просто, а должно быть на другой какой-то глубине. Вот такие получаются измерения.
И тут есть еще одна важная вещь, когда вы принимаетесь за текст: вы должны понять, к кому вы обращаетесь. Вернее сказать, вы должны знать, что вы это должны понять. Лучше всего, чтобы это получалось автоматически, но тут есть три, по крайней мере, позиции, вот так же, как сейчас: я перед вами мог бы это делать тремя способами. Один, если бы я был настоящий ученый, университетский преподаватель или теоретик литературы: меня бы занимал предмет, я бы заботился о том, чтобы мои параграфы вытекали бы один из другого, чтобы они все вместе исчерпывали бы тему. Я думаю о своей теме, я обращен к своему предмету – это один способ.
Другой, хотя они не бывают совсем порознь, но в литературе бывают – это когда я вижу вас, чувствую атмосферу, некоторые люди мне знакомы, я чувствую хорошее отношение, сам как-то отношусь, я хочу понравиться, быть интересным; это очень опасный способ. Первый способ будем называть академическим, второй – ораторским, который бывает у учителей, артистов, лекторов. Для писателя он не очень годится – я, по крайней мере, очень этим мучаюсь. Вы пишете, а у вас есть какая-то референтная группа, и вы хотите им понравиться; они привыкли, что ты пишешь так, и ты не должен написать хуже, чем писал раньше. То есть вы начинаете зависеть от того, к кому обращен текст, а это плохо, если вы хотите написать что-нибудь замечательное. Слишком короткий адресат. Вот почему тексты в интернете, в частности в Живом Журнале, редко производят впечатление важных: потому что у них очень близкий адресат, они идут на короткое расстояние, они обращены к людям, которых автор знает. Они говорят на том же самом языке, который принят в общении в этой референтной группе, даже если она состоит из двух человек. Теперь-то это называется «дневник» или «журнал», в действительности это ближе к тому, что в XVIII–XIX веке в России называлось «альбом». Это альбомные тексты, они рассчитаны на узкий круг, в них получается привкус некоторой дружеской – иногда очень талантливой – самодеятельности. Для того чтобы написать настоящий текст, есть гораздо более тяжелый и страшный способ: вам нужно обращаться в никуда, в пустоту, туда, где никого нет, где вы совершенно один. Нужно почувствовать себя совершенно одиноким человеком. И как бы ни был я глуп, банален, несчастен и так далее – вот эти фразы, которые мне приходят в голову, они приходят в голову только мне и не обращены ни к кому другому. «Я думаю это». Я думаю это, смотря в какую-то серую темную пелену.
Бывают такие экскурсоводы. Мой немецкий знакомый, очень хороший писатель Юрий Малецкий, когда останавливается перед картиной в какой-нибудь мюнхенской пинакотеке, вдруг превращается в робота и начинает… он про любую картину может говорить полтора часа, два часа или три, ему все равно, его надо сдвигать с места. Но при этом он говорит, не обращаясь ни к кому, даже страшно на него смотреть. Вот на это похоже. Если вам удается достичь такого состояния, когда вас никто не слышит, голоса, падающего в пустоту, состояния совершенного одиночества – мне кажется, только при таких обстоятельствах можно написать вполне настоящий текст. Хотя, конечно, следовало бы спросить об этом писателей позначительнее меня. Это то, о чем не прочитаешь; я довольно много все-таки читал, но что-то я не видел, чтобы в этом кто-то признавался. Люди пишущие не очень любят в этом признаваться. И это одна из самых тяжелых задач – настроить себя таким именно образом. На самом-то деле это состояние следовало бы назвать отчаянием: вы пишете, не надеясь, что вас кто-нибудь прочитает, вообще «низачем». Вот ответ на вопрос «зачем». Вы пишете, потому что уж так сложилось: вы сели за стол, чтобы написать об этом, вам приходят в голову вот эти фразы, и вы стараетесь написать их как можно лучше. А именно… вот мы теперь и переходим к самой технике.
Это все было про то, как начать и настроиться на текст. А теперь вам нужно развить скорость. Вам нужно, чтобы он был – если вам нужно, если вы этого хотите, у меня это просто на уровне инстинкта: мне нужно, чтобы он был быстрый, мой текст. Понятно, что он выйдет такой, какой выйдет, а я просто задним числом пытаюсь понять, почему в тех или иных случаях это получилось. Я нашел для себя несколько совершенно нехитрых правил и приемов, каждый из которых в отдельности – а может, и вместе, – всем знакомы, но ничего иного и нового я сказать не могу.
Я прежде всего обнаружил, когда стал следить за собой, что для меня чрезвычайно важно, чтобы текст состоял из разных слов, в буквальном смысле разных. Чтобы текст, насколько возможно на его возможном для меня протяжении – может быть, из-за этого я почти всю жизнь писал короткие тексты, – но в этом коротком тексте одно и то же слово, по возможности, не должно повторяться. Понятно, что есть предлоги, союзы, союзные слова… Но слова не должны повторяться.
И когда я обнаружил, что это же действительно так – они у меня не повторяются, – я сначала очень удивился, радовался, гордился этим, что такой у меня замечательный словарный запас. Но потом я стал обращать внимание с течением лет и времени, особенно в последние годы… Казалось мне, что это не стоит никакого труда, что это так естественно: конечно же, слова все должны быть разные! В тексте – ну две, ну три, ну пять тысяч слов; что, у меня нет пяти тысяч слов, что ли? И тогда у меня было свойство такое, что я помнил весь свой текст, мне не нужно было даже заглядывать в него с начала: я знал, что это слово я еще ни разу не написал. Но потом это стало очень тяжело, и теперь я все чаще, с болью настоящей и испугом, ловлю себя на том, что я не помню – написал ли я это слово раньше или нет. Теперь, к счастью, есть компьютер, есть опция «найти»; я ищу слово, которое хочу написать, и вижу, что да, есть, и тогда придумываю другое. Но это, согласитесь, уже нехорошо, это уже механическая попытка улучшить свое мышление. А вообще, конечно, надо развивать в себе, пока молоды особенно, вот такой словарный запас, для чего нужно просто много читать, больше ничего. Большой словарный запас, чтобы это не составляло мучения.
Нет, конечно, можно повторять слова, если это вам нужно. И может оказаться даже чрезвычайно сильным приемом, если какое-нибудь слово вы повторите и раз, и другой, особенно если в разных значениях. Но все-таки это делает текст очень плотным, если он состоит из разных слов, это создает у читателя ощущение опрятности и какой-то физической свежести. Оттого, что слова не повторяются, текст выглядит как бы свежим – я это физически, когда читаю чужие тексты, чрезвычайно чувствую.
Это же правило распространяется и на синтаксис. Предложения, типы предложений – желательно, чтобы они тоже были разными, по крайней мере в одном абзаце, стоящие рядом, недалеко друг от друга; они должны быть разными по своей конструкции. Пока что нам необходима плотность текста; так вот, плотность текста создается его внутренним структурным разнообразием.
Главная ловушка, которая подстерегает любой текст… Вы же не все время пишете с вдохновением – более того, оно случайно. Иногда увлечение приходит: если вам повезло сложить фразу – и за ней другую – хорошо, то, может быть, придут за ней, как там у Пушкина написано, «две при?дут сами, третью приведут»[6 - Из поэмы «Домик в Коломне» (1830).], – так может быть. Но это, во-первых, очень редко случается, во-вторых, так может и не быть, а вы все равно должны работать. А работать – значит преодолевать монотонность. Говоришь всегда в одной какой-нибудь интонации, а интонация текста создается как интегральная из… Слова должны быть разными, предложения должны быть разными, и все это, конечно, должно работать на смысл. Слова должны быть разные – но абсолютно точные, предложения должны быть разные – но как можно короче и как можно более точно приближающиеся к вашей мысли.
Есть такое простое правило – даже смешно, что многие люди как будто не думали об этом, – что на свете существуют окончания мужские – на последний слог, женские – на предпоследний, и дактилические – третий от конца. И когда у вас идут подряд три предложения, которые все кончаются: «…вот стояла зима», и «…они пришли», и потом еще на какое-нибудь мужское окончание, – возникает вот эта монотонность, которую почему-то многие просто не видят и не замечают. И наоборот, если у вас окончания женские – «…мы были дома» и «…нам было скучно» и так далее, – возникает невероятная медленность, торможение, которое не нужно. А вот если это попытаться разнообразить… У профессионала это входит в привычку, для меня физически невозможно написать иначе. Я знаю, что можно взять любой абзац из любой моей книжки, и одно предложение будет заканчиваться на предпоследнем слоге от конца, а другое на последнем; может быть, еще одно на последнем, но следующее тогда уже дактилическое. Это такой живущий в вас неизбежный ритм, который вырабатывается, но за этим нужно следить.
В русском языке так странно все построено, что порядок слов довольно свободный, но эта свобода – она ужасно коварная. Часто слова слипаются и оказывается, что слово, стоящее между двумя другими, может относиться и к первому, и к третьему. И значит, очень важно поставить его так, чтобы оно относилось однозначно к одному, если вам не нужно другого. Ну и еще есть вещи типа инверсии… Очень хорошо объясняет, что такое поэзия, одна строчка Мандельштама: «А зодчий не был итальянец, но русский в Риме, – ну так что ж!»[7 - Из стихотворения «На площадь выбежав, свободен…» (1914).]. Понимаете, «А зодчий не был итальянец» – это поэзия, «А зодчий был не итальянец» – это проза.
Набоков очень любил такие вещи: малюсенький сдвиг в какой-нибудь фразе, кажется, никому не заметной и даже пустячной, да; а все равно, кому надо – заметит и почувствует, что во фразе есть некоторый секрет, в ней есть дополнительная энергия, она что-то еще значит. То, чего вы этим добиваетесь, должно быть вот как сформулировано: предложение должно быть больше самого себя. Вообще любой текст должен быть больше самого себя, глубже самого себя, он должен говорить нам больше того, что он говорит. И только это и есть признак настоящей, осмысленной, нужной нам речи; это ее эстетическое качество, собственно говоря. Не то, что она красиво звучит, хотя это тоже ужасно хорошо. И когда тебе повезет еще с аллитерацией… Знаете, я до сих пор помню, у меня в «Писареве» совершенно случайно сама получилась фраза, которую можно, по-моему, вставить в какие-то учебники – нарочно, что вот как может выпендриваться, дескать, человек. Там написано было про масленичные гуляния на Марсовом поле: «Зазывалы в белых балахонах голосили перед балаганами». И как я был доволен! Как красиво, вся эта аллитерация на «л», на «а» – а ведь все правда, все точно, ничего же не сделано нарочно: они в самом деле зазывалы в белых балахонах, в самом деле голосили, в самом деле перед балаганами. Вот когда совпадает пускай даже внешняя нарядность с точностью, то возникает такой электрический разряд, и ты бываешь даже сам иногда доволен. Это все относится к экономике слога, потому что в конце-то концов все равно вы хотите сказать нечто важное.
И тут мы приближаемся к двум ужасным проблемам, о которых я не так много буду говорить, потому что это потребует еще времени. Проблема первой фразы существует – для меня, по крайней мере. Еще более ужасная, болезненная, неразрешимая для меня – проблема перехода от первой фразы ко второй, от абзаца к абзацу. Самое трудное – то, что между абзацем и абзацем, между фразой и фразой. Мне кажется, здесь и есть одна из основных тайн прозаической речи, прозаического текста, потому что в поэзии это решается само собой, поэзия – она и стоит на быстрых переходах. Почитайте, что Набоков пишет в комментариях к «Евгению Онегину», он как раз об этом пишет. Что такое вообще «Евгений Онегин»? Это повесть с быстрыми переходами. И в самом деле, это сплошное наслаждение – смотреть, как осуществляется переход от строфы к строфе, это абсолютная свобода, и этому можно учиться бесконечно: вот просто читать «Евгения Онегина» и смотреть, как это делается. Но это же бывает один раз в пятьсот лет, а решать надо буквально каждый день – просто как от абзаца перейти к абзацу, чтобы не быть нудным. Потому что, с одной стороны, должна же сохраняться какая-то логика, а с другой стороны, если ее сохранять, то это медленно и скучно. И это действительно почти невыносимо, и каждый раз это решается заново.
Самуил Лурье
В сборник вошли расшифровки трех лекций петербургского литератора Самуила Ароновича Лурье (1942–2015), посвященных этике, технологии и психологии литературного творчества.
Самуил Лурье
Техника текста. Лекции, прочитанные в Музее современного искусства Эрарта в 2012 году
© С. А. Лурье (наследники), 2018
© Издательство «Симпозиум», 2018
* * *
Лекция I. Невыразимое чувство невыразимого смысла
Возьмем человека вроде меня, который всю жизнь этим занимался. Первый вопрос, который я задал сам себе: «зачем?». Зачем я писал, зачем вообще люди пишут? Недавно один молодой человек, который мне очень дорог, при упоминании о том, что у меня вышло в этом году две книжки, сказал: «Знаешь что? Люди слишком много пишут». И был прав, конечно, хотя должен был меня уязвить. На вопрос «зачем?», как я мог не раз убедиться, ответа вообще нет. Зачем я учился в этом вузе, зачем я работал в этой редакции, зачем я спал с этими женщинами, зачем я пришел сюда, в «Эрарту»? Низачем, нет такого ответа.
И все-таки – сколько я видел людей пишущих – есть люди, которые испытывают сильное желание, неодолимую потребность, иногда даже чувствуют необходимость писать, чувствуют диктовку, как будто им и вправду кто-то диктует. Это счастливые люди. Обычно они делятся на гениев и графоманов; и тем и другим свойственно «чувство диктовки», они так и говорят. И графоманы заслуженные, и графоманы безвест ные, – все они считали себя гениями. Я даже как-то посчитал, что за свою жизнь встречал по крайней мере двести человек, которые открыто называли себя гениями, и человек двадцать более профессиональных, которые стеснялись и только в очень пьяном виде или в очень интимной ситуации говорили: «Ты знаешь, кто лучший писатель в России?» Понятно было кто… Это ложное, обманчивое чувство диктовки – оно подводит. Но все равно это счастливые люди, им не надо отвечать на вопрос «зачем?». Да хочется ему, во-первых, и Бог ему диктует, во-вторых. Вот Андрей Дементьев, самый известный и самый читаемый поэт современной России – как это, может быть, вам ни удивительно, – только что по радио говорил: «Когда мне Бог диктует…» И в последнем интервью Вознесенского я тоже слышал: «Бог. Диктует». Его спрашивают: «И поэму „Ленин в Лонжюмо“[1 - Поэма А. А. Вознесенского «Лонжюмо» (1963), посвященная слушателям партийной школы, созданной большевиками в г. Лонжюмо в 1911 г.] тоже?» Он: «Ну конечно, ритм же там…» У этих людей нет вопросов.
Есть еще несчастные люди, их очень много, которые пишут тексты просто потому, что работа у них такая: надо писать тексты – без любви, без смысла. Сегодня в газету нужно дать пятьсот строк, тысячу строк, для телевидения надо дать текстовку. Это несчастные люди, их мы тоже не спрашиваем «зачем?».
Я отношусь, видимо, к третьему типу людей, которые не могут вот так вмертвую писать, но и чувство диктовки тоже не испытывают. Лично я чрезвычайно мало текстов в своей жизни написал не по необходимости, не по заказу, – но писать просто так, впустую, бессмысленно, тоже никогда не мог. Надо было найти в себе такое чувство… Например, у поэта оно выглядит так: настоящий поэт чувствует невыразимое чувство невыразимого смысла. То, о чем пишет Пастернак в своем тексте «Люди и положения»[2 - Автобиографический очерк «Люди и положения» (1956), в котором Пастернак, в частности, пишет о первой встрече со стихами Блока: «Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только поэтому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота…»]: что значит быть поэтом? Вы чувствуете, что все на свете описано, кроме чувства, которое вы сейчас испытываете. А это чувство есть чувство… нет, не диктовки, а некоего шифра. Есть про это и у Набокова рассказ[3 - Рассказ «Знаки и символы» (1947), в котором «…больной воображает, будто все, что происходит вокруг, содержит скрытые намеки на его существо и существование. ‹…› Облака в звездном небе медленными знаками сообщают друг другу немыслимо доскональные сведения о нем. ‹…› Все сущее – шифр, и он – тема всего». (Перевод С. Ильина.)], где оказывается, что это чрезвычайно близко к мании преследования: даже облака, когда бегут по небу, складываются в некий узор, который вам надо расшифровать. Это чувство, свойственное скорее поэтам. Но оно – или близкое к нему – возникает и у таких людей, как я, которые пишут про более или менее реальные предметы, не желая прежде всего выразить себя и свое особенное призвание, а погружены скорее в вещи.
Жизнь моя складывалась так, что первые двадцать или двадцать пять лет меня печатали только по случаю того, что какому-нибудь Микеланджело исполнилось 450 лет. И если заказать специалисту, то он напишет длинно и непонятно, а если заказать Лурье, то он напишет коротко и красиво, – поэтому ладно, пусть напишет, только мы уберем у него пять букв. Всю жизнь до 1991 года меня печатали как «С. Лурье», перестройка вернула мне несколько букв. И когда вы берете все равно кого: Стендаля, Микеланджело, я в основном про русскую литературу писал, – смысл писать об этом возникает только тогда, когда вы улавливаете у вашего предмета или у вашей темы какое-то слабое место. Вы должны понять, что не сказано про это. Все сказано, а это – не сказано; так что это довольно близко к тому, о чем говорит Пастернак.
Для этого приходится много читать – например, про какого-нибудь Рубенса сначала все прочитать, после чего вы обнаруживаете то, что вы знали с самого начала, а именно… Я потом попытаюсь разъяснить это подробнее, это трудный момент. Сначала я в этом убеждался с удивлением, а потом привык: то, что я с самого начала хотел сказать про Рубенса, про Сервантеса, про Гончарова, про Пелевина, – я с самого начала это знал, и никто другой этого не написал. Но в этом убеждаешься с огромным чувством облегчения, потому что сначала тебя ужасно тревожит вся эта библиография. Это не потому, что я такой парадоксального и сложного ума человек и обо всем имею собственное мнение. Я просто обнаружил, что каждый из нас, из тех, кто более или менее создан для того, чтобы писать тексты, – а может быть, и каждый человек, просто не каждый доводит это до текста, – каждый из нас имеет некое знание о сути описываемого предмета, даже если мы знаем о нем довольно мало. Это может показаться парадоксом. Но при слове, допустим, «Рубенс» каждый, даже мало образованный, не получивший искусствоведческого образования человек чувствует какую-то вспышку в мозгу. Если тебя запереть в одиночную камеру и сказать: если через десять дней не будет текста, просто не выйдешь отсюда – ты обязательно напишешь, напишешь, просто вспомнишь все, что ты про это думал.
Ноосфера же не выдумка. Почти всему, что существует в мире, в нашем сознании есть какое-то соответствие; оказывается, мы про все на свете что-то думаем. И проблема состоит только в том, чтобы отличить то, что думаем мы, от того, что мы знаем от других, собственное интуитивное знание – от знания понаслышке. Это собственное знание и есть то, что вы хотите, то, что должно быть написано. Основная трудность как раз состоит в том, чтобы оголить в себе это чувство, выявить в себе светящуюся точку, эту мысль – то, что вы на самом деле хотите сказать.
Очень помогает при этом человеческая глупость, автоматизм, халтура, потому что про все на свете сказано невероятно много чепухи. Это особенно помогает такому человеку, как я, который много писал и пишет про русскую литературу. Мы живем в стране, где семьдесят лет господствовала чрезвычайно простая для понимания всего на свете социологическая схема, сводившаяся буквально к двум-трем предложениям. Это было так просто: чьи интересы выражает Диккенс? Ну, конечно, нарождающейся буржуазии английской. А Байрон? – ну и так далее, это же так просто. Про все на свете написано невероятное количество глупостей, и они так раздражают, что вы начинаете говорить просто из чувства протеста: вы видите, что сказано – не то, а нужно сказать то, что было. Один молодой господин написал на сайте «Прочтения» про мою книжку «Изломанный аршин»: «Да что мы, не знаем о водевиле про Белинского? Его наука уже всячески изучила». Ну да, в том-то и дело – и изучила, и атрибутировала. Только они не заметили, что Белинский подумал: этот водевиль написал Николай Полевой – и за это загнобил и уничтожил Николая Полевого. А так они всё изучили, безусловно. Конечно, никаких тайн. Вся моя книжка на этом построена: вот же, все открыто, в школе нам давали эти тексты, но только давали неверную интерпретацию; а посмотрите, как это будет с точки зрения здравого смысла.
Если на полтона поднять: я не люблю эти слова, пишущиеся с больших букв, но все-таки мне кажется, что текст в своем пределе стремится к вещи, называемой Истиной. Не такой я философски образованный, чтобы определять это; но когда текст попадает в истину, крайним острием своим прорывает эту пленку, которая между нами и вещами находится, – мы всегда это чувствуем и осознаем это место текста как гениальное, даже если не говорим себе это слово. Просто оно начинает нас волновать – не эмоционально, не эстетически. Возникает ощущение, что вам говорится нечто очень важное, и это очень важное вызывает в вас волнение, и по этому признаку мы определяем гениальность. Задача – неисполнимая, конечно, – состоит в том, что если текст стремится к истине, то он должен стремиться быть гениальным. Есть такой замечательный литературный памятник – письма Флобера, которые я лично предпочитаю его романам. Он там молодому Мопассану пишет: «Умоляю Вас, умоляю, друг мой, во что бы то ни стало, чего бы это Вам ни стоило, будьте гениальны, прошу Вас, будьте гениальны»[4 - Подобную фразу в письмах Флобера Мопассану обнаружить не удалось; возможно, имеются в виду слова Флобера из письма к Жорж Санд (декабрь 1866 г.): «Надо усилием разума перенестись в своих персонажей, а не привлекать их к себе. Вот каким должен быть, по меньшей мере, метод, а отсюда вывод: старайтесь быть очень талантливым, даже, если возможно, гениальным».]. Вот что должен говорить пожилой литератор молодому.
Нужно отыскать слабое место в вашем предмете, такую «точку», которую думаете вы и которая про него не сказана никем – а наоборот, сказана какая-то ерунда. Простейший пример; прошу прощения у тех, кто его слышал, я несколько раз его приводил. Мое первое литературоведческое открытие, сделанное еще в детстве. По радио какой-то человек читал басню Крылова про ларчик, который один человек не открыл, другой человек не открыл, и механик пришел с инструментом – не открыл. И последняя фраза звучала так: «А ларчик просто открывался». Но это все-таки выглядит против здравого смысла, Крылов же не мог быть таким идиотом, чтобы написать, что ларчик просто открывался, а никто не мог его открыть. Тогда это получается басня о том, что все люди дураки. Ну и что? Не интересно. И тогда я подумал: слово «просто» означает, что он был не запертый, открытый (есть же слово «простоволосый»). То есть «не умножайте сущностей»: мы ищем сложных ответов, сложных ключей, подступаем с инструментами к предмету, а он просто открыт нашему знанию – басня об этом. Потом я залез в Даля, туда-сюда посмотрел – оказалось, это правда. Несколько раз про это сказал, несколько раз написал – смотрю, другие люди это уже приводят как хрестоматийный пример.
Такой же у меня был случай с «Маленькими трагедиями» Пушкина. Какой-то народный артист читал «Моцарта и Сальери», и у него Моцарт все время говорил звонким голосом, такой он у него был блестящий, легкий, гениальный. А Сальери все шипел, завидовал, был плохой, тупой и так далее. Я думал: ну как же так, ведь Сальери так любит Моцарта, он так любит музыку. Там же не про зависть написано, там про то, что музыка пропадет, если каждый человек – не стараясь, не учась, не платя собою, не чувствуя ничего, – будет писать гениальную музыку. Тогда все это теряет смысл. Я подумал: вот так же Солженицын рассердился бы на человека, который написал бы про лагерь гораздо гениальнее, чем он, гораздо лучше, подробнее, сильнее, страшнее, – а сам не пробыл в этом лагере ни одного дня, все придумал, подсмотрел ответ в задачнике. Значит, речь идет о себестоимости. И тогда я посмотрел: а о чем же остальные маленькие трагедии? А они, оказывается, все о себестоимости – богатства, любовного успеха и так далее.
Это были не дураки, а банальные люди, которые повторяли глупости, сказанные другими. И это помогает: если вас дурак разозлит или бездарный человек скажет автоматическую глупость, вам хочется сказать по-другому. И вот уже вам есть зачем написать ваш текст.
Следующий вопрос у меня такой: «Каким должен быть текст?» На это есть довольно банальный ответ на всяких таких мастер-классах: представьте себе текст, который вы хотели бы прочитать. И то, что вы хотели бы прочитать об этом, – попробуйте написать. Честно говоря, у меня не получается представить себе свой собственный текст прежде, чем он написан. Я никогда не знаю, каким он будет. Может быть, мой рецепт не годится никому, но, по крайней мере, таково мое убеждение… Если бы мне сказали: ты сейчас в самый последний раз говоришь про литературу, и нужно сказать главное, что ты думаешь про текст, то я бы сказал так: текст прежде всего должен быть очень быстрым. Путь к сущности предмета, к тому, что вы хотите сказать, должен быть максимально коротким. Мне кажется, что на самом-то деле вся сущность вещей, которые мы называем «слог» или «стиль» – это экономика. Вы ищете наиболее экономный путь. И вот уже тогда встает вопрос, как этого добиться.
Текст, который я считаю гениальным… На одном из своих семинаров я просил своих слушателей принести тексты, которые кажутся им гениальными. Я тоже принес. Мы пришли сообща к решению, что для текстов, которые мы называем гениальными, характерно не то, что они нас потрясают эстетической красотой или эмоциональной силой. Они пробуждают в нас волнение и чувство важности происходящего – тем, что они необыкновенно стремительны внутри, они горячи, у них высокая температура, они плотны. Там текст достигает какого-то уровня сверхвещества, сверхтекста. И если это так, то более или менее понятно уже, к чему стремиться. Может быть, это мой в последние годы образовавшийся старческий невроз, но почти любой текст кажется мне слишком медленным – мне надо, чтобы он внутри был быстрее. Чтобы каждая фраза была как можно короче, чтобы весь текст был как можно короче, чтобы он обрывался на полуслове, чтобы он начинался с полуслова. Чтобы он был как вырванный из вашей головы клочок пламени. Обжигающим должен быть текст.
Дальше начинаются очень скучные советы, как этого добиться. Все это очень хорошо: вы хотите написать текст… Хотя, честно сказать, этого редко когда физически хочется, по крайней мере мне. Это оттого что я все-таки не настоящий писатель, я эссеист, хотя два почти романа написал; все же обычно я пишу о чем-то другом, я пишу не о себе, почти не придумываю людей. А настоящие писатели – они, наверное, испытывают удовольствие от самого процесса. Не очень многих я спрашивал людей, но кое-кого спрашивал; я все-таки работал в редакции журнала, в день виделся с двадцатью, с тридцатью авторами, по-разному к ним относясь. Я однажды спросил Бориса Натановича Стругацкого, с которым дружил и который уж точно настоящий писатель; он еще был молод. Он сказал: «Мы с Аркадием так это ненавидим, сам процесс. Писать – это так тяжело, так неприятно…» Но они были вдвоем, это немножко веселей: обсуждают, расходятся в разные комнаты, договорившись о содержании главы, потом сходятся… А вообще-то мало хорошего. Допустим, вас уже охватило чувство: «я это знаю, а никто не знает» – ну и что дальше? Всегда ли вы так тщеславны, чтобы всем рассказать: «Эй вы, человечество! Я знаю про Рубенса или про „Маленькие трагедии“ то, чего еще никто не знает!» Должны быть какие-то дополнительные стимулы – денег должны за это много заплатить, премию дать, ученую степень и так далее. Вот так сесть и вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь разумным, – переписывать, переписывать страницу за страницей, чтобы было как можно более плотно, более точно и разнообразно, это тяжелая вещь. Профессиональная болезнь писателей – геморрой, не в обиду никому будь сказано. Я помню, однажды в компании Сережа Довлатов напал на одну молодую поэтессу; она сказала, что пишет, а он стал ей объяснять: «Зачем вам это надо? У вас будут плохие зубы, у вас будет геморрой, все как у меня». Наговорил ужасов, бедную девушку страшно смутил. Это свойственно было нашему поколению, такое гиньольное чванство. В недавней книжке о Бродском я прочел, что он так же напал на какую-то молодую американку, которая сказала, что она пишет. «Зачем? Это такая неприятная, такая противная работа. С чего вы решили, что вы для нее годитесь?» То же самое, что спрашивала его судья Савельева на процессе.
Предположим, есть какие-то дополнительные стимулы. Один из них, конечно, привычка, вот как теперь у меня. Я теперь иначе и думать не умею, как только в письменном виде, в остальное время я, видимо, не думаю вовсе – не знаю даже, как живу; а вот сажусь перед экраном – и думать начинаю. Привычка постепенно переходит в потребность, удовлетворение потребности становится каким-никаким наслаждением, хотя радость чувствуешь только, не знаю… Да, знаю когда: сначала мне ужасно неловко, неудобно, что текст опять не получился – такой, какой я хотел; потом я его кому-нибудь посылаю, пишу при этом: «Вы сами видите, опять ничего не получилось», меня кто-то успокаивает, пишет, что улыбнулся, засмеялся… Мне очень дорого, чтобы в тексте было хоть что-нибудь смешное, чтобы заставить человека улыбнуться. Мне кажется, всякая правда, и даже самая высокая истина, должна быть хоть немного смешной, так устроен человеческий ум – а может быть, даже человеческая душа. Истина, которая пытается выдавать себя за слишком серьезную, – не настоящая. Некоторые люди это знают, даже поумнее меня, буддисты про это говорят…
Допустим, вы нашли такие стимулы и по какой-то причине хотите записать то, что вы придумали. Тут несколько технических моментов. Как настроиться на текст? Есть простые советы. Для меня, например, чрезвычайно важно выспаться; потом я могу не спать несколько ночей, но для начала мне нужно много спать. До того момента, пока сам не проснусь – чего никогда почти не бывает, потому что под окном какой-нибудь компрессор или автомобильная сигнализация… Или телефонный звонок – я это называю «сплю до первых мудаков»: позвонит какой-нибудь человек в восемь утра и скажет какую-нибудь совершенно ненужную чушь, например: «Вы читали последний номер „Звезды“?» Обязательно почему-то такие люди звонят в восемь утра. Очень важно ощущение свежести в голове;
Гоголь про него писал, он для этого мыл голову, у него были длинные волосы; как будто какие-то чакры открываются. Хотя для лысого человека, как я, это не так важно. Нельзя ни в коем случае… хотя я не знаю точно, нельзя ли, потому что я боялся этого всю жизнь больше всего и никогда ни строчки, ни страницы не написал, выпив хотя бы рюмку – не говоря уже о наркотиках. Также я полагаю, что не следует писать тексты после занятий любовью, или по крайней мере должен быть какой-то перерыв. Это почти допинг, что-то не то в голове – а ведь вам надо расслышать, что делается у вас в голове. Услышать свой собственный голос, его собственную интонацию.
Потом есть еще одна вещь, очень важная психологически. Сначала-то, понятно, у вас эйфория – особенно если вы знаете, что вы напишете. Но, во-первых, вы очень быстро убеждаетесь, что даже первая фраза всегда трудна. Если не случилось такого счастья, что она сама пришла или вы ее поймали из воздуха, то уже над ней одной сколько придется сидеть… Помогает, мне кажется, с самим собою немного поработать, смириться, как-то понять: нет, ты сейчас опять проиграешь, и эту партию тоже, великого ты не напишешь, и гениального не напишешь. Вспомни, пожалуйста, что не такое ты существо, чтобы пасти народы и учить человечество.
Иногда помогает от ложного пафоса, от высокомерной иронии, от всего, что не является вашим голосом, а является наслоением на него – вспомнить какой-нибудь поступок, которого стыдишься, сцену неприятную и так далее. Чтобы осознать свой собственный масштаб. Потому что когда человек садится за стол с ощущением своей значительности, когда человеку нравится, что он пишет, как он пишет… Если б я назвал фамилию, вы даже не поверили бы, настолько это был ничтожный писатель, который мне говорил: «Я пока сорок страниц за вечер не напишу, не чувствую себя физически здоровым». Какая это была жалкая графомания, и все с таким наслаждением… Главное – не допустить себя до этого наслаждения, до ощущения «какой я молодец и как хорошо то, что я пишу»: это значит, все пропало. Это потом видно сразу – я, по крайней мере, различаю, – то место на странице, где автор сказал себе: ай да Пупкин, ай да сукин сын! И все, и ничего не получилось.
Но это все пустяки, черновая техника, а самое главное все-таки – услышать свой собственный голос у себя в голове, поймать эту интонацию. Ведь мысли как будто не имеют интонации. Они проходят в голове как бегущая строка, причем в несколько этажей, и кажутся беззвучными. Но проблема как раз и состоит в том, чтобы услышать, кто я сегодня. Не всегда, а вот сегодня, сейчас, думая об этом, в эту самую минуту, такой, какой я есть. Почувствовать свое пребывание в этой минуте и услышать свой голос – это, собственно говоря, и есть главная задача. Голос иногда легче придумать. Я несколько лет назад придумал человека по имени Гедройц, гораздо моложе меня, такого безбашенного, непочтительного критика, который пишет и на жаргоне, может и присвистнуть, и непристойность написать… Только надо соблюдать правила игры, но это гораздо легче – писать от имени другого.
Также не особенно сложно придумать персонажа, которому вы не симпатизируете, и думать за него. У меня был в романе о Писареве комендант крепости Сорокин, еще какой-то цензор; у меня интерес к таким людям. Что я больше всего в жизни ненавижу? Я ненавижу тех, от кого я больше всего страдал – цензуру и госбезопасность, и я очень хорошо представляю себе их мышление. Оно в общем похоже на наше, но вывернуто наизнанку: то, что нам кажется хорошим, им кажется отвратительным. Я, когда был молодой и только поступил в редакцию журнала «Нева», проводил эксперименты, потому что уже тогда понимал, куда поступил. Но я-то думал, что буду такой «чужой среди своих», я поступаю как шпион, я из этого вынырну – но вынырнуть оказалось некуда. Или сопьюсь, думал я. Вышло ближе ко второму, чуть не спился, но не стал как они, не сделался презренным циником. Но я проводил эксперименты. И вот представьте себе: если дашь главному редактору – а главные редакторы и их заместители и были тогда главными цензорами, а не эти жалкие маленькие люди, которые сидели в Комитете по охране государственных тайн, – дашь, скажем, главному редактору два рассказа. Один на четверку написан, а другой на тройку с плюсом. Он обязательно выберет тот, который на тройку с плюсом, обязательно! А если в рассказе есть хорошая фраза, он обязательно ее найдет и с брезгливой гримасой вычеркнет. У них антивкус, понимаете? Это довольно легко – попытаться передать, как они мыслят: надо просто про то, что нам кажется нормальным и разумным, писать с брезгливым презрением. И вы сразу поймете ухмылку… достаточно же в телевизор взглянуть, и вы увидите этот презрительный прищур гэбэшника: он презирает вас как раз за то, за что вы себя уважаете, и он очень хорошо это знает. И этот голос тоже можно передать. А вот свой собственный найти…
Есть такое понятие «слог». И есть понятие «стиль». Я думаю, дело обстоит таким образом: слог может быть в том числе у ученого, у юриста, у естествоиспытателя. Прекрасный слог, говорят, был у Бюффона, это же он и сказал, что гений – это терпение; прекрасный слог, на мой взгляд, у Дарвина, у Брема замечательный. Это слог, где все слова стоят в правильном порядке, мысль не короче и не длиннее самой себя, а расположение слов соответствует расположению предметов. В слоге нет только одного – интонации: интонация Брема не отличается от интонации Бюффона, Шлезингера и так далее. Можно применить ораторский прием, сделать какое-нибудь восклицание или вопрос, но интонации – личной интонации – в слоге нет. Хотя слог – это уже очень большое достижение; писать хорошо, хорошим ясным слогом – большая удача и счастье. Вообще-то каждый должен таким слогом владеть.
Стиль – все-таки нечто иное. Даже про больших писателей вы можете не помнить, какие у них романы, они могут быть разные, неважно, все равно внутри себя мы отличаем Чехова от Толстого по интонации – по интонации их ума. Не по голосовой, а по интонации ума. Мне кажется, что найти кратчайшие, быстрейшие, наиболее экономные средства, чтобы передать интонацию своего ума, когда он думает о том, что вас волнует – потому что вам кажется, что вы можете сопоставить вашу мысль с истиной, что ваша мысль направлена на истину, – это и есть главная задача.
Настоящий текст, по-моему, как минимум трехслойный. Я говорю о тексте настоящем, который следовало бы как-то определить, но пока что, на сегодняшний день… тем более что у меня еще есть эпизод в конце, когда мне придется еще раз это объяснять, я лучше скажу это сейчас. Я думаю, что ключевое слово для настоящего текста – «волнение». Настоящий текст – тот, который содержит в себе волнение. То есть вы пытаетесь передать свое волнение от чего бы то ни было – а мы видим, что все-таки от важности сообщения, от того, что на самом деле в вас происходит, – и это волнение передается тому, кто читает ваш текст. Когда соблюдены эти условия, когда текст содержит в себе этот квант волнения – такой текст я называю настоящим. И вот настоящий текст, кажется мне, должен быть трехслойным. Потому что нет никакого смысла, как-то нелепо – и у вас не получится – писать с волнением про какого-нибудь Рубенса, если… Про Рубенса я так и не написал, просто у меня так получалось: попишу-попишу в какой-нибудь печатный орган два-три раза, а на четвертый мне давали от ворот поворот и больше не заказывали, или сам печатный орган закрывался. С Рубенсом как раз не получилось, и, может быть, поэтому я его часто вспоминаю. Но я хочу сказать: неинтересно мне было бы писать про Рубенса только то, что я угадал – да я и не угадал бы про него, – если бы это не было связано с какой-то личной, может быть даже интимной ситуацией моей собственной жизни. Потому что будь ты хоть какой литературовед или философ, все равно человек, который пишет стилем – он пишет про самого себя, так или иначе. Но проблема в том и состоит – и это очень хитро, – что вы должны писать про другого, ни в коем случае не разрешая себе думать, что пишете про себя. А все-таки эта связь с вашей личной ситуацией должна сохраняться, и это один слой. А другой слой – предмет, который вы описываете; он явный, верхний.
Есть еще третий слой. И это тоже очень трудно будет объяснить, потому что мне не хватает философского и психологического образования. Но. Что значит понять предмет, вещь, писателя, художника, человека, ситуацию, чувства – что бы то ни было? Понять для меня, не для великого мыслителя какого-нибудь, значит – почувствовать. Лучше почувствовать, а не придумать, лучше догадаться – вот правильное слово; вот если вам посчастливилось правильно догадаться, на что это похоже… По-моему, всякое наше понимание связано с тем, что мы сопоставляем вещь с чем-то. Почему мы, когда смотрим на живописный портрет, видим, кто там изображен? Мы видим этого человека и понимаем, что он, допустим, хитрый, злой, жестокий или, наоборот – добрый, глупый, еще какой-нибудь. Почему мы, глядя на людей, особенно с возрастом, понимаем это с одного взгляда? Потому что мы встречали людей, похожих на этого человека, и с ними у нас происходили разные вещи, они при нас говорили то-то и то-то. Мы можем очень ошибаться, вероятность ошибки тут чрезвычайно велика! Но понять что бы то ни было, не сопоставив, не сравнив, нельзя. Это не аналогия, это нечто иное: должны быть сопоставлены вещи из разных миров. И пересечение миров может случайно создать некий прорыв из этой реальности в ту, где находится истина.
Больше всего на свете я обожаю и считаю признаками гениальности вот такие сравнения и метафоры. Бывают такие метафоры, когда вы сопоставляете не просто человека с человеком, не человека с деревом, не морской прибой с музыкой, нет; дело даже не в банальности, а в том, что надо бы сравнить человека с ситуацией или предмет со сценой, которая с вами случилась в детстве. Самое простое, что приходит в голову – стихотворение Пастернака «На Страстной». Вот снег там такой: «А март разбрасывает снег / На паперти в толпе калек, / Как будто вышел человек, / И вынул, и раскрыл ковчег, / И все до нитки роздал». Понимаете, как это идет? Вот снег, а вот человек, который раздает милостыню. И на этом пересечении невозможного, казалось бы, сравнения возникает этот голос и то, ради чего это написано – а написано про Пасху, про Воскресение, про абсолютную раскрытость, – вот здесь она и возникает. Это мы все еще идем к тому, с чего начинается текст. Начинается все с этой охоты. Мы смотрим, мы думаем, мы чувствуем, мы пытаемся понять, вспомнить, на что похоже то, про что я хочу сейчас сказать, про что я думаю. Пока я не пойму, на что это похоже, я, собственно, не пойму, что я про это думаю. Потому что думаем мы, пробираемся к сути вещей всегда через другие вещи. Так устроено наше познание, насколько я его понимаю.
…Мы остановились на том, что текст является трехслойным. В нем то, что вы думаете о предмете. В нем то, что вы держите про себя в уме, в подсознании даже – чем этот предмет важен для вас, потому что он как-то связан с вашей личной жизнью, вашей личной судьбой, вашим мнением о самом себе. И он, кроме того, на что-то похож. Тут такое противоречие получается: это сходство, с одной стороны, должно быть убедительное и глубокое; но с другой стороны, если его можно высказать сразу и двумя словами, то, скорее всего, оно неглубокое. А если глубокое, то оказывается почему-то, что его никак не выразить сразу. Бо?льшая часть работы уходит на то, чтобы самому себе это внутреннее сходство уяснить и доказать. Это надо на примерах, у меня сейчас, пожалуй, не получится.
А вот что важно еще. Есть такое определение, оно лично мне принадлежит и некоторым кажется правильным. Есть еще одно измерение у текста: поэзия, написал я однажды, есть речь, похожая на свой предмет. Когда я читаю, скажем, у Бродского: «И громоздкая письменность с ревом идет на слом, / Никому не давая себя прочесть»[5 - Из стихотворения «Прилив» (1981).], то мне кажется, что я вижу одновременно и письменность, и эти зубчатые волны. И сама внутренняя графика строчки, фразы, чего угодно, – она может, если нам везет… тут от нас почти ничего не зависит, тут зависит от того, есть ли в вас эта одаренность. Оказывается, есть в вас не просто чувствительность, не просто ум, не просто выразительность слога, – хотя всего этого больше чем достаточно, чтобы быть приличным или даже очень хорошим писателем, – а вот есть ли в вас это: написать так, чтобы строчка была похожа на листву, на волну, чтобы волей-неволей ваш рассказ, о чем бы он ни был… чтобы ваш рассказ о Шукшине был похож на Шукшина! Но не так, чтобы вы Шукшину подражали, не так просто, как делает Анненский в «Книге отражений», когда пишет про Гоголя – под Гоголя, про Чехова – под Чехова; это слишком просто, а должно быть на другой какой-то глубине. Вот такие получаются измерения.
И тут есть еще одна важная вещь, когда вы принимаетесь за текст: вы должны понять, к кому вы обращаетесь. Вернее сказать, вы должны знать, что вы это должны понять. Лучше всего, чтобы это получалось автоматически, но тут есть три, по крайней мере, позиции, вот так же, как сейчас: я перед вами мог бы это делать тремя способами. Один, если бы я был настоящий ученый, университетский преподаватель или теоретик литературы: меня бы занимал предмет, я бы заботился о том, чтобы мои параграфы вытекали бы один из другого, чтобы они все вместе исчерпывали бы тему. Я думаю о своей теме, я обращен к своему предмету – это один способ.
Другой, хотя они не бывают совсем порознь, но в литературе бывают – это когда я вижу вас, чувствую атмосферу, некоторые люди мне знакомы, я чувствую хорошее отношение, сам как-то отношусь, я хочу понравиться, быть интересным; это очень опасный способ. Первый способ будем называть академическим, второй – ораторским, который бывает у учителей, артистов, лекторов. Для писателя он не очень годится – я, по крайней мере, очень этим мучаюсь. Вы пишете, а у вас есть какая-то референтная группа, и вы хотите им понравиться; они привыкли, что ты пишешь так, и ты не должен написать хуже, чем писал раньше. То есть вы начинаете зависеть от того, к кому обращен текст, а это плохо, если вы хотите написать что-нибудь замечательное. Слишком короткий адресат. Вот почему тексты в интернете, в частности в Живом Журнале, редко производят впечатление важных: потому что у них очень близкий адресат, они идут на короткое расстояние, они обращены к людям, которых автор знает. Они говорят на том же самом языке, который принят в общении в этой референтной группе, даже если она состоит из двух человек. Теперь-то это называется «дневник» или «журнал», в действительности это ближе к тому, что в XVIII–XIX веке в России называлось «альбом». Это альбомные тексты, они рассчитаны на узкий круг, в них получается привкус некоторой дружеской – иногда очень талантливой – самодеятельности. Для того чтобы написать настоящий текст, есть гораздо более тяжелый и страшный способ: вам нужно обращаться в никуда, в пустоту, туда, где никого нет, где вы совершенно один. Нужно почувствовать себя совершенно одиноким человеком. И как бы ни был я глуп, банален, несчастен и так далее – вот эти фразы, которые мне приходят в голову, они приходят в голову только мне и не обращены ни к кому другому. «Я думаю это». Я думаю это, смотря в какую-то серую темную пелену.
Бывают такие экскурсоводы. Мой немецкий знакомый, очень хороший писатель Юрий Малецкий, когда останавливается перед картиной в какой-нибудь мюнхенской пинакотеке, вдруг превращается в робота и начинает… он про любую картину может говорить полтора часа, два часа или три, ему все равно, его надо сдвигать с места. Но при этом он говорит, не обращаясь ни к кому, даже страшно на него смотреть. Вот на это похоже. Если вам удается достичь такого состояния, когда вас никто не слышит, голоса, падающего в пустоту, состояния совершенного одиночества – мне кажется, только при таких обстоятельствах можно написать вполне настоящий текст. Хотя, конечно, следовало бы спросить об этом писателей позначительнее меня. Это то, о чем не прочитаешь; я довольно много все-таки читал, но что-то я не видел, чтобы в этом кто-то признавался. Люди пишущие не очень любят в этом признаваться. И это одна из самых тяжелых задач – настроить себя таким именно образом. На самом-то деле это состояние следовало бы назвать отчаянием: вы пишете, не надеясь, что вас кто-нибудь прочитает, вообще «низачем». Вот ответ на вопрос «зачем». Вы пишете, потому что уж так сложилось: вы сели за стол, чтобы написать об этом, вам приходят в голову вот эти фразы, и вы стараетесь написать их как можно лучше. А именно… вот мы теперь и переходим к самой технике.
Это все было про то, как начать и настроиться на текст. А теперь вам нужно развить скорость. Вам нужно, чтобы он был – если вам нужно, если вы этого хотите, у меня это просто на уровне инстинкта: мне нужно, чтобы он был быстрый, мой текст. Понятно, что он выйдет такой, какой выйдет, а я просто задним числом пытаюсь понять, почему в тех или иных случаях это получилось. Я нашел для себя несколько совершенно нехитрых правил и приемов, каждый из которых в отдельности – а может, и вместе, – всем знакомы, но ничего иного и нового я сказать не могу.
Я прежде всего обнаружил, когда стал следить за собой, что для меня чрезвычайно важно, чтобы текст состоял из разных слов, в буквальном смысле разных. Чтобы текст, насколько возможно на его возможном для меня протяжении – может быть, из-за этого я почти всю жизнь писал короткие тексты, – но в этом коротком тексте одно и то же слово, по возможности, не должно повторяться. Понятно, что есть предлоги, союзы, союзные слова… Но слова не должны повторяться.
И когда я обнаружил, что это же действительно так – они у меня не повторяются, – я сначала очень удивился, радовался, гордился этим, что такой у меня замечательный словарный запас. Но потом я стал обращать внимание с течением лет и времени, особенно в последние годы… Казалось мне, что это не стоит никакого труда, что это так естественно: конечно же, слова все должны быть разные! В тексте – ну две, ну три, ну пять тысяч слов; что, у меня нет пяти тысяч слов, что ли? И тогда у меня было свойство такое, что я помнил весь свой текст, мне не нужно было даже заглядывать в него с начала: я знал, что это слово я еще ни разу не написал. Но потом это стало очень тяжело, и теперь я все чаще, с болью настоящей и испугом, ловлю себя на том, что я не помню – написал ли я это слово раньше или нет. Теперь, к счастью, есть компьютер, есть опция «найти»; я ищу слово, которое хочу написать, и вижу, что да, есть, и тогда придумываю другое. Но это, согласитесь, уже нехорошо, это уже механическая попытка улучшить свое мышление. А вообще, конечно, надо развивать в себе, пока молоды особенно, вот такой словарный запас, для чего нужно просто много читать, больше ничего. Большой словарный запас, чтобы это не составляло мучения.
Нет, конечно, можно повторять слова, если это вам нужно. И может оказаться даже чрезвычайно сильным приемом, если какое-нибудь слово вы повторите и раз, и другой, особенно если в разных значениях. Но все-таки это делает текст очень плотным, если он состоит из разных слов, это создает у читателя ощущение опрятности и какой-то физической свежести. Оттого, что слова не повторяются, текст выглядит как бы свежим – я это физически, когда читаю чужие тексты, чрезвычайно чувствую.
Это же правило распространяется и на синтаксис. Предложения, типы предложений – желательно, чтобы они тоже были разными, по крайней мере в одном абзаце, стоящие рядом, недалеко друг от друга; они должны быть разными по своей конструкции. Пока что нам необходима плотность текста; так вот, плотность текста создается его внутренним структурным разнообразием.
Главная ловушка, которая подстерегает любой текст… Вы же не все время пишете с вдохновением – более того, оно случайно. Иногда увлечение приходит: если вам повезло сложить фразу – и за ней другую – хорошо, то, может быть, придут за ней, как там у Пушкина написано, «две при?дут сами, третью приведут»[6 - Из поэмы «Домик в Коломне» (1830).], – так может быть. Но это, во-первых, очень редко случается, во-вторых, так может и не быть, а вы все равно должны работать. А работать – значит преодолевать монотонность. Говоришь всегда в одной какой-нибудь интонации, а интонация текста создается как интегральная из… Слова должны быть разными, предложения должны быть разными, и все это, конечно, должно работать на смысл. Слова должны быть разные – но абсолютно точные, предложения должны быть разные – но как можно короче и как можно более точно приближающиеся к вашей мысли.
Есть такое простое правило – даже смешно, что многие люди как будто не думали об этом, – что на свете существуют окончания мужские – на последний слог, женские – на предпоследний, и дактилические – третий от конца. И когда у вас идут подряд три предложения, которые все кончаются: «…вот стояла зима», и «…они пришли», и потом еще на какое-нибудь мужское окончание, – возникает вот эта монотонность, которую почему-то многие просто не видят и не замечают. И наоборот, если у вас окончания женские – «…мы были дома» и «…нам было скучно» и так далее, – возникает невероятная медленность, торможение, которое не нужно. А вот если это попытаться разнообразить… У профессионала это входит в привычку, для меня физически невозможно написать иначе. Я знаю, что можно взять любой абзац из любой моей книжки, и одно предложение будет заканчиваться на предпоследнем слоге от конца, а другое на последнем; может быть, еще одно на последнем, но следующее тогда уже дактилическое. Это такой живущий в вас неизбежный ритм, который вырабатывается, но за этим нужно следить.
В русском языке так странно все построено, что порядок слов довольно свободный, но эта свобода – она ужасно коварная. Часто слова слипаются и оказывается, что слово, стоящее между двумя другими, может относиться и к первому, и к третьему. И значит, очень важно поставить его так, чтобы оно относилось однозначно к одному, если вам не нужно другого. Ну и еще есть вещи типа инверсии… Очень хорошо объясняет, что такое поэзия, одна строчка Мандельштама: «А зодчий не был итальянец, но русский в Риме, – ну так что ж!»[7 - Из стихотворения «На площадь выбежав, свободен…» (1914).]. Понимаете, «А зодчий не был итальянец» – это поэзия, «А зодчий был не итальянец» – это проза.
Набоков очень любил такие вещи: малюсенький сдвиг в какой-нибудь фразе, кажется, никому не заметной и даже пустячной, да; а все равно, кому надо – заметит и почувствует, что во фразе есть некоторый секрет, в ней есть дополнительная энергия, она что-то еще значит. То, чего вы этим добиваетесь, должно быть вот как сформулировано: предложение должно быть больше самого себя. Вообще любой текст должен быть больше самого себя, глубже самого себя, он должен говорить нам больше того, что он говорит. И только это и есть признак настоящей, осмысленной, нужной нам речи; это ее эстетическое качество, собственно говоря. Не то, что она красиво звучит, хотя это тоже ужасно хорошо. И когда тебе повезет еще с аллитерацией… Знаете, я до сих пор помню, у меня в «Писареве» совершенно случайно сама получилась фраза, которую можно, по-моему, вставить в какие-то учебники – нарочно, что вот как может выпендриваться, дескать, человек. Там написано было про масленичные гуляния на Марсовом поле: «Зазывалы в белых балахонах голосили перед балаганами». И как я был доволен! Как красиво, вся эта аллитерация на «л», на «а» – а ведь все правда, все точно, ничего же не сделано нарочно: они в самом деле зазывалы в белых балахонах, в самом деле голосили, в самом деле перед балаганами. Вот когда совпадает пускай даже внешняя нарядность с точностью, то возникает такой электрический разряд, и ты бываешь даже сам иногда доволен. Это все относится к экономике слога, потому что в конце-то концов все равно вы хотите сказать нечто важное.
И тут мы приближаемся к двум ужасным проблемам, о которых я не так много буду говорить, потому что это потребует еще времени. Проблема первой фразы существует – для меня, по крайней мере. Еще более ужасная, болезненная, неразрешимая для меня – проблема перехода от первой фразы ко второй, от абзаца к абзацу. Самое трудное – то, что между абзацем и абзацем, между фразой и фразой. Мне кажется, здесь и есть одна из основных тайн прозаической речи, прозаического текста, потому что в поэзии это решается само собой, поэзия – она и стоит на быстрых переходах. Почитайте, что Набоков пишет в комментариях к «Евгению Онегину», он как раз об этом пишет. Что такое вообще «Евгений Онегин»? Это повесть с быстрыми переходами. И в самом деле, это сплошное наслаждение – смотреть, как осуществляется переход от строфы к строфе, это абсолютная свобода, и этому можно учиться бесконечно: вот просто читать «Евгения Онегина» и смотреть, как это делается. Но это же бывает один раз в пятьсот лет, а решать надо буквально каждый день – просто как от абзаца перейти к абзацу, чтобы не быть нудным. Потому что, с одной стороны, должна же сохраняться какая-то логика, а с другой стороны, если ее сохранять, то это медленно и скучно. И это действительно почти невыносимо, и каждый раз это решается заново.