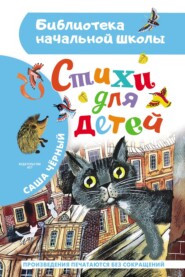По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первое знакомство
Автор
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ж, что пью? Многие пьют… Так не возьмете?
– Нет, не возьму.
Возвращаюсь.
– Чего это он вас звал? – спрашивает Дуня.
– Так… Пятаки старые продать хотел.
– Купили?
– Нет, не купил.
– Куды их, старые-то! Новых бы поболе было.
– Что ж бы вы с ними делали, если б много было?
Дуня быстро переглядывается с Сашей.
– Смеетесь? С деньгами и дурак умный. В город бы уехала, вот что.
– Разве здесь плохо?
– Здесь… Чего здесь делать – вшей кормить, что ли? – грубо обрывает меня Дуня. – Замуж сбудут. Мужа на шахты, меня в хомут… Не видали, что ли, сколько здесь баб вроде монашек? Мужа нет, а с кем хошь за грош…
Саша еще ниже склоняется к станку и дергает Дуню за подол.
Пауза.
– Ну, что же, продиктуйте еще что-нибудь, – робко прошу я.
– Пишите:
Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под липовых кореньев…
Из-под липовых кореньев
На мое ли разоренье…
Ах, какая песня! Но следующая была, как удар по уху, – шедевр армейско-базарной сентиментальности: об «ахвицерике молодом», который «ножкой топнул, ручкой хлопнул по белу Машу лицу». «Очень, стало быть, лихо хлопнул!» – восторженно объяснила Дуня. Записал еще и еще, и все прекрасные песни были деревенские, а все бессмысленные или хамские были городские, разве кроме «Коробушки» и еще одной, двух.
Так вот что поют они по вечерам, раскачивая нехитрые, но неуловимые мелодии с необыкновенной быстротой или тягуче и хрипло повышая их до пьяного крика… Я бы записал еще, но Игнат стал в дверях, расставив свои кривые ноги, потом пришел маляр, который красил в школе крышу, и тоже застрял в дверях, заглянула в окно мимоидущая баба и завязла в нем с раскрытым ртом. Пришлось уйти, да и Дуня застыдилась и замолчала.
Я долго сидел на скамье у школы и перечитывал свои песни, скажу правду, не менее горячо, чем Верлена. Так вот как «они» чувствуют природу…
Ветер-ветерочек, ветер – тоненький голосочек…
А вы, милорд, жили бок о бок и думали…
– Здравствуй, милай!
Подымаю голову: ах, это сосед!
– Здравствуйте.
После того злополучного вечера он сегодня в первый раз со мной поздоровался.
– Ну, что, как порешили?
– Это насчет хуторов-то? – Сосед уныло плюет наземь. – Шут их знает! Не пожелали сперва, да член урезонил. Согласились… А теперь ходят, ругаются.
– А вы-то сами довольны?
– Мне что. Куда люди, туды и я.
– Как же так? Если все так будут говорить, то и схода не надо.
– Кто его знает, може, и не надо. С весны нам переселяться, пособие дадут – на много ль его хватит? Избы у нас все больше кирпичные, вот горе! Сруб перевезешь, а кирпич станешь разбирать – побьешь половину. Опять же овцы. На хуторах, брат, шабаш! Теперь самый бедный, как я, скажем, овцы три либо пять держит… Общество.
– А вы в хлеву держите, как… в Германии, – спотыкаюсь я.
– В хлеву… А кормить чем? Теперь, скажем, выгон да овраги…
– Клевер сейте, – авторитетно советую я, – семена земство даром дает. Чего лучше! Управляющий в экономии обходится без выгона.
– Обошелся! С этого самого клевера два теленка у него поколело, – злорадно сообщает он.
– Обожрались, может быть?
– Там с чего, это дело не наше, а клевер-то вот и оказался!
Увы, через триста лет будут помнить в селе только этих двух телят и не вспомнят ни об одном, кому этот клевер был питательней рыбьего жира.
– Ни к чему все это, барин… Вон после Харитона баба осталась. С похорон пришла, полведра купила, четверть на угощение, а другую четверть тут же гостям и продала. Нашла себе занятие, теперь живет… ничего. Так-то! – прибавляет он злобно, точно возражая кому-то, и отходит прочь.
Разворачиваю тетрадку. Прекрасные песни, о которых я только что думал, завяли: вижу слова, вижу строки. Пусто и темно… Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?
Доктор возвращается из больницы и машет мне рукой:
– Размышляете? Идемте ко мне чай пить!
Покорно встаю и иду за ним к низеньким желтым дверям его квартиры. У крайнего окна больницы с любопытством вытягивает шею мальчик с забинтованной головой.
– Не соскучились еще у нас?
– Нет, напротив… напротив.
– Когда уезжаете?
– Не знаю. Как поживется… Недели через две…
– Нет, не возьму.
Возвращаюсь.
– Чего это он вас звал? – спрашивает Дуня.
– Так… Пятаки старые продать хотел.
– Купили?
– Нет, не купил.
– Куды их, старые-то! Новых бы поболе было.
– Что ж бы вы с ними делали, если б много было?
Дуня быстро переглядывается с Сашей.
– Смеетесь? С деньгами и дурак умный. В город бы уехала, вот что.
– Разве здесь плохо?
– Здесь… Чего здесь делать – вшей кормить, что ли? – грубо обрывает меня Дуня. – Замуж сбудут. Мужа на шахты, меня в хомут… Не видали, что ли, сколько здесь баб вроде монашек? Мужа нет, а с кем хошь за грош…
Саша еще ниже склоняется к станку и дергает Дуню за подол.
Пауза.
– Ну, что же, продиктуйте еще что-нибудь, – робко прошу я.
– Пишите:
Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под липовых кореньев…
Из-под липовых кореньев
На мое ли разоренье…
Ах, какая песня! Но следующая была, как удар по уху, – шедевр армейско-базарной сентиментальности: об «ахвицерике молодом», который «ножкой топнул, ручкой хлопнул по белу Машу лицу». «Очень, стало быть, лихо хлопнул!» – восторженно объяснила Дуня. Записал еще и еще, и все прекрасные песни были деревенские, а все бессмысленные или хамские были городские, разве кроме «Коробушки» и еще одной, двух.
Так вот что поют они по вечерам, раскачивая нехитрые, но неуловимые мелодии с необыкновенной быстротой или тягуче и хрипло повышая их до пьяного крика… Я бы записал еще, но Игнат стал в дверях, расставив свои кривые ноги, потом пришел маляр, который красил в школе крышу, и тоже застрял в дверях, заглянула в окно мимоидущая баба и завязла в нем с раскрытым ртом. Пришлось уйти, да и Дуня застыдилась и замолчала.
Я долго сидел на скамье у школы и перечитывал свои песни, скажу правду, не менее горячо, чем Верлена. Так вот как «они» чувствуют природу…
Ветер-ветерочек, ветер – тоненький голосочек…
А вы, милорд, жили бок о бок и думали…
– Здравствуй, милай!
Подымаю голову: ах, это сосед!
– Здравствуйте.
После того злополучного вечера он сегодня в первый раз со мной поздоровался.
– Ну, что, как порешили?
– Это насчет хуторов-то? – Сосед уныло плюет наземь. – Шут их знает! Не пожелали сперва, да член урезонил. Согласились… А теперь ходят, ругаются.
– А вы-то сами довольны?
– Мне что. Куда люди, туды и я.
– Как же так? Если все так будут говорить, то и схода не надо.
– Кто его знает, може, и не надо. С весны нам переселяться, пособие дадут – на много ль его хватит? Избы у нас все больше кирпичные, вот горе! Сруб перевезешь, а кирпич станешь разбирать – побьешь половину. Опять же овцы. На хуторах, брат, шабаш! Теперь самый бедный, как я, скажем, овцы три либо пять держит… Общество.
– А вы в хлеву держите, как… в Германии, – спотыкаюсь я.
– В хлеву… А кормить чем? Теперь, скажем, выгон да овраги…
– Клевер сейте, – авторитетно советую я, – семена земство даром дает. Чего лучше! Управляющий в экономии обходится без выгона.
– Обошелся! С этого самого клевера два теленка у него поколело, – злорадно сообщает он.
– Обожрались, может быть?
– Там с чего, это дело не наше, а клевер-то вот и оказался!
Увы, через триста лет будут помнить в селе только этих двух телят и не вспомнят ни об одном, кому этот клевер был питательней рыбьего жира.
– Ни к чему все это, барин… Вон после Харитона баба осталась. С похорон пришла, полведра купила, четверть на угощение, а другую четверть тут же гостям и продала. Нашла себе занятие, теперь живет… ничего. Так-то! – прибавляет он злобно, точно возражая кому-то, и отходит прочь.
Разворачиваю тетрадку. Прекрасные песни, о которых я только что думал, завяли: вижу слова, вижу строки. Пусто и темно… Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?
Доктор возвращается из больницы и машет мне рукой:
– Размышляете? Идемте ко мне чай пить!
Покорно встаю и иду за ним к низеньким желтым дверям его квартиры. У крайнего окна больницы с любопытством вытягивает шею мальчик с забинтованной головой.
– Не соскучились еще у нас?
– Нет, напротив… напротив.
– Когда уезжаете?
– Не знаю. Как поживется… Недели через две…