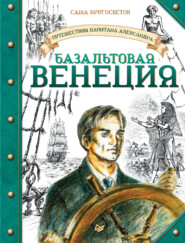По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечный эскорт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Викторин вскочила и вылетела из вагона на площадку. Ее сжал ледяной ночной холод – ужас, околеть можно. Хорошо, что есть шарф, закутала им шею и голову.
Она никогда прежде не бывала в этих местах, но все казалось ей странно знакомым. Будто она это когда-то уже видела.
Совсем не похоже на Францию, одни ели и сосны. Ели стоят сплошными отвесными стенами вдоль широкой аллеи железной дороги. В свете от окон вагонов видна трава, почему она совсем свежая, зеленая? В августе трава бывает обычно желтой, высохшей, обожженной солнцем. А здесь такая тонкая, длинная, мягкая, будто шелковая. Она что-то такое читала. А звезды, какие большие! Огромные, мерцающие, совсем чужие, и причудливые, как в калейдоскопе, узоры. Ну да, это готические рисунки, будто резьба на стенах соборов. Что за звуки диковинные, чей это шепот, кто это говорит, почему язык ей незнаком?
Из памяти сами собой выплывали странные слова: «Мэтр Захариус был знаменитым мастером часовых дел, а его часы высоко ценились во многих странах. Женевские часовые мастера злословили, что он продал душу дьяволу, а мастер утверждал, что если Бог создал вечность, то он создал время. А потом с ним приключилось странное событие. Все часы, сделанные им, пришли в полное расстройство. А его здоровье стало таять прямо на глазах, словно они были соединены незримой нитью…»[23 - Ж. Верн, «Мастер Захариус».] Откуда выскочили эти странные слова и что они означали? Викторин скорчилась от напряжения, все это становилось невыносимым.
Наверху, в сине-фиолетовом небе, мерцали, будто ненастоящие, звезды – гасли и вновь разгорались. Замороженный дым длинными кусками ваты плыл над поездом. Керосиновая лампа на площадке подсвечивала все желтым неровным светом, а тени получались почему-то красноватыми. Поскорей бы уже вернулись тетушки.
Холод обручем стягивал голову, хотелось вернуться в вагонное тепло, уснуть и забыть об этом наваждении. Но нет, сейчас это никак невозможно. И не надо притворяться, что она не понимает, что все-таки происходит. «Мы сейчас в поезде. Едем в Париж. Завтра, наверное, будем в Париже, – громко сказала она. – Мне тринадцать лет, а весной будет четырнадцать. Я уже почти девушка, очень интересная девушка. Я многое знаю и умею, а в Париже узнаю еще больше».
Она осматривалась в темноте, искала признаки утренней зари, но взгляд неизменно натыкался на плотные стены леса с двух сторон дороги и на льдистый диск луны. «Как же я ненавижу его, какой он ужасный… Нет, что я говорю? Я все-таки совсем, совсем глупая». Викторин встала перед лампой на колени, грела озябшие пальцы, руки казались прозрачными и светились красным, тепло медленно ползло вверх, согревало локти, поднималось к плечам, шее, груди; она слишком устала, у нее не было сил, чтобы признаться, что она испугалась этого убогого немого.
Он же между тем давно стоял у нее за спиной – безучастный, словно манекен, безвольно свесив руки вдоль туловища и опустив голову. В какой-то момент она поняла это, но ей еще потребовалось некоторое время, чтобы обернуться. Викторин встрепенулась и с вызовом посмотрела прямо в его плоское, безобидное, ничего не выражающее лицо.
И тут до нее дошло, отчего она испугалась. Она вспомнила детство и ужас, который когда-то нависал над ней, как сейчас нависают эти две темные глухие стены с двух сторон этой кошмарной, фантастической дороги в никуда, дороги, конца которой не видно, дороги, две линии которой упираются во мрак и сходятся в кромешной темноте, в точке, где никогда не бывает рассвета.
Тогда, в детстве, над ней нависали такие же темные ночные бастионы деревьев. Они шептали ей что-то. А тетки, поварихи, гости – все наперебой рассказывали Викторин про смерть, про привидения, про духов, которые приходят по ночам, чтобы забрать детей к себе, в черную преисподнюю.
Гости, однажды приехавшие к теткам из Южной Америки, поведали детям о призрачном корабле «Каулеуче» с черными парусами. Там, на «Каулеуче», нечистая сила живет, а палуба блестит, словно мокрая рыбья чешуя. Днем корабль прячется в подводном котловане. Ночью появляется в мерцающем свете красных фонарей, которые держат ведьмаки и матросы-оборотни. Оборотни – страшилища, у каждого одна нога за спину заброшена и вокруг шеи обернута. Лицо каждого назад обращено, к темному прошлому.
Гости рассказывали, что детей можно лечить от страха настоем «воды-водяницы». Лекарство надо готовить из толченого кусочка рога Камауэто-единорога. Кому дадут «воду-водяницу», у того кожа темными пятнами пойдет, а характер станет невозможным, злобным, задиристым.
О чем только не говорили гости! И о русалке Пинкойе, красавице со светлыми волосами, которые она расчесывает золотым гребнем. О карлике Трауке, лесном бесе. На голове карлика – колпак. Вместо глаз – две бусинки. Он подстерегает детей в лесных чащобах. О чудище пещерном, что выросло без отца, без матери. Вскормила его черная кошка. Начальником чудище над всеми ведьмаками поставлено. Выйдет оно из пещеры при луне, прикажет ведьмакам – и несутся те по белу свету, по морю, по горам, на все живое порчу наводят, злые козни строят. Ест чудище пещерное только мертвецов. Указывает ведьмакам, где и когда творить зло. Судьбу угадывает. Знает, кто к кому хочет прийти.
Темной ночью услышишь стоны – затворяй окна и двери, не то жди беды. Кто встретит чудище, умом тронется со страху, только «водой-водяницей» и можно его отпоить. Так что далеко не ходи, детка, матрос-оборотень найдет, русалка под воду затянет, ведьмак поймает, карлик-колдун живьем съест, чудище пещерное увидишь – головой тронешься. Всюду нежить. Ночью залезешь с головой под одеяло – ой-ё-ёй! А если это он, злой колдун, стучит в окно?
Викторин выпрямилась, глубоко вздохнула – чур меня, чур, нечистая сила! Немой кланялся, кланялся, указывал рукой на дверь.
В вагоне спали все, кроме карлицы. Та сидела как мумия и даже не взглянула на вошедшую Викторин. Немой втиснулся в угол, как-то неловко перекрутив ноги и неестественно заломив гибкие руки за голову.
Викторин постаралась как можно небрежней опуститься на свое место и уперлась взглядом в газету. Конечно, этот убогий неотрывно смотрит на нее немигающим взглядом. Хотелось закричать, разбудить кого-то, позвать на помощь. А если ее не услышат? Вдруг они все заодно, вдруг они всё знают и не спят, а только делают вид? Нетопыри и чудища! Слезы постепенно наполняли ее глаза, рисунок в газете – она так и не поняла, что же там изображено, – увеличивался в размере, линии становились размытыми и расплывчатыми, рисунок закрыл постепенно весь газетный разворот и превратился в огромное туманное пятно.
– Хорошо, пусть будет по-вашему, – сказала она каким-то вялым, будто не своим голосом. – У меня есть пятьдесят сантимов. Что вам еще от меня надо?
Никто ей не ответил. На лицах обоих ее спутников отразилась только холодная скука. Она смотрела на немого.
Лицо его превращалось в светло-серый булыжник, колебалось, уплывало куда-то вглубь. Она закрыла свое лицо шарфом.
– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе пойдем ловить Камауэто. Он всем нам принесет счастье.
Теплая волна захлестнула ее, понесла по желтому песку. Она смутно чувствовала, что чья-то рука шарит по ее ноге. Ей представилась кривая улыбка на лице клоуна. Ну и пусть, от меня не убудет. Неужели я так легко оттолкну этого несчастного, этого Богом обиженного немого? Потом внезапно все переменилось. Рука исчезла, мощное бедро тетушки Эвелины притиснуло ее к стенке, и Викторин окончательно провалилась в теплую черноту.
Когда она проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колесами на стыках рельс в предместьях Парижа. Тетушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, недотепа, скоро Gare de L’Est[24 - Восточный вокзал.]». Как ты выглядишь?
Карлицы и немого не было.
– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили им тебя будить. Что за отвратительная пара!
«Хоть в чем-то мы с тетушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот вагон, эта дорога – какое ужасное наваждение! Надо все забыть. Просто кусок прошлой жизни, которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь. Каждый день все сызнова. Скоро не будет и тетушек, они побудут пару дней и уедут домой. И останутся только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только начинается. „Виктория“ – значит „победа“. Тебя ждут блестящие победы».
Девушка заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобраться, ничего плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит, подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей дурой? На меня это совсем не похоже, – Викторин украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посредине и спрятала в сумочку. – Может быть, „куриное божество“ действительно принесет мне удачу в любви? А что эта карлица болтала о моих тетушках? В моей деревушке тоже почему-то трепались, будто тетушки ненастоящие. Может, и ненастоящие. Но щиплется тетя Эвелина вполне по-настоящему, все руки в синяках».
Пробившись сквозь толпу на вокзале, они вышли через высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!
Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дернула ее за юбку грязной рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!» Та никогда не видела ничего подобного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, ее все знают, что раньше ее звали Королевой Мабилль.
– Она была куртизанкой. Удивительной красавицей… А начинала на балах Мабилль[25 - Особого рода балы в Париже, посещаемые женщинами легкого поведения.]. Вы знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Не знаете? Может, это и к лучшему! Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что изобрела канкан. Довольно-таки вызывающий танец.
– Я читала о ней, ее зовут Селест Могадо[26 - В знаменитом «Мулен Руж» канкан был исполнен впервые на открытии кабаре танцовщицей Селест Могадо.].
– У нее было все: бриллианты, дворец, кареты… В общем – что говорить? – жила на широкую ногу. Любила многих, а вот теперь она – никто.
– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспомнила романс, который пела в поезде:
В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг ее гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!
– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы Парижа.
Так буднично, нетриумфально однажды свежим утром Олимпия появилась в Париже, чтобы завоевать!
Мы знаем из свидетельств современников Викторин: именно так она и назвала себя, будущей Олимпией. Без сомнения, девушка читала роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом антагонистку главной героини книги Маргариты Готье, известную всему Парижу куртизанку Олимпию, холодную, расчетливую, не верящую в любовь и неспособную любить. Это было сродни озарению. Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане. Предвидела, провозгласила девиз своей жизни, но не понимала тогда значения этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее ее блестящей и скандальной известности.
«Может, и меня ждет столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед уходящей нищенке, осчастливленной монетой в полфранка. – Карлица ведь сказала об этом. Пусть так. Все равно я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже добьюсь своего. Она многих любила. Но никакой любви на самом деле не бывает. Выдумка богатых. Не хочу быть ни Королевой Мабилль, ни этой жалкой Маргаритой Готье. Я стану Олимпией! Пусть лучше меня любят».
9
Ирочка Котек была первой моей ундиной. Совсем моей, если допустить, что ундина может быть чьей-то. Русалка, наверное, может любить, но все равно живет сама по себе.
Я сразу понял, что это ундина, как только ее увидел. Она задумчиво шла по безымянной улице между Инженерным домом и Артиллерийским цейхгаузом Петропавловской крепости. Совсем молодая, очень грустная и вконец потерянная. «Ей восемнадцать, наверное, студентка какого-нибудь гуманитарного вуза. Вечером учится, днем работает», – подумал я. Потом подтвердилось, что я угадал.
Институт культуры и восемнадцать лет!
Зачем я вообще подошел к ней? Мне уже почти двадцать семь, а тут совсем молоденькая девочка. Обыкновенная, такая, как все. Одета просто: невзрачная кремовая блузка, серая юбчонка и мягкие туфли без каблука.
Ее не назовешь красоткой. Глаза хоть и большие, но прозрачные и водянистые, уголки уныло опустились вниз. Ни краски, ни теней. Бледная кожа; волосы русые, прямые, стрижка без затей. Чуть одутловатые щеки, небольшой ротик, сложенный скорбным бантиком. Но ведь это не просто девушка, это ундина, черт бы меня побрал, – сердце стучало, как взбесившиеся часы, все существо мое кричало о том, что передо мной настоящая ундина. Не знаю уж, как я это почувствовал, но понял и не мог я упустить такой случай!
Мы разговорились. Я быстро уболтал ее – выставки, концерты, французское кино, «Розовый телефон»[27 - Французский кинофильм, режиссер Эдуард Молинаро.], книги… Она не очень разбиралась в искусстве… Наверное, ей хотелось быть хоть как-то причастной к миру культуры. Увы, в этом пороке ее нельзя было заподозрить. Впрочем, зачем тебе, милая, этот мир навороченных городских условностей и надуманных цивилизационных ценностей? По мне, ты и так хороша своей юной, не замутненной излишками знаний свежестью, наивностью и непосредственностью.
Чудная пора, в ее возрасте все кажется притягательным и интересным. Обратил внимание на женственные движения милых ручек и оттопыренных пальчиков. Руки выдают человека. Ноги, кстати, тоже.
Пили кофе, весь день гуляли по Невскому, Мойке, Апрашке, вечером пришли ко мне.
Она никогда прежде не бывала в этих местах, но все казалось ей странно знакомым. Будто она это когда-то уже видела.
Совсем не похоже на Францию, одни ели и сосны. Ели стоят сплошными отвесными стенами вдоль широкой аллеи железной дороги. В свете от окон вагонов видна трава, почему она совсем свежая, зеленая? В августе трава бывает обычно желтой, высохшей, обожженной солнцем. А здесь такая тонкая, длинная, мягкая, будто шелковая. Она что-то такое читала. А звезды, какие большие! Огромные, мерцающие, совсем чужие, и причудливые, как в калейдоскопе, узоры. Ну да, это готические рисунки, будто резьба на стенах соборов. Что за звуки диковинные, чей это шепот, кто это говорит, почему язык ей незнаком?
Из памяти сами собой выплывали странные слова: «Мэтр Захариус был знаменитым мастером часовых дел, а его часы высоко ценились во многих странах. Женевские часовые мастера злословили, что он продал душу дьяволу, а мастер утверждал, что если Бог создал вечность, то он создал время. А потом с ним приключилось странное событие. Все часы, сделанные им, пришли в полное расстройство. А его здоровье стало таять прямо на глазах, словно они были соединены незримой нитью…»[23 - Ж. Верн, «Мастер Захариус».] Откуда выскочили эти странные слова и что они означали? Викторин скорчилась от напряжения, все это становилось невыносимым.
Наверху, в сине-фиолетовом небе, мерцали, будто ненастоящие, звезды – гасли и вновь разгорались. Замороженный дым длинными кусками ваты плыл над поездом. Керосиновая лампа на площадке подсвечивала все желтым неровным светом, а тени получались почему-то красноватыми. Поскорей бы уже вернулись тетушки.
Холод обручем стягивал голову, хотелось вернуться в вагонное тепло, уснуть и забыть об этом наваждении. Но нет, сейчас это никак невозможно. И не надо притворяться, что она не понимает, что все-таки происходит. «Мы сейчас в поезде. Едем в Париж. Завтра, наверное, будем в Париже, – громко сказала она. – Мне тринадцать лет, а весной будет четырнадцать. Я уже почти девушка, очень интересная девушка. Я многое знаю и умею, а в Париже узнаю еще больше».
Она осматривалась в темноте, искала признаки утренней зари, но взгляд неизменно натыкался на плотные стены леса с двух сторон дороги и на льдистый диск луны. «Как же я ненавижу его, какой он ужасный… Нет, что я говорю? Я все-таки совсем, совсем глупая». Викторин встала перед лампой на колени, грела озябшие пальцы, руки казались прозрачными и светились красным, тепло медленно ползло вверх, согревало локти, поднималось к плечам, шее, груди; она слишком устала, у нее не было сил, чтобы признаться, что она испугалась этого убогого немого.
Он же между тем давно стоял у нее за спиной – безучастный, словно манекен, безвольно свесив руки вдоль туловища и опустив голову. В какой-то момент она поняла это, но ей еще потребовалось некоторое время, чтобы обернуться. Викторин встрепенулась и с вызовом посмотрела прямо в его плоское, безобидное, ничего не выражающее лицо.
И тут до нее дошло, отчего она испугалась. Она вспомнила детство и ужас, который когда-то нависал над ней, как сейчас нависают эти две темные глухие стены с двух сторон этой кошмарной, фантастической дороги в никуда, дороги, конца которой не видно, дороги, две линии которой упираются во мрак и сходятся в кромешной темноте, в точке, где никогда не бывает рассвета.
Тогда, в детстве, над ней нависали такие же темные ночные бастионы деревьев. Они шептали ей что-то. А тетки, поварихи, гости – все наперебой рассказывали Викторин про смерть, про привидения, про духов, которые приходят по ночам, чтобы забрать детей к себе, в черную преисподнюю.
Гости, однажды приехавшие к теткам из Южной Америки, поведали детям о призрачном корабле «Каулеуче» с черными парусами. Там, на «Каулеуче», нечистая сила живет, а палуба блестит, словно мокрая рыбья чешуя. Днем корабль прячется в подводном котловане. Ночью появляется в мерцающем свете красных фонарей, которые держат ведьмаки и матросы-оборотни. Оборотни – страшилища, у каждого одна нога за спину заброшена и вокруг шеи обернута. Лицо каждого назад обращено, к темному прошлому.
Гости рассказывали, что детей можно лечить от страха настоем «воды-водяницы». Лекарство надо готовить из толченого кусочка рога Камауэто-единорога. Кому дадут «воду-водяницу», у того кожа темными пятнами пойдет, а характер станет невозможным, злобным, задиристым.
О чем только не говорили гости! И о русалке Пинкойе, красавице со светлыми волосами, которые она расчесывает золотым гребнем. О карлике Трауке, лесном бесе. На голове карлика – колпак. Вместо глаз – две бусинки. Он подстерегает детей в лесных чащобах. О чудище пещерном, что выросло без отца, без матери. Вскормила его черная кошка. Начальником чудище над всеми ведьмаками поставлено. Выйдет оно из пещеры при луне, прикажет ведьмакам – и несутся те по белу свету, по морю, по горам, на все живое порчу наводят, злые козни строят. Ест чудище пещерное только мертвецов. Указывает ведьмакам, где и когда творить зло. Судьбу угадывает. Знает, кто к кому хочет прийти.
Темной ночью услышишь стоны – затворяй окна и двери, не то жди беды. Кто встретит чудище, умом тронется со страху, только «водой-водяницей» и можно его отпоить. Так что далеко не ходи, детка, матрос-оборотень найдет, русалка под воду затянет, ведьмак поймает, карлик-колдун живьем съест, чудище пещерное увидишь – головой тронешься. Всюду нежить. Ночью залезешь с головой под одеяло – ой-ё-ёй! А если это он, злой колдун, стучит в окно?
Викторин выпрямилась, глубоко вздохнула – чур меня, чур, нечистая сила! Немой кланялся, кланялся, указывал рукой на дверь.
В вагоне спали все, кроме карлицы. Та сидела как мумия и даже не взглянула на вошедшую Викторин. Немой втиснулся в угол, как-то неловко перекрутив ноги и неестественно заломив гибкие руки за голову.
Викторин постаралась как можно небрежней опуститься на свое место и уперлась взглядом в газету. Конечно, этот убогий неотрывно смотрит на нее немигающим взглядом. Хотелось закричать, разбудить кого-то, позвать на помощь. А если ее не услышат? Вдруг они все заодно, вдруг они всё знают и не спят, а только делают вид? Нетопыри и чудища! Слезы постепенно наполняли ее глаза, рисунок в газете – она так и не поняла, что же там изображено, – увеличивался в размере, линии становились размытыми и расплывчатыми, рисунок закрыл постепенно весь газетный разворот и превратился в огромное туманное пятно.
– Хорошо, пусть будет по-вашему, – сказала она каким-то вялым, будто не своим голосом. – У меня есть пятьдесят сантимов. Что вам еще от меня надо?
Никто ей не ответил. На лицах обоих ее спутников отразилась только холодная скука. Она смотрела на немого.
Лицо его превращалось в светло-серый булыжник, колебалось, уплывало куда-то вглубь. Она закрыла свое лицо шарфом.
– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе пойдем ловить Камауэто. Он всем нам принесет счастье.
Теплая волна захлестнула ее, понесла по желтому песку. Она смутно чувствовала, что чья-то рука шарит по ее ноге. Ей представилась кривая улыбка на лице клоуна. Ну и пусть, от меня не убудет. Неужели я так легко оттолкну этого несчастного, этого Богом обиженного немого? Потом внезапно все переменилось. Рука исчезла, мощное бедро тетушки Эвелины притиснуло ее к стенке, и Викторин окончательно провалилась в теплую черноту.
Когда она проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колесами на стыках рельс в предместьях Парижа. Тетушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, недотепа, скоро Gare de L’Est[24 - Восточный вокзал.]». Как ты выглядишь?
Карлицы и немого не было.
– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили им тебя будить. Что за отвратительная пара!
«Хоть в чем-то мы с тетушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот вагон, эта дорога – какое ужасное наваждение! Надо все забыть. Просто кусок прошлой жизни, которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь. Каждый день все сызнова. Скоро не будет и тетушек, они побудут пару дней и уедут домой. И останутся только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только начинается. „Виктория“ – значит „победа“. Тебя ждут блестящие победы».
Девушка заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобраться, ничего плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит, подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей дурой? На меня это совсем не похоже, – Викторин украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посредине и спрятала в сумочку. – Может быть, „куриное божество“ действительно принесет мне удачу в любви? А что эта карлица болтала о моих тетушках? В моей деревушке тоже почему-то трепались, будто тетушки ненастоящие. Может, и ненастоящие. Но щиплется тетя Эвелина вполне по-настоящему, все руки в синяках».
Пробившись сквозь толпу на вокзале, они вышли через высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!
Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дернула ее за юбку грязной рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!» Та никогда не видела ничего подобного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, ее все знают, что раньше ее звали Королевой Мабилль.
– Она была куртизанкой. Удивительной красавицей… А начинала на балах Мабилль[25 - Особого рода балы в Париже, посещаемые женщинами легкого поведения.]. Вы знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Не знаете? Может, это и к лучшему! Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что изобрела канкан. Довольно-таки вызывающий танец.
– Я читала о ней, ее зовут Селест Могадо[26 - В знаменитом «Мулен Руж» канкан был исполнен впервые на открытии кабаре танцовщицей Селест Могадо.].
– У нее было все: бриллианты, дворец, кареты… В общем – что говорить? – жила на широкую ногу. Любила многих, а вот теперь она – никто.
– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспомнила романс, который пела в поезде:
В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг ее гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!
– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы Парижа.
Так буднично, нетриумфально однажды свежим утром Олимпия появилась в Париже, чтобы завоевать!
Мы знаем из свидетельств современников Викторин: именно так она и назвала себя, будущей Олимпией. Без сомнения, девушка читала роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом антагонистку главной героини книги Маргариты Готье, известную всему Парижу куртизанку Олимпию, холодную, расчетливую, не верящую в любовь и неспособную любить. Это было сродни озарению. Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане. Предвидела, провозгласила девиз своей жизни, но не понимала тогда значения этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее ее блестящей и скандальной известности.
«Может, и меня ждет столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед уходящей нищенке, осчастливленной монетой в полфранка. – Карлица ведь сказала об этом. Пусть так. Все равно я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже добьюсь своего. Она многих любила. Но никакой любви на самом деле не бывает. Выдумка богатых. Не хочу быть ни Королевой Мабилль, ни этой жалкой Маргаритой Готье. Я стану Олимпией! Пусть лучше меня любят».
9
Ирочка Котек была первой моей ундиной. Совсем моей, если допустить, что ундина может быть чьей-то. Русалка, наверное, может любить, но все равно живет сама по себе.
Я сразу понял, что это ундина, как только ее увидел. Она задумчиво шла по безымянной улице между Инженерным домом и Артиллерийским цейхгаузом Петропавловской крепости. Совсем молодая, очень грустная и вконец потерянная. «Ей восемнадцать, наверное, студентка какого-нибудь гуманитарного вуза. Вечером учится, днем работает», – подумал я. Потом подтвердилось, что я угадал.
Институт культуры и восемнадцать лет!
Зачем я вообще подошел к ней? Мне уже почти двадцать семь, а тут совсем молоденькая девочка. Обыкновенная, такая, как все. Одета просто: невзрачная кремовая блузка, серая юбчонка и мягкие туфли без каблука.
Ее не назовешь красоткой. Глаза хоть и большие, но прозрачные и водянистые, уголки уныло опустились вниз. Ни краски, ни теней. Бледная кожа; волосы русые, прямые, стрижка без затей. Чуть одутловатые щеки, небольшой ротик, сложенный скорбным бантиком. Но ведь это не просто девушка, это ундина, черт бы меня побрал, – сердце стучало, как взбесившиеся часы, все существо мое кричало о том, что передо мной настоящая ундина. Не знаю уж, как я это почувствовал, но понял и не мог я упустить такой случай!
Мы разговорились. Я быстро уболтал ее – выставки, концерты, французское кино, «Розовый телефон»[27 - Французский кинофильм, режиссер Эдуард Молинаро.], книги… Она не очень разбиралась в искусстве… Наверное, ей хотелось быть хоть как-то причастной к миру культуры. Увы, в этом пороке ее нельзя было заподозрить. Впрочем, зачем тебе, милая, этот мир навороченных городских условностей и надуманных цивилизационных ценностей? По мне, ты и так хороша своей юной, не замутненной излишками знаний свежестью, наивностью и непосредственностью.
Чудная пора, в ее возрасте все кажется притягательным и интересным. Обратил внимание на женственные движения милых ручек и оттопыренных пальчиков. Руки выдают человека. Ноги, кстати, тоже.
Пили кофе, весь день гуляли по Невскому, Мойке, Апрашке, вечером пришли ко мне.