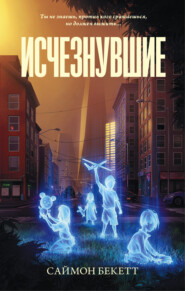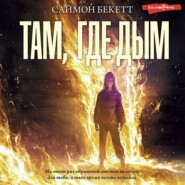По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Химия смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через заднюю дверь особняка я попал прямо в амбулаторию. Приемной и комнатой ожидания одновременно служила старая оранжерея, полная влажного воздуха и растений, за которыми с любовью присматривала Дженис. Часть первого этажа была превращена в личные апартаменты Генри, но они находились в противоположном крыле особняка – настолько большого, что мог бы разместить всех нас, вместе взятых. Я отправился в старый смотровой кабинет и, закрыв за собой дверь, вновь ощутил умиротворяющий аромат дерева и восковой мастики. Хотя кабинетом этим я пользовался чуть ли не каждый день с момента приезда, он скорее отражал индивидуальность Генри, а не мою: старинная картина с охотничьей сценой, стол-бюро с убирающейся крышкой и добротное кожаное кресло. Полки заполнены его старыми книгами и журналами по медицине, как, впрочем, и по менее типичной для сельского врача тематике. Имелись томики Канта и Ницше, причем одна полка целиком отдана психологии – одному из коньков Генри. Единственным моим личным вкладом в эту обстановку (да и то после нескольких месяцев уговоров) стал компьютерный монитор, тихо гудевший на письменном столе.
Генри так и не удалось полностью восстановить свою работоспособность. Как его кресло-коляска, так и мой контракт превратились в нечто большее, нежели простая временная мера. Сначала контракт продлили, затем, когда выяснилось, что доктор Мейтланд все-таки не сможет управляться с работой в одиночку, мы заключили партнерский договор. Даже старенький «лендровер», на котором я сейчас ездил, тоже в свое время принадлежал Генри. Заезженную, видавшую лучшие времена машину с коробкой-автоматом он приобрел после той аварии, что оставила его самого парализованным и унесла жизнь Дианы, его жены. Покупка внедорожника была своего рода декларацией о намерениях, когда он все еще цеплялся за надежду, что когда-нибудь сможет вновь ходить и сидеть за рулем. Только этого не случилось. И никогда не случится, как заверили врачи.
– Идиоты. Напяль на человека белый халат, как он тут же возомнит себя богом, – порой язвил Генри.
Однако даже ему пришлось признать, что доктора оказались правы. Так что в придачу к «лендроверу» я унаследовал непрерывно разраставшуюся часть врачебной практики Мейтланда. Поначалу нагрузку мы поделили более или менее поровну, хотя все чаще и чаще занимался работой я один. Это не мешало именно Генри считаться «настоящим» доктором в глазах большинства пациентов, но я давно махнул на это рукой. Жителям Манхэма я по-прежнему казался чужаком и, вероятно, останусь им навсегда.
Сейчас, в предвечернюю жару, я попробовал было побродить по медицинским веб-сайтам, хотя сердце к этому не лежало. Я встал и распахнул обе створки стеклянной двери на террасу. На столе шумно трудился вентилятор, безуспешно пытаясь разогнать тяжелый, застоявшийся воздух. Даже при открытой двери разница была чисто психологической. Я бездумно смотрел в сад, аккуратно прибранный и опрятный, и только – как и все остальное в округе – кусты и трава блекли и высыхали чуть ли не на глазах. Сразу за границей сада начиналось озеро Манхэмуотер, так что от неизбежного зимнего паводка нас обычно защищала лишь низенькая насыпь. У крошечной пристани на воде болталась старая парусная шлюпка. Генри торжественно именовал ее морским вельботом, хотя лишь такие плоскодонные лодки и могли подойти для столь обмельчавшего озера. Да, до пролива Те-Солент с его яхтенными гонками нашему озеру ох как далеко. Впрочем, нам обоим нравилось иногда выйти на воду, пусть даже в отдельных местах тут слишком мелко, а камыши растут совершенно непроходимой стеной.
Сегодня, увы, нет никаких шансов поднять парус. Стоял такой штиль, что даже не было ряби. С моего места удавалось разглядеть только дальние камышовые заросли, гребенкой отделявшие озеро от неба. Тишь да гладь, подлинная водяная пустыня, которая могла казаться как умиротворяющей, так и унылой. Все в зависимости от вашего настроения.
Сейчас ничего умиротворяющего я в ней не видел.
– Я так и думал, что это вы.
Я обернулся и увидел, как в комнату въезжает Генри.
– Да так, кое-какой порядок навожу, – сказал я, отрываясь от своих далеко забредших мыслей.
– У вас тут как в печке, – проворчал он, остановившись перед вентилятором. Если не считать ног, Генри мог бы сойти за пышущего здоровьем теннисиста: соломенные волосы, загорелое лицо, живой взгляд.
– И что там такое про мальчишек с мертвецом? Дженис только об этом и говорила, когда занесла обед.
По воскресеньям Дженис обычно приносила судок с тем, что готовила лично себе. Генри настаивал, что в состоянии сам варить обед по выходным, но я заметил, что он редко выкладывается в полную силу на кухне. Дженис – прекрасная повариха, и я подозревал, что ее чувства к Генри не ограничиваются чисто деловыми отношениями хозяина и простой домработницы. Мне представляется, что ее неодобрительное мнение о покойной жене Мейтланда объясняется по большей части ревностью, тем более что Дженис не замужем. Несколько раз она даже бросала намеки на кое-какие скандальные слухи, однако я дал ясно понять, что мне это неинтересно. Пусть даже супружеская жизнь Генри и не была той идиллией, какой она ему представлялась сейчас, я не желал принимать участия в посмертном перемывании косточек.
Ничего удивительного, что Дженис уже знала про мертвеца. Должно быть, половина поселка гудела слухами.
– Это в Фарнемском лесу, – ответил я.
– Наверное, кто-то из горе-натуралистов. Обвешаются рюкзаками и тащат их, как муравьи, да еще в такое пекло.
– Наверное…
Моя интонация заставила Генри вздернуть брови.
– То есть как? Неужто убийство? То-то развлечемся!
Его веселье поутихло при виде моего насупленного лица.
– Я, видно, поторопился с шутками…
Я рассказал ему про свой визит в дом Салли Палмер, втайне надеясь, что сегодняшние события, облеченные в слова, станут от этого менее реальными. Увы, надежда не оправдалась.
– Боже мой, – мрачно изрек Генри, когда я закончил. – И полиция считает, это она?
– Напрямую ничего не сказали – ни да ни нет. Наверное, не могут пока решить.
– Боже милосердный, что творится на этом свете…
– Может, это вовсе и не она.
– Конечно, не она, – тут же подхватил Генри. Но я видел, что он верит в это не больше моего. – Что ж, не знаю, как вы, а я бы не отказался от стопочки.
– Спасибо, я – пас.
– Решили оставить место для «Барашка»?
«Барашком» здесь звали местный паб «Черный ягненок».
Я часто бывал в этом единственном на весь поселок кабачке, хотя нынешним вечером, подозревал я, мне не захочется присоединиться к главной теме обсуждения.
– Да нет. Думаю сегодня просто посидеть дома, – ответил я.
Мой дом, дряхленький каменный коттеджик, стоял на краю поселка. Я купил его, когда окончательно стало ясно, что останусь здесь дольше чем на шесть месяцев. Генри уверял, что был бы рад предоставить мне кров у себя, и, бог свидетель, его «Банк-хаус» действительно огромен. В одном только винном погребе мог бы целиком поместиться мой коттедж. Но к тому времени я был готов начать обживать свое собственное гнездо, почувствовать себя пустившим корни, а не просто временным постояльцем. И пусть даже мне нравилась новая работа, жить с ней вместе я не хотел. Бывают такие моменты, когда тянет закрыть за собой дверь и надеяться, что хотя бы несколько часов не будет звонить телефон.
Как раз такие чувства я испытывал сейчас.
Навстречу моему автомобилю тянулась немногочисленная вереница людей, идущих на вечернюю службу. При входе в церковь стоял Скарсдейл, приходский священник. Пожилой суровый человек, который, признаться, не вызывал у меня теплых чувств. Он, однако, занимал свой пост много лет, и за ним шла пусть небольшая, но преданная паства. Из окна машины я помахал Джудит Саттон, вдове, жившей под одной крышей с великовозрастным сыном Рупертом, толстым увальнем, который всегда тащился на два шага позади своей властной матери. Джудит о чем-то беседовала с супругами Гудчайлд. Эта пара, Ли и Маржери, являла собой классический пример четы ипохондриков, постоянных пациентов нашей амбулатории. Я даже испугался, что сейчас меня остановят на импровизированную консультацию. В Манхэме не признавали за врачами права на нормированный рабочий день.
Впрочем, в тот вечер меня не задержали ни эти двое, ни кто-либо еще. Я припарковался на потрескавшейся от жары грунтовой площадке возле коттеджа и вошел в дом. Царила страшная духота. Я настежь распахнул все окна и достал из холодильника банку пива. «Пусть мы и не собираемся идти сегодня в «Барашек», но человеку все равно надобно промочить горло». Стоило так подумать, как до того потянуло выпить, что я убрал пиво обратно и налил себе джина с тоником.
Бросив наколотого льда в стакан и добавив дольку лимона, я сел за деревянный столик в саду за домом. Мой сад через поле выходил на лес, и хоть вид не столь впечатлял, как с террасы клиники, унылым его тоже не назовешь. Я не торопясь прикончил свой джин, поджарил яичницу и съел ее на воздухе. Жара наконец-то начала спадать. Я сидел за столиком и смотрел, как нерешительно проступают звезды в неторопливо меркнущем небе. Мысли вращались вокруг тех событий, что разворачивались сейчас в нескольких милях от моего дома, в доселе мирном уголке, где братья Йейтс сделали страшное открытие. Я попробовал мысленно представить, что Салли Палмер сейчас смеется где-то, что она цела и невредима, будто одной только силой мысли это можно превратить в реальность. Но по какой-то причине образ ускользал.
Оттягивая минуту, когда мне придется идти в дом и пытаться там заснуть, я проторчал в саду, пока небо не потемнело до темно-фиолетового бархата, испещренного уколами мерцающих звезд-семафоров, бессвязно лепечущих повесть о давно угасших пылинках света.
Задыхаясь, залитый потом, я проснулся как от толчка. Бессмысленно огляделся вокруг, не понимая, где нахожусь. Затем вновь вернулась реальность. Совершенно голый, я стоял у открытого окна спальни. Подоконник больно врезался в бедра, потому что я уже почти наполовину высунулся наружу. Неуверенно подавшись назад, я сел на кровать. В свете луны смятые простыни отсвечивали белизной. На лице подсыхали слезы, и я ждал, когда сердце перестанет бешено колотиться.
Опять этот сон.
Мой вечный, сегодня особенно страшный, кошмар. Всегда столь яркий, что пробуждение казалось иллюзией, сон – явью. Вот в чем его жестокость. Потому что в снах Кара и Алиса, мои жена и шестилетняя дочь, все еще живы. Их можно было увидеть, с ними можно было поговорить. Прикоснуться. Во сне я мог верить, что у нас по-прежнему есть будущее, а не только прошлое.
Я страшился своих снов. Не просто оттого, что кошмары пугают. Нет, наоборот.
Я страшился снов потому, что за ними всегда ждало пробуждение.
Вновь возникала боль утраты, столь же резкая, как и в тот жуткий день. Часто бывало, что я просыпался в другом месте, как лунатик, чье тело ведет себя независимо от воли хозяина. Я мог очнуться, как сегодня, стоя у раскрытого окна, или на самом верху крутой и опасной лестницы, ничего не помня о том, как попал туда или какая подсознательная сила меня туда загнала.
Несмотря на теплую до отвращения ночь, меня пробрал озноб. Снаружи донеслось одинокое лисье тявканье. Спустя некоторое время я лег и потом просто смотрел в потолок, пока не поблекли тени и не растаяла тьма.
Глава 4
Над болотами еще клубился туман, когда молодая женщина прикрыла за собой дверь и начала свою утреннюю пробежку. Лин Меткалф бежала легко и с удовольствием, как хорошо тренированный легкоатлет. Недавнее растяжение икроножной мышцы еще давало о себе знать, так что Лин, не желая переусердствовать, поначалу взяла легкий темп, перейдя затем на непринужденный, длинный мах. Оставив позади узкий переулок, где стоял ее дом, она свернула на заросшую тропинку, ведущую к озеру через пересохшее болото.
По ногам хлестали длинные стебли травы, мокрые и холодные от росы. Лин вдохнула полной грудью, радуясь утреннему воздуху. И пусть сегодня понедельник, нет лучшего способа начать новую неделю. Сейчас ее любимое время суток, где нет места заботам, нет бухгалтерских книг фермеров и мелких лавочников, всегда встречающих в штыки ее советы. Еще впереди огорчения, печали и обиды на людей. А сейчас мир свеж и ярок. В нем звучит лишь ритм ее бега и хрипловатый метроном дыхания.
Лин исполнился тридцать один год, она отличалась великолепным здоровьем, силой воли и собранностью, позволявшими поддерживать прекрасную спортивную форму, означавшую к тому же, что она отлично смотрится в тугих шортах и короткой футболке (хотя признаться в этом вслух нахальства не хватало). А ведь дело облегчалось тем, что ей просто нравилось себя так вести. Нравилось выкладываться без остатка, а потом подстегивать еще немножко. Что может быть лучше, чем, надев в начале дня пару кроссовок, оставлять за спиной милю за милей, пока мир вокруг тебя только-только оживает? Если и есть лучший способ, то он ей пока неизвестен.
«Если, конечно, не считать секса». А вот тут в последнее время чего-то недоставало. Не в смысле желания, нет: хватало одним глазом посмотреть на Маркуса под душем – как он смывает с себя цементную пыль очередного рабочего дня, как его темные волосы ондатровым мехом мокро липнут к коже, – и внизу живота что-то вновь сжималось пружиной. Но в те минуты, когда за удовольствием стояло кое-что еще, радость физического наслаждения притуплялась для них обоих. Тем более что ничего не вышло.
Генри так и не удалось полностью восстановить свою работоспособность. Как его кресло-коляска, так и мой контракт превратились в нечто большее, нежели простая временная мера. Сначала контракт продлили, затем, когда выяснилось, что доктор Мейтланд все-таки не сможет управляться с работой в одиночку, мы заключили партнерский договор. Даже старенький «лендровер», на котором я сейчас ездил, тоже в свое время принадлежал Генри. Заезженную, видавшую лучшие времена машину с коробкой-автоматом он приобрел после той аварии, что оставила его самого парализованным и унесла жизнь Дианы, его жены. Покупка внедорожника была своего рода декларацией о намерениях, когда он все еще цеплялся за надежду, что когда-нибудь сможет вновь ходить и сидеть за рулем. Только этого не случилось. И никогда не случится, как заверили врачи.
– Идиоты. Напяль на человека белый халат, как он тут же возомнит себя богом, – порой язвил Генри.
Однако даже ему пришлось признать, что доктора оказались правы. Так что в придачу к «лендроверу» я унаследовал непрерывно разраставшуюся часть врачебной практики Мейтланда. Поначалу нагрузку мы поделили более или менее поровну, хотя все чаще и чаще занимался работой я один. Это не мешало именно Генри считаться «настоящим» доктором в глазах большинства пациентов, но я давно махнул на это рукой. Жителям Манхэма я по-прежнему казался чужаком и, вероятно, останусь им навсегда.
Сейчас, в предвечернюю жару, я попробовал было побродить по медицинским веб-сайтам, хотя сердце к этому не лежало. Я встал и распахнул обе створки стеклянной двери на террасу. На столе шумно трудился вентилятор, безуспешно пытаясь разогнать тяжелый, застоявшийся воздух. Даже при открытой двери разница была чисто психологической. Я бездумно смотрел в сад, аккуратно прибранный и опрятный, и только – как и все остальное в округе – кусты и трава блекли и высыхали чуть ли не на глазах. Сразу за границей сада начиналось озеро Манхэмуотер, так что от неизбежного зимнего паводка нас обычно защищала лишь низенькая насыпь. У крошечной пристани на воде болталась старая парусная шлюпка. Генри торжественно именовал ее морским вельботом, хотя лишь такие плоскодонные лодки и могли подойти для столь обмельчавшего озера. Да, до пролива Те-Солент с его яхтенными гонками нашему озеру ох как далеко. Впрочем, нам обоим нравилось иногда выйти на воду, пусть даже в отдельных местах тут слишком мелко, а камыши растут совершенно непроходимой стеной.
Сегодня, увы, нет никаких шансов поднять парус. Стоял такой штиль, что даже не было ряби. С моего места удавалось разглядеть только дальние камышовые заросли, гребенкой отделявшие озеро от неба. Тишь да гладь, подлинная водяная пустыня, которая могла казаться как умиротворяющей, так и унылой. Все в зависимости от вашего настроения.
Сейчас ничего умиротворяющего я в ней не видел.
– Я так и думал, что это вы.
Я обернулся и увидел, как в комнату въезжает Генри.
– Да так, кое-какой порядок навожу, – сказал я, отрываясь от своих далеко забредших мыслей.
– У вас тут как в печке, – проворчал он, остановившись перед вентилятором. Если не считать ног, Генри мог бы сойти за пышущего здоровьем теннисиста: соломенные волосы, загорелое лицо, живой взгляд.
– И что там такое про мальчишек с мертвецом? Дженис только об этом и говорила, когда занесла обед.
По воскресеньям Дженис обычно приносила судок с тем, что готовила лично себе. Генри настаивал, что в состоянии сам варить обед по выходным, но я заметил, что он редко выкладывается в полную силу на кухне. Дженис – прекрасная повариха, и я подозревал, что ее чувства к Генри не ограничиваются чисто деловыми отношениями хозяина и простой домработницы. Мне представляется, что ее неодобрительное мнение о покойной жене Мейтланда объясняется по большей части ревностью, тем более что Дженис не замужем. Несколько раз она даже бросала намеки на кое-какие скандальные слухи, однако я дал ясно понять, что мне это неинтересно. Пусть даже супружеская жизнь Генри и не была той идиллией, какой она ему представлялась сейчас, я не желал принимать участия в посмертном перемывании косточек.
Ничего удивительного, что Дженис уже знала про мертвеца. Должно быть, половина поселка гудела слухами.
– Это в Фарнемском лесу, – ответил я.
– Наверное, кто-то из горе-натуралистов. Обвешаются рюкзаками и тащат их, как муравьи, да еще в такое пекло.
– Наверное…
Моя интонация заставила Генри вздернуть брови.
– То есть как? Неужто убийство? То-то развлечемся!
Его веселье поутихло при виде моего насупленного лица.
– Я, видно, поторопился с шутками…
Я рассказал ему про свой визит в дом Салли Палмер, втайне надеясь, что сегодняшние события, облеченные в слова, станут от этого менее реальными. Увы, надежда не оправдалась.
– Боже мой, – мрачно изрек Генри, когда я закончил. – И полиция считает, это она?
– Напрямую ничего не сказали – ни да ни нет. Наверное, не могут пока решить.
– Боже милосердный, что творится на этом свете…
– Может, это вовсе и не она.
– Конечно, не она, – тут же подхватил Генри. Но я видел, что он верит в это не больше моего. – Что ж, не знаю, как вы, а я бы не отказался от стопочки.
– Спасибо, я – пас.
– Решили оставить место для «Барашка»?
«Барашком» здесь звали местный паб «Черный ягненок».
Я часто бывал в этом единственном на весь поселок кабачке, хотя нынешним вечером, подозревал я, мне не захочется присоединиться к главной теме обсуждения.
– Да нет. Думаю сегодня просто посидеть дома, – ответил я.
Мой дом, дряхленький каменный коттеджик, стоял на краю поселка. Я купил его, когда окончательно стало ясно, что останусь здесь дольше чем на шесть месяцев. Генри уверял, что был бы рад предоставить мне кров у себя, и, бог свидетель, его «Банк-хаус» действительно огромен. В одном только винном погребе мог бы целиком поместиться мой коттедж. Но к тому времени я был готов начать обживать свое собственное гнездо, почувствовать себя пустившим корни, а не просто временным постояльцем. И пусть даже мне нравилась новая работа, жить с ней вместе я не хотел. Бывают такие моменты, когда тянет закрыть за собой дверь и надеяться, что хотя бы несколько часов не будет звонить телефон.
Как раз такие чувства я испытывал сейчас.
Навстречу моему автомобилю тянулась немногочисленная вереница людей, идущих на вечернюю службу. При входе в церковь стоял Скарсдейл, приходский священник. Пожилой суровый человек, который, признаться, не вызывал у меня теплых чувств. Он, однако, занимал свой пост много лет, и за ним шла пусть небольшая, но преданная паства. Из окна машины я помахал Джудит Саттон, вдове, жившей под одной крышей с великовозрастным сыном Рупертом, толстым увальнем, который всегда тащился на два шага позади своей властной матери. Джудит о чем-то беседовала с супругами Гудчайлд. Эта пара, Ли и Маржери, являла собой классический пример четы ипохондриков, постоянных пациентов нашей амбулатории. Я даже испугался, что сейчас меня остановят на импровизированную консультацию. В Манхэме не признавали за врачами права на нормированный рабочий день.
Впрочем, в тот вечер меня не задержали ни эти двое, ни кто-либо еще. Я припарковался на потрескавшейся от жары грунтовой площадке возле коттеджа и вошел в дом. Царила страшная духота. Я настежь распахнул все окна и достал из холодильника банку пива. «Пусть мы и не собираемся идти сегодня в «Барашек», но человеку все равно надобно промочить горло». Стоило так подумать, как до того потянуло выпить, что я убрал пиво обратно и налил себе джина с тоником.
Бросив наколотого льда в стакан и добавив дольку лимона, я сел за деревянный столик в саду за домом. Мой сад через поле выходил на лес, и хоть вид не столь впечатлял, как с террасы клиники, унылым его тоже не назовешь. Я не торопясь прикончил свой джин, поджарил яичницу и съел ее на воздухе. Жара наконец-то начала спадать. Я сидел за столиком и смотрел, как нерешительно проступают звезды в неторопливо меркнущем небе. Мысли вращались вокруг тех событий, что разворачивались сейчас в нескольких милях от моего дома, в доселе мирном уголке, где братья Йейтс сделали страшное открытие. Я попробовал мысленно представить, что Салли Палмер сейчас смеется где-то, что она цела и невредима, будто одной только силой мысли это можно превратить в реальность. Но по какой-то причине образ ускользал.
Оттягивая минуту, когда мне придется идти в дом и пытаться там заснуть, я проторчал в саду, пока небо не потемнело до темно-фиолетового бархата, испещренного уколами мерцающих звезд-семафоров, бессвязно лепечущих повесть о давно угасших пылинках света.
Задыхаясь, залитый потом, я проснулся как от толчка. Бессмысленно огляделся вокруг, не понимая, где нахожусь. Затем вновь вернулась реальность. Совершенно голый, я стоял у открытого окна спальни. Подоконник больно врезался в бедра, потому что я уже почти наполовину высунулся наружу. Неуверенно подавшись назад, я сел на кровать. В свете луны смятые простыни отсвечивали белизной. На лице подсыхали слезы, и я ждал, когда сердце перестанет бешено колотиться.
Опять этот сон.
Мой вечный, сегодня особенно страшный, кошмар. Всегда столь яркий, что пробуждение казалось иллюзией, сон – явью. Вот в чем его жестокость. Потому что в снах Кара и Алиса, мои жена и шестилетняя дочь, все еще живы. Их можно было увидеть, с ними можно было поговорить. Прикоснуться. Во сне я мог верить, что у нас по-прежнему есть будущее, а не только прошлое.
Я страшился своих снов. Не просто оттого, что кошмары пугают. Нет, наоборот.
Я страшился снов потому, что за ними всегда ждало пробуждение.
Вновь возникала боль утраты, столь же резкая, как и в тот жуткий день. Часто бывало, что я просыпался в другом месте, как лунатик, чье тело ведет себя независимо от воли хозяина. Я мог очнуться, как сегодня, стоя у раскрытого окна, или на самом верху крутой и опасной лестницы, ничего не помня о том, как попал туда или какая подсознательная сила меня туда загнала.
Несмотря на теплую до отвращения ночь, меня пробрал озноб. Снаружи донеслось одинокое лисье тявканье. Спустя некоторое время я лег и потом просто смотрел в потолок, пока не поблекли тени и не растаяла тьма.
Глава 4
Над болотами еще клубился туман, когда молодая женщина прикрыла за собой дверь и начала свою утреннюю пробежку. Лин Меткалф бежала легко и с удовольствием, как хорошо тренированный легкоатлет. Недавнее растяжение икроножной мышцы еще давало о себе знать, так что Лин, не желая переусердствовать, поначалу взяла легкий темп, перейдя затем на непринужденный, длинный мах. Оставив позади узкий переулок, где стоял ее дом, она свернула на заросшую тропинку, ведущую к озеру через пересохшее болото.
По ногам хлестали длинные стебли травы, мокрые и холодные от росы. Лин вдохнула полной грудью, радуясь утреннему воздуху. И пусть сегодня понедельник, нет лучшего способа начать новую неделю. Сейчас ее любимое время суток, где нет места заботам, нет бухгалтерских книг фермеров и мелких лавочников, всегда встречающих в штыки ее советы. Еще впереди огорчения, печали и обиды на людей. А сейчас мир свеж и ярок. В нем звучит лишь ритм ее бега и хрипловатый метроном дыхания.
Лин исполнился тридцать один год, она отличалась великолепным здоровьем, силой воли и собранностью, позволявшими поддерживать прекрасную спортивную форму, означавшую к тому же, что она отлично смотрится в тугих шортах и короткой футболке (хотя признаться в этом вслух нахальства не хватало). А ведь дело облегчалось тем, что ей просто нравилось себя так вести. Нравилось выкладываться без остатка, а потом подстегивать еще немножко. Что может быть лучше, чем, надев в начале дня пару кроссовок, оставлять за спиной милю за милей, пока мир вокруг тебя только-только оживает? Если и есть лучший способ, то он ей пока неизвестен.
«Если, конечно, не считать секса». А вот тут в последнее время чего-то недоставало. Не в смысле желания, нет: хватало одним глазом посмотреть на Маркуса под душем – как он смывает с себя цементную пыль очередного рабочего дня, как его темные волосы ондатровым мехом мокро липнут к коже, – и внизу живота что-то вновь сжималось пружиной. Но в те минуты, когда за удовольствием стояло кое-что еще, радость физического наслаждения притуплялась для них обоих. Тем более что ничего не вышло.