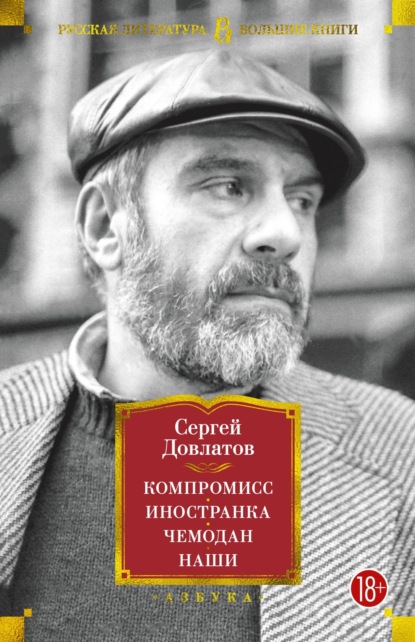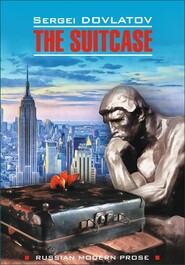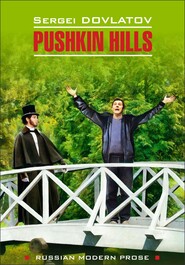По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бунин? – переспросил Трюмо. – Знавал я этого Бунина в Грассе. Все писал чего-то.
– Он самый.
– Бывало, пишет, пишет… И чего, думаю, пишет? Раз не удержался, заглянул через плечо, а там – «Жизнь Арсеньева».
– Если можно, чуть подробнее, – сказал Красноперов.
– Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают…»
Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул.
– Однажды, – продолжал Трюмо, – Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили.
Красноперов записал все это. Потом сказал:
– Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики «Темных аллей», фотоснимки.
– Что может быть проще?! – сказал Трюмо. – Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь… Завтра садимся в машину и едем.
– Чудесно, – сказал Красноперов, – замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта. Но хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России.
– Пропаганда? – встрепенулся Трюмо. – Отказываюсь ехать!
– То есть?
– Не покажу дороги.
– Господа, – вмешался Дебоширин, – что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к «Максиму». Там новое ревю.
– Я не поеду, – испуганно сказал Красноперов, – у меня дела.
– Какие?
– Баня, стирка.
– Вы не романтик, – сказал Дебоширин, – это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к «Максиму»!.. Это все равно что посетить Союз и не увидеть Мавзолея…
17. Пойду к «Максиму» Я…
Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили…
– Едем, – твердил Дебоширин, – реализуем гарантированное Конституцией право на отдых!
– Не могу, – отвечал Красноперов.
– Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать. Только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки.
– Виноват, – сказал Красноперов, – не могу. Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа.
«Однако, – задумался филолог, – уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? В элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч? Может быть, там настоящая жизнь? А все остальное – миф и химера?..
Ну хорошо, съем я еще две тысячи голубцов. Выпью две тысячи бутылок кефира. Изношу пятнадцать темно-серых костюмов. А счастья так и не увижу… Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в „Огоньке»“… Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет! Ни в коем случае! Нельзя! И не о чем тут говорить! Все, не еду! А может быть, рискнуть?»
18. Чрево Парижа
Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «рено». Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.
– Бонжур, месье, – приветливо сказал швейцар у входа.
– Здравствуй, товарищ, – ответил филолог.
И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой.
Француз улыбнулся и не без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик парижского метрополитена.
Красноперов прослезился.
Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала.
В полумраке белели столы. Тени прятались в изгибах лепных карнизов. Плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину. У контрабаса вибрировал Оден Рафф. Над барабанами парил Джо Морелло. Сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина.
Лакеи скользили по залу, огибая танцующих.
Друзья заняли столик под вечнозеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон.
Друзья заказали филе Россини, сыр Шарье и потроха а-ля Канн.
– Сейчас бы молока парного и харьковских галушек, – неуверенно выговорил Дебоширин.
Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже». Песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили. Только не знают – кого…
Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал действительность в локальные и нежные тона.
– Кого только не встретишь у «Максима», – сказал Дебоширин, – любую знаменитость. Весь цвет Парижа. Как-то раз повстречал Владимира Максимова. Сидит, выпивает…
19. Большие люди
Красноперов избегал знаменитостей. Когда-то, еще будучи аспирантом филфака, он напечатал статью. Это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя. Рецензия получилась восторженная. И вот раздается телефонный звонок.
– Да, – говорит Красноперов, – слушаю.
– Извините, вас автор беспокоит. Хочу поблагодарить от всей души. Тонко вы о моей последней книге написали. А я, признаться, и фамилии вашей раньше не слыхал. Рад познакомиться.
– И мне чрезвычайно приятно.
– Не согласитесь ли вместе поужинать? Запросто, без церемоний. Да бросьте, Красноперов, я ведь от чистого сердца. Конечно! Ну вот и прекрасно!
Потом они сидели в «Метрополе». Писатель разливал коньяк. Благодарил. Знакомил Красноперова с друзьями. Даже поцеловал украдкой. Но ближе к закрытию вдруг опьянел. Стал мрачнеть. Сунул очки в боковой карман. Взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил:
– Он самый.
– Бывало, пишет, пишет… И чего, думаю, пишет? Раз не удержался, заглянул через плечо, а там – «Жизнь Арсеньева».
– Если можно, чуть подробнее, – сказал Красноперов.
– Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают…»
Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул.
– Однажды, – продолжал Трюмо, – Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили.
Красноперов записал все это. Потом сказал:
– Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики «Темных аллей», фотоснимки.
– Что может быть проще?! – сказал Трюмо. – Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь… Завтра садимся в машину и едем.
– Чудесно, – сказал Красноперов, – замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта. Но хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России.
– Пропаганда? – встрепенулся Трюмо. – Отказываюсь ехать!
– То есть?
– Не покажу дороги.
– Господа, – вмешался Дебоширин, – что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к «Максиму». Там новое ревю.
– Я не поеду, – испуганно сказал Красноперов, – у меня дела.
– Какие?
– Баня, стирка.
– Вы не романтик, – сказал Дебоширин, – это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к «Максиму»!.. Это все равно что посетить Союз и не увидеть Мавзолея…
17. Пойду к «Максиму» Я…
Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили…
– Едем, – твердил Дебоширин, – реализуем гарантированное Конституцией право на отдых!
– Не могу, – отвечал Красноперов.
– Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать. Только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки.
– Виноват, – сказал Красноперов, – не могу. Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа.
«Однако, – задумался филолог, – уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? В элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч? Может быть, там настоящая жизнь? А все остальное – миф и химера?..
Ну хорошо, съем я еще две тысячи голубцов. Выпью две тысячи бутылок кефира. Изношу пятнадцать темно-серых костюмов. А счастья так и не увижу… Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в „Огоньке»“… Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет! Ни в коем случае! Нельзя! И не о чем тут говорить! Все, не еду! А может быть, рискнуть?»
18. Чрево Парижа
Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «рено». Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.
– Бонжур, месье, – приветливо сказал швейцар у входа.
– Здравствуй, товарищ, – ответил филолог.
И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой.
Француз улыбнулся и не без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик парижского метрополитена.
Красноперов прослезился.
Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала.
В полумраке белели столы. Тени прятались в изгибах лепных карнизов. Плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину. У контрабаса вибрировал Оден Рафф. Над барабанами парил Джо Морелло. Сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина.
Лакеи скользили по залу, огибая танцующих.
Друзья заняли столик под вечнозеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон.
Друзья заказали филе Россини, сыр Шарье и потроха а-ля Канн.
– Сейчас бы молока парного и харьковских галушек, – неуверенно выговорил Дебоширин.
Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже». Песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили. Только не знают – кого…
Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал действительность в локальные и нежные тона.
– Кого только не встретишь у «Максима», – сказал Дебоширин, – любую знаменитость. Весь цвет Парижа. Как-то раз повстречал Владимира Максимова. Сидит, выпивает…
19. Большие люди
Красноперов избегал знаменитостей. Когда-то, еще будучи аспирантом филфака, он напечатал статью. Это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя. Рецензия получилась восторженная. И вот раздается телефонный звонок.
– Да, – говорит Красноперов, – слушаю.
– Извините, вас автор беспокоит. Хочу поблагодарить от всей души. Тонко вы о моей последней книге написали. А я, признаться, и фамилии вашей раньше не слыхал. Рад познакомиться.
– И мне чрезвычайно приятно.
– Не согласитесь ли вместе поужинать? Запросто, без церемоний. Да бросьте, Красноперов, я ведь от чистого сердца. Конечно! Ну вот и прекрасно!
Потом они сидели в «Метрополе». Писатель разливал коньяк. Благодарил. Знакомил Красноперова с друзьями. Даже поцеловал украдкой. Но ближе к закрытию вдруг опьянел. Стал мрачнеть. Сунул очки в боковой карман. Взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил: