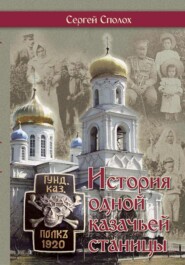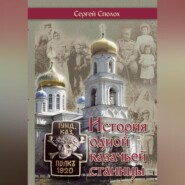По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Казак на чужбине
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казаки с интересом наблюдали за марковцами и дроздовцами, которых офицеры снова стали сбивать в подразделения и готовить к выгрузке. Подошедший к отделившейся от общей массы солдатской стайке офицер-марковец, что-то коротко объявил, дал команды писарям и ушел, не вступая ни с кем в разговоры.
Казачьи офицеры вели себя здесь совсем по-другому. Они все время находились рядом с нижними чинами, по земляческому принципу разбились по станичным и хуторским группкам.
То взводный собрал вокруг себя своих подчиненных, то сотенный, не чураясь, с унтер-офицерами гужуется.
Еще молодой и любопытный ко всему казак Прохор Аникин за столько дней чисто выбритый, поглядывая на марковцев рассудительно замечает:
– Да, правильно на Дону порой говорят: землячество – превыше чина.
Вот отчего так у нас?! Казачьи офицеры – их благородия, и у добровольцев офицеры – тоже их благородия? Но у них это самое благородие как непробиваемая стена, а у нас – как надежная подпорка. Все по-другому… Мы после этого морского пути независимо от чинов все дурно пахнем, – Аникин наглядно потянул носом и поморщился. – Ан, нет! В марковском полку их благородия по привычке от нижних чинов носы воротят, – рассудительно закончил он свою ценную мысль.
Жизнь будто решила продемонстрировать эти глубокомысленные рассуждения казака: совсем рядом с беседующими разгорелся конфликт, чуть не перешедший в драку…
Казак из резервного казачьего полка, перетаскивавший свои чувалы на освободившееся место никак не преднамеренно толкнул капитана-марковца.
– Куда смотр-и-ишь? Все ноги оттоптал, каналья!
– Не кричите, Ваше Благородие! Канальи в России остались!
Офицер зло схватился за револьвер, казак – за шашку. Еле разняли.
Но были и такие офицеры-добровольцы, с которых тяжелейшее морское путешествие сбросило чванливость как защитную оболочку, обнажив их самые лучшие душевные качества.
Весь путь рядом с казаками тыловых и резервных частей Донского корпуса находился молодой поручик с простецкой русской фамилией Иванов.
Мастер на рассказы, шутки и прибаутки, он как-то сразу понравился казакам и те, как могли, оказывали ему знаки внимания. Даже предложили:
– Давайте, Ваше Благородие, сделаем вас приписным казаком, раз не удалось вам казаком по рождению стать! Полковник Городин, он у нас тут старший, да еще член Донского войскового Круга, наверняка согласится.
На подходе к Галлиполлийскому полуострову пароход «Моряк» стал на якорь. На великое счастье только сейчас, вблизи от берега и в достаточно спокойном море, случилась довольно серьезная поломка, которая произойди она тремя днями раньше, неминуемо привела бы к гибели перегруженный корабль.
Команда немедленно затеяла в машинном отделении сложный ремонт. Капитан послал радиограмму в Константинопольский порт, а наиболее набожные военные чины и гражданские беженцы в который раз за последние недели стали молиться о своем спасении.
Вечером, когда на европейском берегу Мраморного моря садилось багряное солнце, поручик Иванов бережно достал из старенького ободранного футляра чудом сохранившуюся скрипку и заиграл.
Скрипичные звуки разносились в полной тишине по морю и будили самые разные человеческие чувства. Казалось, это надрывно и тоскливо поют души беженцев. Зазвучал такой знакомый полонез Огинского «Прощание с Родиной». Воспоминания о далекой и, может быть, навсегда оставленной Родине, навевали эти звуки. На глазах непрошено выступали слезы, перехватывало горло даже, казалось, у самых грубоватых и обозленных.
– Спасибо, господин поручик! Затронули, цапанули душу. Вот это инструмент! – восхитился Прохор Аникин.
– Что инструмент – руки какие у поручика! Не то, что наши клешни, – вахмистр Егор Матыцин выставил перед собой растопыренные мозолистые ладони.
– В мирное время для нас одни инструменты: плуг да коса, пила да топор.
В войну – другие: шашка, пика и винтовка. А здесь – их благородие! Их бла-го-ро-ди-е! – произнес он в растяжку по слогам. – Ну, как воевать такими руками!
Завязался неспешный мужской разговор и поручик рассказал одну из историй, случившихся с ним в Гражданскую в Северной Таврии:
– Я остался живым благодаря двум, казалось бы, бесполезным по этой жизни умениям – умению играть в карты и умению играть на скрипке.
Попал я в плен к махновцам… Но как-то удачно попал, не в горячке боя, когда никто не разбирает, поднял ты руки, не поднял… После боя, значит.
Вообще-то офицеров-марковцев и дроздовцев махновцы не щадили. Да и те махновцам платили той же монетой. До сборных пунктов они просто не доходили.
Насчет махновцев говорили просто: присягу они не давали, убивают и грабят больше в охотку, чем из идейных соображений, а раз так, то и разбираться с ними нужно как с простыми грабителями. И поручик, поуютнее устраиваясь на скрученном в бухту просоленном канате, улыбнувшись, продолжил…
– Так вот… К строю пленных вышел махновец, здоровенный детина и обратился с совершенно неожиданным для всех вопросом:
– Батька сказал: – хто на скрипке грае, того в расход не отправлять до вечера завтрашнего. А с остальными можно и нынешней ночью раскашляться.
Принесли старинную скрипку с простреленным грифом. Поручик взял ее и смычок, стал, прилаживаясь к новому для него инструменту, играть похоронный марш Шопена.
– Не-е-е, нам таких музык не надо! – тут же отреагировал махновец.
– Жидочек, который батьке, чем-то не угодил, так тот все больше веселые музыки наяривал, а ты такое завел, что я тебя и до ямы отводить не буду. Шлепну прямо здесь! Ну-к, веселую, я сказал!
Долго не раздумывая, напуганный нарисованной махновцем перспективой, поручик быстро перешел на зажигательный венгерский Чардаш. Довольный махновец, оценив услышанное, дал команду:
– Скрипача в отдельный подпол! И глядите мне, чтоб ни с кем не перепутали! Батька за скрипача голову сымет и сыграет на ваших жилах заместо струн.
Так нежданно-негаданно поручик Иванов, мысленно благодаря свою мать, проявившую невиданную настойчивость при обучении его в детстве игре на скрипке, оказался в подвале пристройки к флигелю. Пусть на неопределенное время, но жизнь была все же продлена. В самом же флигеле в это вечернее время уже вовсю шумела азартная карточная игра на награбленное и лихая махновская пьянка.
Часовой, приставленный к охране подвала, плюгавенький мужичонок в чиновничьем шерстяном сюртуке, который ему был так велик, что он, небрежно подвернул рукава сюртука с белой атласной подкладкой до самых локтей, переживая, что без него идут и дележ и игра, постучал прикладом о крышку подвала:
– Вылазь, игрун, развлекаться будем. На скрипке ты мастак, а вот как ты в карты мастак – сейчас посмотрим.
– Скрипку брать? – с надеждой на лучшее спросил поручик.
– Бери, бери, целее будет, – снисходительно согласился мужичонок.
– Давай, скрипач, сговоримся в картишки переброситься. И тебе веселее, и мне не до сна.
Махновец, кряхтя поставил на пол свечу с массивным подсвечником, приоткрыл дубовую крышку подвала. Рядом он демонстративно положил револьвер:
– Это чтоб ты не нервничал.
Удивленный таким жизненным поворотом, поручик уточнил у махновца:
– А на что играть будем? Ставка-то какая будет?
– Да простая, скрипач, простая… Все мне кажется, что ты батьке не подойдешь. И если начнешь грустные, или, не дай боже, не те музыки пиликать, то, значит, тебя в расход пустят. А по этим делам я завсегда в команду назначаемый, – махновец довольно погладил себя по щуплой груди. – Так вот, если ты выиграешь, то расстреляем, а если проиграешь – то придется тебя шашечкой, для экономии патронов…
Пришлось играть. Трижды выигрывал скрипач. На четвертый раз махновец не на шутку разозлился:
– Вроде ты и не мухлюешь, а я все время проигрываю. Ладно, лучше к хлопцам пойду, там хоть навар какой-то будет, а с тобой – что выиграть, что проиграть – все равно никакого прибытка.
Расстроенный постигшей его в игре неудачей, махновец загнал поручика обратно в подвал. Заглянув в темноту, благородно сунул в руки бывшему партнеру по игре горящую свечу. Затем, придвинул на крышку подвала комод и пошел играть в карты к хлопцам.
А поручик, при тусклом свете свечи в свалке старья в углу нашел треснутую сковороду, за ночь прорыл нехитрый подкоп и, придерживая бесценную спасительницу – скрипку подмышкой, был таков. Прошел мимо спящих постов пьяных махновцев и, переждав день в балочке, к следующему утру оказался в расположении казачьего полка.
Казачьи офицеры вели себя здесь совсем по-другому. Они все время находились рядом с нижними чинами, по земляческому принципу разбились по станичным и хуторским группкам.
То взводный собрал вокруг себя своих подчиненных, то сотенный, не чураясь, с унтер-офицерами гужуется.
Еще молодой и любопытный ко всему казак Прохор Аникин за столько дней чисто выбритый, поглядывая на марковцев рассудительно замечает:
– Да, правильно на Дону порой говорят: землячество – превыше чина.
Вот отчего так у нас?! Казачьи офицеры – их благородия, и у добровольцев офицеры – тоже их благородия? Но у них это самое благородие как непробиваемая стена, а у нас – как надежная подпорка. Все по-другому… Мы после этого морского пути независимо от чинов все дурно пахнем, – Аникин наглядно потянул носом и поморщился. – Ан, нет! В марковском полку их благородия по привычке от нижних чинов носы воротят, – рассудительно закончил он свою ценную мысль.
Жизнь будто решила продемонстрировать эти глубокомысленные рассуждения казака: совсем рядом с беседующими разгорелся конфликт, чуть не перешедший в драку…
Казак из резервного казачьего полка, перетаскивавший свои чувалы на освободившееся место никак не преднамеренно толкнул капитана-марковца.
– Куда смотр-и-ишь? Все ноги оттоптал, каналья!
– Не кричите, Ваше Благородие! Канальи в России остались!
Офицер зло схватился за револьвер, казак – за шашку. Еле разняли.
Но были и такие офицеры-добровольцы, с которых тяжелейшее морское путешествие сбросило чванливость как защитную оболочку, обнажив их самые лучшие душевные качества.
Весь путь рядом с казаками тыловых и резервных частей Донского корпуса находился молодой поручик с простецкой русской фамилией Иванов.
Мастер на рассказы, шутки и прибаутки, он как-то сразу понравился казакам и те, как могли, оказывали ему знаки внимания. Даже предложили:
– Давайте, Ваше Благородие, сделаем вас приписным казаком, раз не удалось вам казаком по рождению стать! Полковник Городин, он у нас тут старший, да еще член Донского войскового Круга, наверняка согласится.
На подходе к Галлиполлийскому полуострову пароход «Моряк» стал на якорь. На великое счастье только сейчас, вблизи от берега и в достаточно спокойном море, случилась довольно серьезная поломка, которая произойди она тремя днями раньше, неминуемо привела бы к гибели перегруженный корабль.
Команда немедленно затеяла в машинном отделении сложный ремонт. Капитан послал радиограмму в Константинопольский порт, а наиболее набожные военные чины и гражданские беженцы в который раз за последние недели стали молиться о своем спасении.
Вечером, когда на европейском берегу Мраморного моря садилось багряное солнце, поручик Иванов бережно достал из старенького ободранного футляра чудом сохранившуюся скрипку и заиграл.
Скрипичные звуки разносились в полной тишине по морю и будили самые разные человеческие чувства. Казалось, это надрывно и тоскливо поют души беженцев. Зазвучал такой знакомый полонез Огинского «Прощание с Родиной». Воспоминания о далекой и, может быть, навсегда оставленной Родине, навевали эти звуки. На глазах непрошено выступали слезы, перехватывало горло даже, казалось, у самых грубоватых и обозленных.
– Спасибо, господин поручик! Затронули, цапанули душу. Вот это инструмент! – восхитился Прохор Аникин.
– Что инструмент – руки какие у поручика! Не то, что наши клешни, – вахмистр Егор Матыцин выставил перед собой растопыренные мозолистые ладони.
– В мирное время для нас одни инструменты: плуг да коса, пила да топор.
В войну – другие: шашка, пика и винтовка. А здесь – их благородие! Их бла-го-ро-ди-е! – произнес он в растяжку по слогам. – Ну, как воевать такими руками!
Завязался неспешный мужской разговор и поручик рассказал одну из историй, случившихся с ним в Гражданскую в Северной Таврии:
– Я остался живым благодаря двум, казалось бы, бесполезным по этой жизни умениям – умению играть в карты и умению играть на скрипке.
Попал я в плен к махновцам… Но как-то удачно попал, не в горячке боя, когда никто не разбирает, поднял ты руки, не поднял… После боя, значит.
Вообще-то офицеров-марковцев и дроздовцев махновцы не щадили. Да и те махновцам платили той же монетой. До сборных пунктов они просто не доходили.
Насчет махновцев говорили просто: присягу они не давали, убивают и грабят больше в охотку, чем из идейных соображений, а раз так, то и разбираться с ними нужно как с простыми грабителями. И поручик, поуютнее устраиваясь на скрученном в бухту просоленном канате, улыбнувшись, продолжил…
– Так вот… К строю пленных вышел махновец, здоровенный детина и обратился с совершенно неожиданным для всех вопросом:
– Батька сказал: – хто на скрипке грае, того в расход не отправлять до вечера завтрашнего. А с остальными можно и нынешней ночью раскашляться.
Принесли старинную скрипку с простреленным грифом. Поручик взял ее и смычок, стал, прилаживаясь к новому для него инструменту, играть похоронный марш Шопена.
– Не-е-е, нам таких музык не надо! – тут же отреагировал махновец.
– Жидочек, который батьке, чем-то не угодил, так тот все больше веселые музыки наяривал, а ты такое завел, что я тебя и до ямы отводить не буду. Шлепну прямо здесь! Ну-к, веселую, я сказал!
Долго не раздумывая, напуганный нарисованной махновцем перспективой, поручик быстро перешел на зажигательный венгерский Чардаш. Довольный махновец, оценив услышанное, дал команду:
– Скрипача в отдельный подпол! И глядите мне, чтоб ни с кем не перепутали! Батька за скрипача голову сымет и сыграет на ваших жилах заместо струн.
Так нежданно-негаданно поручик Иванов, мысленно благодаря свою мать, проявившую невиданную настойчивость при обучении его в детстве игре на скрипке, оказался в подвале пристройки к флигелю. Пусть на неопределенное время, но жизнь была все же продлена. В самом же флигеле в это вечернее время уже вовсю шумела азартная карточная игра на награбленное и лихая махновская пьянка.
Часовой, приставленный к охране подвала, плюгавенький мужичонок в чиновничьем шерстяном сюртуке, который ему был так велик, что он, небрежно подвернул рукава сюртука с белой атласной подкладкой до самых локтей, переживая, что без него идут и дележ и игра, постучал прикладом о крышку подвала:
– Вылазь, игрун, развлекаться будем. На скрипке ты мастак, а вот как ты в карты мастак – сейчас посмотрим.
– Скрипку брать? – с надеждой на лучшее спросил поручик.
– Бери, бери, целее будет, – снисходительно согласился мужичонок.
– Давай, скрипач, сговоримся в картишки переброситься. И тебе веселее, и мне не до сна.
Махновец, кряхтя поставил на пол свечу с массивным подсвечником, приоткрыл дубовую крышку подвала. Рядом он демонстративно положил револьвер:
– Это чтоб ты не нервничал.
Удивленный таким жизненным поворотом, поручик уточнил у махновца:
– А на что играть будем? Ставка-то какая будет?
– Да простая, скрипач, простая… Все мне кажется, что ты батьке не подойдешь. И если начнешь грустные, или, не дай боже, не те музыки пиликать, то, значит, тебя в расход пустят. А по этим делам я завсегда в команду назначаемый, – махновец довольно погладил себя по щуплой груди. – Так вот, если ты выиграешь, то расстреляем, а если проиграешь – то придется тебя шашечкой, для экономии патронов…
Пришлось играть. Трижды выигрывал скрипач. На четвертый раз махновец не на шутку разозлился:
– Вроде ты и не мухлюешь, а я все время проигрываю. Ладно, лучше к хлопцам пойду, там хоть навар какой-то будет, а с тобой – что выиграть, что проиграть – все равно никакого прибытка.
Расстроенный постигшей его в игре неудачей, махновец загнал поручика обратно в подвал. Заглянув в темноту, благородно сунул в руки бывшему партнеру по игре горящую свечу. Затем, придвинул на крышку подвала комод и пошел играть в карты к хлопцам.
А поручик, при тусклом свете свечи в свалке старья в углу нашел треснутую сковороду, за ночь прорыл нехитрый подкоп и, придерживая бесценную спасительницу – скрипку подмышкой, был таков. Прошел мимо спящих постов пьяных махновцев и, переждав день в балочке, к следующему утру оказался в расположении казачьего полка.