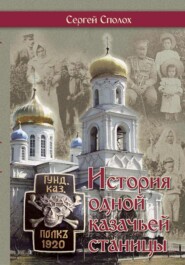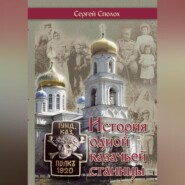По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Казак на чужбине
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казак на чужбине
Сергей Сполох
Сергей Александрович Сполох родился на Дону, в станице Гундоровской. По образованию и жизненному призванию историк. Художественное произведение – исторические хроники «Казак на чужбине» посвящено событиям начала двадцатого века, среди которых особое место занимают Гражданская война на Дону и последовавшая за ней эмиграция донских казаков сначала в Турцию, затем на остров Лемнос в Греции и потом в Болгарию и другие европейские страны. В книге нашлось место для показа образа жизни донского казачества, бытовавших среди них обрядов и обычаев, вековых традиций, которым они неизменно следовали. Книга будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся донской историей.
Сергей Сполох
Казак на чужбине
Часть первая
Вместо предисловия
В конце жаркого и засушливого лета 1964 года, за несколько месяцев до окончания времени правления в Советском Союзе партийного лидера Никиты Сергеевича Хрущева, случилось на Дону событие, ранее невиданное и неслыханное.
В селения Ростовской области приехало довольно много странноватых пожилых людей, называвших себя просто:
– Мы – старые казаки.
И были они действительно старыми, почти всем за семьдесят. А поскольку многие донские жители уже и не помнили истинный смысл этого понятия, то им приходилось ещё и объяснять, что это означает. Объяснять вежливо, деликатно, в рамках официальной идеологии, которая трактовала принадлежность донских жителей к казачеству – как умение скакать на лошади, владеть холодным оружием в виде шашки, петь протяжные песни, да как можно больше соответствовать образу жизни людей, показанных в знаменитой киноэпопее «Тихий Дон», вышедшей на экраны советской страны за несколько лет до этого.
Разумеется, на свою, когда-то второпях оставленную Родину, впервые за четыре с половиной десятка лет, были допущены лишь те, кто не воевал на стороне вермахта во второй мировой войне, и возле фамилий которых, не были оставлены жирные пометки красным карандашом, в архивах белого движения, попавших в Советский Союз после 1945 года.
Одеты они были совсем не по-казачьи. О том, что свое казачье прошлое особенно им выставлять не следует, они были наслышаны до этого долгожданного приезда на Дон. Кто во Франции, кто в Болгарии, а кто и в далекой Америке.
Уже на вокзале из общей разноликой людской толпы они выделялись своими тщательно покроенными костюмами, сшитыми явно не на ростовской швейной фабрике, да – добротными и увесистыми кожаными чемоданами с диковинными замками. Из этих чемоданов приезжие, по особо торжественным случаям, извлекали вещи, поражавшие жителей сельской донской глубинки.
Три седых старика ехали в рабочий поселок Гундоровский, который в дни запредельно далекой и горячей молодости гордо именовался станицей Гундоровской, Донецкого округа, Области Войска Донского.
Одного из прибывших, высоченного роста с дюбковатым носом, под которым белели пушистые усы с закрученными кончиками, звали Антоном. По тому, как аккуратно и любовно дед Антон приглаживал и расправлял пожелтевшими от табака пальцами эти усы, чувствовалось, что они когда-то были предметом его особой гордости и молодецкого шика. При разговоре этот старый казак всегда старался поворачиваться к своему собеседнику левой стороной. И только когда взгляд собеседника падал на правое ухо старого Антона, сразу становилось понятно, почему он так делал. Ухо у него было словно аккуратно вкручено в густую седую шевелюру и неведомой силой чуть прижато к голове. Несмотря на этот обидный недостаток, слух его был отменный, и стоило двум его спутникам начать шептаться между собой, как он тут же сердито их обрывал:
– Прекратите свои шепталки, не таитесь особливо, бояться уже вроде нечего, да и времени у нас не осталось, чтобы чего-то там бояться.
Второго казака, который больше всех осторожничал, оглядываясь по сторонам, звали Игнатом, а третьего, моложавого на вид, не потерявшего стройности тела и зрелой мужской казачьей красоты, друзья называли Прохором.
Всю дорогу до Гундоровской, они жадно смотрели на выгоревшую и пожухлую степь, мелькавшую в пыльных окнах натужно ревевшего на подъемах и спусках старого рейсового автобуса. Лихо пробежав по мосту через речку Большая Каменка, автобус затормозил на остановке, где и высадил далеких путешественников.
Первым делом Антон, Игнат и Прохор направились к белевшему в самом центре станицы Гундоровской высокому Успенскому храму, где долго молились и ставили свечи. Они зажигали их в таком количестве, что казалось, будто в храме отмечают престольный праздник.
Стоя у аналоя, нашептывали, перебирая в памяти данные им когда – то строгие наказы о молитве:
…За раба Божьего…
…За раба Божьего…
…За раба Божьего…
На выходе из Храма Прохор, низко поклонившись, перекрестился, довольно громко проговорил:
– За всех однополчан Донского гундоровского георгиевского полка поставили, за всех односумов, за всех страдальцев на далекой чужбине… Задумался. И потом, после долгой паузы торжественно добавил:
– Выполнили мы все-таки просьбы, кому – что… Кому – молитву сотворили за царствие им небесное. Их то косточки по всему свету разбросаны – от турецкого Чилингира и греческого Лемноса, и до самых дальних кутков Америки, хоть Северной, хоть Южной. А за кого – их заветную мечту – на Родине побывали.
– Эт, ты точно сказал! Заветную мечту для тех, – поддержал его в разговоре Антон, – кто попасть сюда никак не может. Ох, и много ж таких! Всех и не перечесть-то… На всех и свечек в церковной лавке не хватит. Вон как всё жизнь рассудила… Кто бы мог подумать, что судьба им такое пошлет?
Он надолго замолчал. Раскалившееся до бела солнце серебрило его поседевшую в дальних и чужих краях голову. Потом Антон бережно погладил дорогую летнюю шляпу и одел ее с едва видимым наклоном вправо.
Старики неторопливо, поглядывая по сторонам, прошлись по бывшей Успенской улице.
– Вот здесь стоял мой курень, – вздохнув, Прохор, ткнул пальцем в чей-то маленький и ухоженный домишко, наполовину как бы занавешенный зелеными запылившимися ветвями жерделы, и, покачав головой, горько добавил:
– Добротный, с низами и под железной крышей. Ещё весной восемнадцатого года вся наша большая семья, целых тринадцать душ, без той самой крыши над головой осталась. Ох, и не любили тогда железных крыш, не любили…
– Тише, мы ж с тобой договаривались, – одернул его Игнат.
– Да понял я, понял, – расстроено махнул рукой Прохор.
– Айда, казаки, на станичный бугор, на весь юрт глянем сверху, не видели сколько уж лет!
Какой-то шустрый паренек вывез их на красном москвичонке к горе над станицей, над которой, расставив свои железные ноги, стоял триангуляционный знак, напомнивший им сторожевую казачью вышку, только без донского флага. Но, ясное дело, сторожовкой юрта станицы никто в тот день не занимался.
По-стариковски крякая и задыхаясь от крутого подъема, с трудом переводя дух, поднялись на станичный бугор. Под ногами мягко хрустели стебли колючек и чабреца, разросшихся по бугорку между осколками камня песчаника. Перед глазами открылась удивительная панорама.
Все трое потрясенно замолчали… Замолчали, будто снова оказались с зажженными свечами в храме, но на этот раз в храме природы.
На десятки километров впереди и по сторонам простирался прибрежный лес. Он ровной, зеленой скатертью покрывал проступающие песчаные проплешины. На солнце озорно проблескивал в этом запутанном лесу многочисленными извивами Северский Донец. Слева, у меловых гор он петлял, словно сам назад оглядывался. Потом выпрямлялся, и нёс свои сероватые воды спокойно и ровно на довольно большом расстоянии.
В зелени леса можно было рассмотреть небольшие заросшие камышом и ивняком озерца, идущие как бы пунктиром вдоль основного русла реки.
Глаза, давно лишившиеся своей остроты, словно сбросили застилавшую их пелену. Эти вмиг помолодевшие глаза всё увидели! Они не могли не увидеть то, что им было так дорого, то, что они столько раз видели в тревожных и зачастую бездомных своих снах, с тех пор как покинули свою родину более сорока лет назад.
– Казакует Донец, как и раньше. Никому не подчиняется! – охрипшим от волнения голосом сказал Прохор.
– Для реки нет ни власти, ни начальников, – задумчиво отозвался Антон.
И чтобы снова не услышать проповедь больше всех битого жизнью и оттого осторожного Игната, показал всем рукой налево, – на возвышающиеся беловатые горы над Донцом.
– Вон там был когда-то мой родной хутор Швечиков. В нём я родился. Ничего там уже нет. Ничего. Даже поклониться некому и нечему…
– Кланяйся тогда всему юрту, он ведь тоже тебе родной, ты ж наш, станичник.
– А я и кланяюсь.
И Антон, то ли от внезапно нахлынувшей слабости, то ли от избытка чувств, вдруг опустился на колени, не боясь измазать свой светлый костюм, и стал отбивать поклоны.
Удивленно посмотрев на него и неожиданно поняв, что еще неизвестно когда они попадут в те места, где они родились, два других деда с трудом, медленно, поддерживая друг друга, тоже опустились на колени и стали делать то же самое.
Парнишка, привезший их на машине, опешил от увиденного. Ну ладно в доме или в церкви, или перед ней, но чтобы вот так, в степи… Оправившись от изумления, он присмотрелся и увидел, что деды отбивают поклоны каждый в свою сторону. Антон, который показал на место своего бывшего хутора на крутом берегу Северского Донца – налево, на завершившее свою дневную работу садящееся солнце.
Прохор – направо, в сторону белеющей домишками и церковью самой станицы Гундоровской, а третий, Игнат, все больше разворачивался в убегающую в южную даль, посеревшую предвечернюю степь. Родом Игнат был из степного хутора Плешаков, спрятанного от взгляда за гребенными горами за двадцать верст от Северского Донца.
Сергей Сполох
Сергей Александрович Сполох родился на Дону, в станице Гундоровской. По образованию и жизненному призванию историк. Художественное произведение – исторические хроники «Казак на чужбине» посвящено событиям начала двадцатого века, среди которых особое место занимают Гражданская война на Дону и последовавшая за ней эмиграция донских казаков сначала в Турцию, затем на остров Лемнос в Греции и потом в Болгарию и другие европейские страны. В книге нашлось место для показа образа жизни донского казачества, бытовавших среди них обрядов и обычаев, вековых традиций, которым они неизменно следовали. Книга будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся донской историей.
Сергей Сполох
Казак на чужбине
Часть первая
Вместо предисловия
В конце жаркого и засушливого лета 1964 года, за несколько месяцев до окончания времени правления в Советском Союзе партийного лидера Никиты Сергеевича Хрущева, случилось на Дону событие, ранее невиданное и неслыханное.
В селения Ростовской области приехало довольно много странноватых пожилых людей, называвших себя просто:
– Мы – старые казаки.
И были они действительно старыми, почти всем за семьдесят. А поскольку многие донские жители уже и не помнили истинный смысл этого понятия, то им приходилось ещё и объяснять, что это означает. Объяснять вежливо, деликатно, в рамках официальной идеологии, которая трактовала принадлежность донских жителей к казачеству – как умение скакать на лошади, владеть холодным оружием в виде шашки, петь протяжные песни, да как можно больше соответствовать образу жизни людей, показанных в знаменитой киноэпопее «Тихий Дон», вышедшей на экраны советской страны за несколько лет до этого.
Разумеется, на свою, когда-то второпях оставленную Родину, впервые за четыре с половиной десятка лет, были допущены лишь те, кто не воевал на стороне вермахта во второй мировой войне, и возле фамилий которых, не были оставлены жирные пометки красным карандашом, в архивах белого движения, попавших в Советский Союз после 1945 года.
Одеты они были совсем не по-казачьи. О том, что свое казачье прошлое особенно им выставлять не следует, они были наслышаны до этого долгожданного приезда на Дон. Кто во Франции, кто в Болгарии, а кто и в далекой Америке.
Уже на вокзале из общей разноликой людской толпы они выделялись своими тщательно покроенными костюмами, сшитыми явно не на ростовской швейной фабрике, да – добротными и увесистыми кожаными чемоданами с диковинными замками. Из этих чемоданов приезжие, по особо торжественным случаям, извлекали вещи, поражавшие жителей сельской донской глубинки.
Три седых старика ехали в рабочий поселок Гундоровский, который в дни запредельно далекой и горячей молодости гордо именовался станицей Гундоровской, Донецкого округа, Области Войска Донского.
Одного из прибывших, высоченного роста с дюбковатым носом, под которым белели пушистые усы с закрученными кончиками, звали Антоном. По тому, как аккуратно и любовно дед Антон приглаживал и расправлял пожелтевшими от табака пальцами эти усы, чувствовалось, что они когда-то были предметом его особой гордости и молодецкого шика. При разговоре этот старый казак всегда старался поворачиваться к своему собеседнику левой стороной. И только когда взгляд собеседника падал на правое ухо старого Антона, сразу становилось понятно, почему он так делал. Ухо у него было словно аккуратно вкручено в густую седую шевелюру и неведомой силой чуть прижато к голове. Несмотря на этот обидный недостаток, слух его был отменный, и стоило двум его спутникам начать шептаться между собой, как он тут же сердито их обрывал:
– Прекратите свои шепталки, не таитесь особливо, бояться уже вроде нечего, да и времени у нас не осталось, чтобы чего-то там бояться.
Второго казака, который больше всех осторожничал, оглядываясь по сторонам, звали Игнатом, а третьего, моложавого на вид, не потерявшего стройности тела и зрелой мужской казачьей красоты, друзья называли Прохором.
Всю дорогу до Гундоровской, они жадно смотрели на выгоревшую и пожухлую степь, мелькавшую в пыльных окнах натужно ревевшего на подъемах и спусках старого рейсового автобуса. Лихо пробежав по мосту через речку Большая Каменка, автобус затормозил на остановке, где и высадил далеких путешественников.
Первым делом Антон, Игнат и Прохор направились к белевшему в самом центре станицы Гундоровской высокому Успенскому храму, где долго молились и ставили свечи. Они зажигали их в таком количестве, что казалось, будто в храме отмечают престольный праздник.
Стоя у аналоя, нашептывали, перебирая в памяти данные им когда – то строгие наказы о молитве:
…За раба Божьего…
…За раба Божьего…
…За раба Божьего…
На выходе из Храма Прохор, низко поклонившись, перекрестился, довольно громко проговорил:
– За всех однополчан Донского гундоровского георгиевского полка поставили, за всех односумов, за всех страдальцев на далекой чужбине… Задумался. И потом, после долгой паузы торжественно добавил:
– Выполнили мы все-таки просьбы, кому – что… Кому – молитву сотворили за царствие им небесное. Их то косточки по всему свету разбросаны – от турецкого Чилингира и греческого Лемноса, и до самых дальних кутков Америки, хоть Северной, хоть Южной. А за кого – их заветную мечту – на Родине побывали.
– Эт, ты точно сказал! Заветную мечту для тех, – поддержал его в разговоре Антон, – кто попасть сюда никак не может. Ох, и много ж таких! Всех и не перечесть-то… На всех и свечек в церковной лавке не хватит. Вон как всё жизнь рассудила… Кто бы мог подумать, что судьба им такое пошлет?
Он надолго замолчал. Раскалившееся до бела солнце серебрило его поседевшую в дальних и чужих краях голову. Потом Антон бережно погладил дорогую летнюю шляпу и одел ее с едва видимым наклоном вправо.
Старики неторопливо, поглядывая по сторонам, прошлись по бывшей Успенской улице.
– Вот здесь стоял мой курень, – вздохнув, Прохор, ткнул пальцем в чей-то маленький и ухоженный домишко, наполовину как бы занавешенный зелеными запылившимися ветвями жерделы, и, покачав головой, горько добавил:
– Добротный, с низами и под железной крышей. Ещё весной восемнадцатого года вся наша большая семья, целых тринадцать душ, без той самой крыши над головой осталась. Ох, и не любили тогда железных крыш, не любили…
– Тише, мы ж с тобой договаривались, – одернул его Игнат.
– Да понял я, понял, – расстроено махнул рукой Прохор.
– Айда, казаки, на станичный бугор, на весь юрт глянем сверху, не видели сколько уж лет!
Какой-то шустрый паренек вывез их на красном москвичонке к горе над станицей, над которой, расставив свои железные ноги, стоял триангуляционный знак, напомнивший им сторожевую казачью вышку, только без донского флага. Но, ясное дело, сторожовкой юрта станицы никто в тот день не занимался.
По-стариковски крякая и задыхаясь от крутого подъема, с трудом переводя дух, поднялись на станичный бугор. Под ногами мягко хрустели стебли колючек и чабреца, разросшихся по бугорку между осколками камня песчаника. Перед глазами открылась удивительная панорама.
Все трое потрясенно замолчали… Замолчали, будто снова оказались с зажженными свечами в храме, но на этот раз в храме природы.
На десятки километров впереди и по сторонам простирался прибрежный лес. Он ровной, зеленой скатертью покрывал проступающие песчаные проплешины. На солнце озорно проблескивал в этом запутанном лесу многочисленными извивами Северский Донец. Слева, у меловых гор он петлял, словно сам назад оглядывался. Потом выпрямлялся, и нёс свои сероватые воды спокойно и ровно на довольно большом расстоянии.
В зелени леса можно было рассмотреть небольшие заросшие камышом и ивняком озерца, идущие как бы пунктиром вдоль основного русла реки.
Глаза, давно лишившиеся своей остроты, словно сбросили застилавшую их пелену. Эти вмиг помолодевшие глаза всё увидели! Они не могли не увидеть то, что им было так дорого, то, что они столько раз видели в тревожных и зачастую бездомных своих снах, с тех пор как покинули свою родину более сорока лет назад.
– Казакует Донец, как и раньше. Никому не подчиняется! – охрипшим от волнения голосом сказал Прохор.
– Для реки нет ни власти, ни начальников, – задумчиво отозвался Антон.
И чтобы снова не услышать проповедь больше всех битого жизнью и оттого осторожного Игната, показал всем рукой налево, – на возвышающиеся беловатые горы над Донцом.
– Вон там был когда-то мой родной хутор Швечиков. В нём я родился. Ничего там уже нет. Ничего. Даже поклониться некому и нечему…
– Кланяйся тогда всему юрту, он ведь тоже тебе родной, ты ж наш, станичник.
– А я и кланяюсь.
И Антон, то ли от внезапно нахлынувшей слабости, то ли от избытка чувств, вдруг опустился на колени, не боясь измазать свой светлый костюм, и стал отбивать поклоны.
Удивленно посмотрев на него и неожиданно поняв, что еще неизвестно когда они попадут в те места, где они родились, два других деда с трудом, медленно, поддерживая друг друга, тоже опустились на колени и стали делать то же самое.
Парнишка, привезший их на машине, опешил от увиденного. Ну ладно в доме или в церкви, или перед ней, но чтобы вот так, в степи… Оправившись от изумления, он присмотрелся и увидел, что деды отбивают поклоны каждый в свою сторону. Антон, который показал на место своего бывшего хутора на крутом берегу Северского Донца – налево, на завершившее свою дневную работу садящееся солнце.
Прохор – направо, в сторону белеющей домишками и церковью самой станицы Гундоровской, а третий, Игнат, все больше разворачивался в убегающую в южную даль, посеревшую предвечернюю степь. Родом Игнат был из степного хутора Плешаков, спрятанного от взгляда за гребенными горами за двадцать верст от Северского Донца.