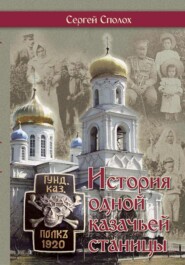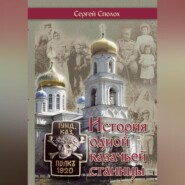По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Казак на чужбине
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И изгнанник задумался над тем, что слышал в письмах и обращениях:
– «Армия имеет бодрое настроение, сильна духом и рвется в бой», – говорилось в них.
«Какая ересь! Неужели эти люди не понимают, как предыдущие потрясения искалечили моральный облик бойца? Неужели эти «обращенцы» не понимают, что нравственное переутомление от полученных обещаний, изнурение голодом и холодом не способствуют готовности к вооружённой борьбе, тем более с противником, которому мы уже трижды проиграли.
– «Жизнь в лагерях налаживается», – влетала в уши другая нелепая фраза из официоза, доводившегося до казаков.
Она, эта жизнь, не была по человечески налажена до самого конца существования лагерей. А чего стоят интендантские, с позволения сказать, дела. Когда обирался обездоленный казак, а отщипнутое от краюхи нищего раздавалось и раздаривалось дружкам и близким сослуживцам. Царь голод заглушил совесть, затмил понятие о долге и чести.
Часть изгнанников, не сознавая за собой особой вины перед советской властью, уехала на Родину. Уехала тревожно, со слезами на глазах.
Странно определяется время от трёх до пяти лет. Эти годы мы должны скитаться за границей, но где? Экономическая разруха в Европе, как следствие мировой и гражданской войн, нарушает равновесие и создает неизбежность нового пожара в Европе. Нам нет нигде места.
После Крымской трагедии Русская армия не может из Европы активно бороться с большевиками за свои лозунги, ибо у неё нет ни оружия, ни средств, ни сил.
Слишком много пережито, слишком много отдано этой армии на спасение Родины, чтобы быть равнодушным к её судьбе. Поэтому, всякое поползновение к переводу армии с французского пайка на собственное иждивение вызывает у армейцев бурю негодования.
И наше командование, уступая настойчивым просьбам французского правительства, решило приступить к рассредоточению армии, разрешив записываться в Бразилию, на Дальний Восток, Мадагаскар и Корсику.
Я решил уехать в Бразилию, где думаю пережить годы российской разрухи. И не боюсь упрека, будто уезжая туда, я обратил себя на безучастное отношение к армии и Родине. Одиннадцать лет службы офицером. Война с Германией. Переход с фронта сразу же в отряд Чернецова. Поход генерала Корнилова на Кубань и работа в рядах гундоровского полка в Таврии. Раны, личные бедствия и лишения походной жизни, говорят за то, что потеря армии и Родины мне дороги. Там остаются моя семья и мои родные.
Но физически и духовно уставший, я бессилен оказать им какую-то помощь своей службой. Меня неудержимо влечёт к независимому индивидуальному труду, к труду земледельца, который даёт отдых и успокоение издерганным прошедшими годами нервам. Учтите всю сложность и причины моего отъезда за океан, и вы не найдёте для меня слов для упрека.
Войсковой старшина Михаил Попов. Остров Лемнос. Греция. 26 апреля 1921 года».
В суете затянувшегося от работы дня про письмо как-то подзабыли и вспомнили про него лишь поздно вечером, сидя на веранде за ужином.
Лица у всех выражали удивление и тревогу, мнения разделились, разбив собравшихся на два лагеря.
– За душу берет. Как письмо с того света. Непрочитаное только никем.
– Антисоветчина какая то…
– Да какая антисоветчина? Власти этой нет уже сколько лет! Раньше-то, да за такие писания, а если ещё и вслух прочитанные, не дачу б ты обустраивал, а нары в бараке…
– Так! Ну и что с этим криком души всё же делать? Не выбрасывать же… Да и интересно узнать, что было до этих событий, о которых казак в своей исповеди пишет? Что было после! Что за люди здесь, в этой станице Гундоровской жили? Как за границей оказались и что там столько лет делали?
Прошло еще немало лет, и на эти и другие вопросы были даны ответы. Все они в книге, которую Вы будете читать дальше.
Глава 1
Небогатый хутор Швечиков, станицы Гундоровской, Области войска Донского. Небогатый. Нынешнее же лето 1894 года, грозило сделать хуторян ещё беднее. Немыслимая жара исступленно выжгла всю степь, добралась до прибрежных зарослей у Северского Донца и, конечно, по-злому навредила посевам. Низкорослые хлеба вышли в трубочку и начали желтеть сверху вниз. И чем больше эта желтизна покрывала и так не очень щедрые на урожай поля, а легкий ветерок, пробегающий по степи, разносил по округе жестяный шелест засыхающих посевов, тем больше чернели и переживали казаки, живущие в хуторе.
Священник Свято-Серафимовской церкви, отец Евлампий, два раза по просьбе хуторского общества проводил крестный ход. Взывая к Господу Богу, шли с иконами в руках по степной дороге над Донцом хуторские старухи, поднимая подолами черных юбок невесомую серую пыль. Молодые казачки успокаивали плачущих на руках детей, в душе при этом надеясь, что хоть детский плач разжалобит жадные в этом году на дожди небеса. Однако, небеса эти были глухи к мольбам хуторян и оттого прозрачны и безмолвны в своей синеве. Лишь два раза за последний месяц они давали хоть какую-то надежду.
Оба раза к вечеру из-за Донца, со стороны соседней Митякинской станицы, показывались обнадеживающие хуторян тучи. Уже и первые капли ударяли в дорожную пыль, сворачиваясь в тугие, мохнатые, как шмели, комочки. Хозяйки, заслышав ворчащие раскаты грома, то и дело выскакивали из куреней, радостно посматривая на потемневшее, разбухшее и обещающее дождь небо.
Но нет, дождевые тучи одинаково неторопливо, дыша недоступной влагой, проползали мимо, на юго-запад, в сторону от хутора, так и не проронив настоящего дождеца.
Ждали казаки дождя не проливного, а как издавна говорили в этих местах, промочного. Проливной, он что, отшумит как веселье у пьяницы, быстро выплескивая на раскаленные солнцем улочки и поля острые, как пики, капли драгоценной влаги. Вот настоящий, промочной дождь для степи – величайшее благо. Он зальет все балки, впадины и буераки с черно-зеленым терновником, превратит иссыхающие ручейки в маленькие речушки, но всего на одну только ночь, а полупустые, разбитые копытами бочажины – в глинистые по мутному цвету и тоже недолговечные озерца. Если б пролился такой, выпрашиваемый у бога дождь, то благодарность хлеборобствующего населения хутора была бы безграничной.
А так… Жди от небес благодати, а небеса эти, кроме немыслимого и изматывающего души и тела хуторян жара, ничего не дают вот уж которую неделю. Солнце, словно гигантский оранжевый желток на начищенной речным песком белесой сковородке, без устали перекатывалось с одного края небосвода на другой. Облака напоминали тополиный пух, собравшийся комками на пыльных хуторских тропинках, сбегавших к Донцу. И так же как эти комочки пуха, поднятые палючим предвечерним вихрем, они носились по небу, не набухая и не насыщаясь влагой, а только дразня изнывающие от жажды поля.
Июньская жара выгнала с пыльных улочек хутора Швечиков всё живое. Телята неподвижно застыли возле своих килков, высунув длинные, розовые языки. Собаки забились в тень и тяжело дышали, опустошив все миски с водой, оставленные хозяевами с раннего утра. И даже свиньи, изнурённые жарой, несмотря на полуденное время, не требовали еды и только вяло повизгивали. Вся водоплавающая птица ещё с утра скатилась с высокого берега Донца и кругами рассекала мутные прибрежные воды реки.
От этой несусветной жары ковыль на склонах степных балок из белого, давно уже стал серым. Кузнечики, выскакивающие из засыхающей на корню травы, при каждом скачке, сбивали с неё лёгкую пыль. Даже длинные листики прибрежных ив скрутились в трубочки, и при малейшем дыхании ветерка тянулись вниз, словно стремились помочь дереву напиться и омыть себя в разогретой воде Донца.
Солнце без устали обжигало своими лучами все хуторские строения: курени с наглухо закрытыми ставнями, почти пустые амбары, ожидающие нового урожая, конюшни с выставленными для проветривания оконцами.
Хуторская детвора – вся у воды. Казачата постарше купались на стремнине, хвастливо заплывая подальше, и с наслаждением ныряли, погружаясь в чуть более прохладную, чем распаренный воздух, воду. Те ребятишки, что помладше, возились в заиленных копанках, из которых хуторяне брали воду для полива огородов. За малышами зорко следили их старшие сестры-няньки. С берега время от времени доносилось:
– Куда полез? Вот я тебе лозиной задам!
– А изгваздался, изгваздался, как чертенёнок, а как не буду тебя мыть в речке, так домой весь в муляке и пойдешь!
В криках этих малолетние няньки подражали своим матерям, которые в этот час находились на низовых лугах на сенокосе. Собственно говоря, и сенокоса как такового не получалось. Но коль уж луга были поделены хуторским атаманом на улеши, то и выехать на них было необходимо. С одного улеша в прошлом году хуторяне вывозили в два, а то и в три раза больше возов, чем в нынешнем. Это могло означать одно – на бескормицу будет обречён грядущей зимой весь скот, а вместе с ним и люди.
Хуторяне, собравшись на майдане, горестно рассуждали:
– Ну отчего так? Если зимой случаются метели, то они нас до самых крыш первыми накрывают, если упадёт жара как сейчас, так в другие хуторах влага хоть как-то попадает. У нас же в хуторе – преисподняя на страдалице земле, а не погода.
Долго решали, что делать дальше: просить Отца Евлампия проводить в третий раз крестный ход или же срочно обращаться в станичное правление об оказании помощи хуторянам. Решили пока подождать и с тем, и с другим.
Невезучий хутор Швечиков. Невезучий.
* * *
В хуторе Швечиков были и такие дворы, обитателей которых не так уж и сильно страшил грядущий неурожай.
На хуторском майдане рядом с церковью, над крутым склоном небольшой балки, уходящей к Донцу, стоял дом местного лавочника Карапыша. Его род был пришлым, иногородним и хохляцким наполовину. Однако, за заслуги перед Донским Войском и за долгую и беспорочную торговую деятельность был принят Иван Карапыш в казачье сословие.
На радостях после такого известия Карапыш выкатил на майдан бочку пива, бросил на стол перед лавкой две больших вязанки икряных чебаков и, понимая, что большого казачьего веселья только с этого не получится, вынес собравшимся хуторянам полнейшее ведро водки.
Хоть гулянка на дурничку была и шумной, но всё равно с похмелья злые и еле ворочающиеся языки распустили по хутору плохой слушок: дескать, и пиво было перестоявшее, и рыба пересушенная. А водка вообще не гордая, не крепкая, значит. Да и не выйдет стоящий казак с торговца и лавочника, до последнего ногтя Карапыша. Тума, тумою и останется – иногородний, мол, даже может сменить сословие, но не душу.
Сын Ивана Карапыша Яков, вышедший в полноту со скамьи церковно-приходской школы и которого за глаза называли за круглое лицо по-хохляцки пыкой, нёс свое звание торгового казака, уже во втором поколении, высоко и не в пример другим местным торговцам. Яков цену себе знал. На все просьбы хуторского правления откликался сразу, но вот дурничных гулянок по разным поводам перед лавкой, как его отец, уже не устраивал. На язвительные подначки хуторян отвечал солидно:
– Энтот гай-гуй не по мне. По мне работа на первейшем месте.
Слова его с делом не расходились. И то, что это действительно так, он стал доказывать задолго до того, как стал старшим в семье Карапышей.
Словно подковой охватили строения Карапыша хуторской майдан.
Посредине выделялся почти шестисаженный добротный казачий курень, с низами, выложенными из известнякового камня из каменной ломки, расположенной тут же, за хутором. У куреня была большая, опоясывающая уличную часть строения галдарея и сдвоенные полукруглые окна, которые издалека смотрелись как вздернутые от удивления брови.
А удивляться было от чего. Как в два поколения, словно в два прыжка, удалось Карапышам, пришедшим из соседней Екатеринославской губернии с двумя оклунками на заработки к местным казакам, выйти по богатству первыми людьми на хуторе и, почитай, третьими во всей станице.
Слева от лучшего, зажиточного в хуторе карапышевского куреня, стояли сложенные из привычного для этих мест желто-коричневого камня амбары, куда по осени Яков засыпал зерно, закупленное не только у казаков хутора Швечиков, но и со всех окрестных хуторов станицы. Затем, зерно это вывозилось на парамоновские ссыпки, где за него выручались немалые деньги, а деньги эти до следующей осени ссужались всё тем же швечиковцам под кусачий процент.
– «Армия имеет бодрое настроение, сильна духом и рвется в бой», – говорилось в них.
«Какая ересь! Неужели эти люди не понимают, как предыдущие потрясения искалечили моральный облик бойца? Неужели эти «обращенцы» не понимают, что нравственное переутомление от полученных обещаний, изнурение голодом и холодом не способствуют готовности к вооружённой борьбе, тем более с противником, которому мы уже трижды проиграли.
– «Жизнь в лагерях налаживается», – влетала в уши другая нелепая фраза из официоза, доводившегося до казаков.
Она, эта жизнь, не была по человечески налажена до самого конца существования лагерей. А чего стоят интендантские, с позволения сказать, дела. Когда обирался обездоленный казак, а отщипнутое от краюхи нищего раздавалось и раздаривалось дружкам и близким сослуживцам. Царь голод заглушил совесть, затмил понятие о долге и чести.
Часть изгнанников, не сознавая за собой особой вины перед советской властью, уехала на Родину. Уехала тревожно, со слезами на глазах.
Странно определяется время от трёх до пяти лет. Эти годы мы должны скитаться за границей, но где? Экономическая разруха в Европе, как следствие мировой и гражданской войн, нарушает равновесие и создает неизбежность нового пожара в Европе. Нам нет нигде места.
После Крымской трагедии Русская армия не может из Европы активно бороться с большевиками за свои лозунги, ибо у неё нет ни оружия, ни средств, ни сил.
Слишком много пережито, слишком много отдано этой армии на спасение Родины, чтобы быть равнодушным к её судьбе. Поэтому, всякое поползновение к переводу армии с французского пайка на собственное иждивение вызывает у армейцев бурю негодования.
И наше командование, уступая настойчивым просьбам французского правительства, решило приступить к рассредоточению армии, разрешив записываться в Бразилию, на Дальний Восток, Мадагаскар и Корсику.
Я решил уехать в Бразилию, где думаю пережить годы российской разрухи. И не боюсь упрека, будто уезжая туда, я обратил себя на безучастное отношение к армии и Родине. Одиннадцать лет службы офицером. Война с Германией. Переход с фронта сразу же в отряд Чернецова. Поход генерала Корнилова на Кубань и работа в рядах гундоровского полка в Таврии. Раны, личные бедствия и лишения походной жизни, говорят за то, что потеря армии и Родины мне дороги. Там остаются моя семья и мои родные.
Но физически и духовно уставший, я бессилен оказать им какую-то помощь своей службой. Меня неудержимо влечёт к независимому индивидуальному труду, к труду земледельца, который даёт отдых и успокоение издерганным прошедшими годами нервам. Учтите всю сложность и причины моего отъезда за океан, и вы не найдёте для меня слов для упрека.
Войсковой старшина Михаил Попов. Остров Лемнос. Греция. 26 апреля 1921 года».
В суете затянувшегося от работы дня про письмо как-то подзабыли и вспомнили про него лишь поздно вечером, сидя на веранде за ужином.
Лица у всех выражали удивление и тревогу, мнения разделились, разбив собравшихся на два лагеря.
– За душу берет. Как письмо с того света. Непрочитаное только никем.
– Антисоветчина какая то…
– Да какая антисоветчина? Власти этой нет уже сколько лет! Раньше-то, да за такие писания, а если ещё и вслух прочитанные, не дачу б ты обустраивал, а нары в бараке…
– Так! Ну и что с этим криком души всё же делать? Не выбрасывать же… Да и интересно узнать, что было до этих событий, о которых казак в своей исповеди пишет? Что было после! Что за люди здесь, в этой станице Гундоровской жили? Как за границей оказались и что там столько лет делали?
Прошло еще немало лет, и на эти и другие вопросы были даны ответы. Все они в книге, которую Вы будете читать дальше.
Глава 1
Небогатый хутор Швечиков, станицы Гундоровской, Области войска Донского. Небогатый. Нынешнее же лето 1894 года, грозило сделать хуторян ещё беднее. Немыслимая жара исступленно выжгла всю степь, добралась до прибрежных зарослей у Северского Донца и, конечно, по-злому навредила посевам. Низкорослые хлеба вышли в трубочку и начали желтеть сверху вниз. И чем больше эта желтизна покрывала и так не очень щедрые на урожай поля, а легкий ветерок, пробегающий по степи, разносил по округе жестяный шелест засыхающих посевов, тем больше чернели и переживали казаки, живущие в хуторе.
Священник Свято-Серафимовской церкви, отец Евлампий, два раза по просьбе хуторского общества проводил крестный ход. Взывая к Господу Богу, шли с иконами в руках по степной дороге над Донцом хуторские старухи, поднимая подолами черных юбок невесомую серую пыль. Молодые казачки успокаивали плачущих на руках детей, в душе при этом надеясь, что хоть детский плач разжалобит жадные в этом году на дожди небеса. Однако, небеса эти были глухи к мольбам хуторян и оттого прозрачны и безмолвны в своей синеве. Лишь два раза за последний месяц они давали хоть какую-то надежду.
Оба раза к вечеру из-за Донца, со стороны соседней Митякинской станицы, показывались обнадеживающие хуторян тучи. Уже и первые капли ударяли в дорожную пыль, сворачиваясь в тугие, мохнатые, как шмели, комочки. Хозяйки, заслышав ворчащие раскаты грома, то и дело выскакивали из куреней, радостно посматривая на потемневшее, разбухшее и обещающее дождь небо.
Но нет, дождевые тучи одинаково неторопливо, дыша недоступной влагой, проползали мимо, на юго-запад, в сторону от хутора, так и не проронив настоящего дождеца.
Ждали казаки дождя не проливного, а как издавна говорили в этих местах, промочного. Проливной, он что, отшумит как веселье у пьяницы, быстро выплескивая на раскаленные солнцем улочки и поля острые, как пики, капли драгоценной влаги. Вот настоящий, промочной дождь для степи – величайшее благо. Он зальет все балки, впадины и буераки с черно-зеленым терновником, превратит иссыхающие ручейки в маленькие речушки, но всего на одну только ночь, а полупустые, разбитые копытами бочажины – в глинистые по мутному цвету и тоже недолговечные озерца. Если б пролился такой, выпрашиваемый у бога дождь, то благодарность хлеборобствующего населения хутора была бы безграничной.
А так… Жди от небес благодати, а небеса эти, кроме немыслимого и изматывающего души и тела хуторян жара, ничего не дают вот уж которую неделю. Солнце, словно гигантский оранжевый желток на начищенной речным песком белесой сковородке, без устали перекатывалось с одного края небосвода на другой. Облака напоминали тополиный пух, собравшийся комками на пыльных хуторских тропинках, сбегавших к Донцу. И так же как эти комочки пуха, поднятые палючим предвечерним вихрем, они носились по небу, не набухая и не насыщаясь влагой, а только дразня изнывающие от жажды поля.
Июньская жара выгнала с пыльных улочек хутора Швечиков всё живое. Телята неподвижно застыли возле своих килков, высунув длинные, розовые языки. Собаки забились в тень и тяжело дышали, опустошив все миски с водой, оставленные хозяевами с раннего утра. И даже свиньи, изнурённые жарой, несмотря на полуденное время, не требовали еды и только вяло повизгивали. Вся водоплавающая птица ещё с утра скатилась с высокого берега Донца и кругами рассекала мутные прибрежные воды реки.
От этой несусветной жары ковыль на склонах степных балок из белого, давно уже стал серым. Кузнечики, выскакивающие из засыхающей на корню травы, при каждом скачке, сбивали с неё лёгкую пыль. Даже длинные листики прибрежных ив скрутились в трубочки, и при малейшем дыхании ветерка тянулись вниз, словно стремились помочь дереву напиться и омыть себя в разогретой воде Донца.
Солнце без устали обжигало своими лучами все хуторские строения: курени с наглухо закрытыми ставнями, почти пустые амбары, ожидающие нового урожая, конюшни с выставленными для проветривания оконцами.
Хуторская детвора – вся у воды. Казачата постарше купались на стремнине, хвастливо заплывая подальше, и с наслаждением ныряли, погружаясь в чуть более прохладную, чем распаренный воздух, воду. Те ребятишки, что помладше, возились в заиленных копанках, из которых хуторяне брали воду для полива огородов. За малышами зорко следили их старшие сестры-няньки. С берега время от времени доносилось:
– Куда полез? Вот я тебе лозиной задам!
– А изгваздался, изгваздался, как чертенёнок, а как не буду тебя мыть в речке, так домой весь в муляке и пойдешь!
В криках этих малолетние няньки подражали своим матерям, которые в этот час находились на низовых лугах на сенокосе. Собственно говоря, и сенокоса как такового не получалось. Но коль уж луга были поделены хуторским атаманом на улеши, то и выехать на них было необходимо. С одного улеша в прошлом году хуторяне вывозили в два, а то и в три раза больше возов, чем в нынешнем. Это могло означать одно – на бескормицу будет обречён грядущей зимой весь скот, а вместе с ним и люди.
Хуторяне, собравшись на майдане, горестно рассуждали:
– Ну отчего так? Если зимой случаются метели, то они нас до самых крыш первыми накрывают, если упадёт жара как сейчас, так в другие хуторах влага хоть как-то попадает. У нас же в хуторе – преисподняя на страдалице земле, а не погода.
Долго решали, что делать дальше: просить Отца Евлампия проводить в третий раз крестный ход или же срочно обращаться в станичное правление об оказании помощи хуторянам. Решили пока подождать и с тем, и с другим.
Невезучий хутор Швечиков. Невезучий.
* * *
В хуторе Швечиков были и такие дворы, обитателей которых не так уж и сильно страшил грядущий неурожай.
На хуторском майдане рядом с церковью, над крутым склоном небольшой балки, уходящей к Донцу, стоял дом местного лавочника Карапыша. Его род был пришлым, иногородним и хохляцким наполовину. Однако, за заслуги перед Донским Войском и за долгую и беспорочную торговую деятельность был принят Иван Карапыш в казачье сословие.
На радостях после такого известия Карапыш выкатил на майдан бочку пива, бросил на стол перед лавкой две больших вязанки икряных чебаков и, понимая, что большого казачьего веселья только с этого не получится, вынес собравшимся хуторянам полнейшее ведро водки.
Хоть гулянка на дурничку была и шумной, но всё равно с похмелья злые и еле ворочающиеся языки распустили по хутору плохой слушок: дескать, и пиво было перестоявшее, и рыба пересушенная. А водка вообще не гордая, не крепкая, значит. Да и не выйдет стоящий казак с торговца и лавочника, до последнего ногтя Карапыша. Тума, тумою и останется – иногородний, мол, даже может сменить сословие, но не душу.
Сын Ивана Карапыша Яков, вышедший в полноту со скамьи церковно-приходской школы и которого за глаза называли за круглое лицо по-хохляцки пыкой, нёс свое звание торгового казака, уже во втором поколении, высоко и не в пример другим местным торговцам. Яков цену себе знал. На все просьбы хуторского правления откликался сразу, но вот дурничных гулянок по разным поводам перед лавкой, как его отец, уже не устраивал. На язвительные подначки хуторян отвечал солидно:
– Энтот гай-гуй не по мне. По мне работа на первейшем месте.
Слова его с делом не расходились. И то, что это действительно так, он стал доказывать задолго до того, как стал старшим в семье Карапышей.
Словно подковой охватили строения Карапыша хуторской майдан.
Посредине выделялся почти шестисаженный добротный казачий курень, с низами, выложенными из известнякового камня из каменной ломки, расположенной тут же, за хутором. У куреня была большая, опоясывающая уличную часть строения галдарея и сдвоенные полукруглые окна, которые издалека смотрелись как вздернутые от удивления брови.
А удивляться было от чего. Как в два поколения, словно в два прыжка, удалось Карапышам, пришедшим из соседней Екатеринославской губернии с двумя оклунками на заработки к местным казакам, выйти по богатству первыми людьми на хуторе и, почитай, третьими во всей станице.
Слева от лучшего, зажиточного в хуторе карапышевского куреня, стояли сложенные из привычного для этих мест желто-коричневого камня амбары, куда по осени Яков засыпал зерно, закупленное не только у казаков хутора Швечиков, но и со всех окрестных хуторов станицы. Затем, зерно это вывозилось на парамоновские ссыпки, где за него выручались немалые деньги, а деньги эти до следующей осени ссужались всё тем же швечиковцам под кусачий процент.