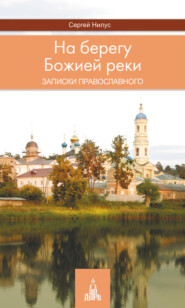По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сила Божия и немощь человеческая
Жанр
Серия
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А все-таки мне было жутко открывать свое блаженное пребывание в Оптиной. И мудро ли то было, когда Оптина была не только для меня, убогого разумом, но и для высоких людей уголком рая, точно забытым ненавистью врага рода человеческого или, вернее, огражденным от нее всесильной властью Царицы неба и земли, Приснодевы Богородицы. Благолепие храмов и священнодействий; стройное пение; примерная жизнь в духе благонравной и преуспевающей духовно под богомудрым водительством старца Макария и игумена Моисея братии; дивные службы церковные, окрыляющие дух пренебесной радостью… Могло ли что на земле сравниться с дивной Оптиной!.. А отдельные подвижники Оптиной, эти земные небожители! Старец Макарий; игумен Моисей; иеросхимонах Иоанн, обличитель и гроза раскола; Варлаам, бывший игумен Валаамский, с тяжелым сосновым отрубком на плече: «томлю томящаго мя», – ответил он, когда нечаянно был застигнут одним из братии за тайным своим подвигом – безмолвник и созерцатель, делатель умной молитвы… А Петр Александрович Григоров, оставивший вся красная мира, о котором я уже сказывал! И многие другие, явные и тайные подвижники духа, известные или только Одному Господу доведомые, коеми изобиловала тогда Оптина! Богом моим свидетельствую, что при игумене Моисее обитель Оптинская цвела такой высокой нравственностью, что каждый мальчик-послушник был, как старец. Я видел там в полном смысле слова земных ангелов и небесных жителей. Что это было за примерное благочиние, послушание, терпение, смиренномудрие, кротость, смирение!
Оптина была школой для российского монашества.
Вспоминая любовь старца Макария, не могу не упомянуть об одном знаменательном помысле, вошедшем мне в сердце, когда я раз пришел к нему в келью пить чай с его келейниками. Самовар еще не ставили. Был жаркий июльский день. Сидя на крыльце кельи, я услышал стук топора за кельей. Я пошел на этот стук и застал келейника, иеродиакона Амвросия, трудящимся до поту за одного больного брата, послушника Василия. Я смотрел на его ревность из любви к больному брату и молился мысленно, чтобы Господь призрел на дело любви и благословил дни его жизни. И в это время я услышал в себе внутренний голос, мне говорящий, ясно произнесший: «Этот отец будет по времени старцем в этой обители вместо отца Макария». Впоследствии помыслу этому суждено было сбыться: иеродиакон Амвросий стал по смерти отца Макария великим Оптинским старцем.
Но ни помыслам, ни благодатным видениям, как бы ни были они знаменательны и вожделенны, старец Макарий не дозволял давать легкомысленной веры.
Однажды, во время описываемого мною пребывания в Оптиной, был со мною такой случай. Заболело у меня горло, сделалась сильная опухоль, и я сильно заболел.
Смерти я не боялся, но мне хотелось еще потрудиться в обители, и так как болезнь грозила принять серьезный оборот, то я сильно упал духом. В скорби духа я заснул и вижу во сне, что я лежу больной, и вот – подходит ко мне Спаситель, как Его пишут на иконах явления Марии Магдалине по Воскресении, – нагой, через плечо покрытый покровом, и говорит мне:
– Феодор, ты нездоров?
– Нездоров, Господи!
Спаситель приблизился ко мне и рукою Своею вскрыл мне грудь, так что я увидел свое сердце и всю мою внутренность…
– Да – нездоров, – сказал Он и, сказавши это, стал ко мне боком, и из ребра Его брызнула на меня фонтаном Кровь и вода; как дождь благодатный, оросили они мне все мои внутренности. Затем Он закрыл мне грудь, еще раз оросил ее Своею Кровью и, сказавши:
– Теперь ты будешь здоров, – стал невидим, а я проснулся.
Опухоли в горле – как не бывало, и я встал с постели совершенно здоровым.
Немедля пошел я в скит к старцу отцу Макарию, чтобы рассказать о дивном видении. Старец выслушал меня со вниманием и обычной ему любовью, и несколько помолчавши, сказал:
– Что ты сделался здоров, за это благодари Господа, но сну этому не верь.
– Как же так, батюшка, не верить-то? Вы сами свидетель, что я был сильно болен, а вот – мгновенно – здоров, – возразил я не без горечи и удивления старцу.
– Слушай меня! – призвал отец Макарий, – если бы и точно, за молитвы святых отец, сон твой был благодатный, то и тогда гораздо для тебя полезнее не верить сну. Веря сну, ты не избегнешь самомнения, а испытай себя, спроси свою совесть: ну, достоин ли ты, чтобы явился к тебе Спаситель?… Положим, что «милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть», но, во всяком случае, недоверие сие не будет служить тебе препятствием ко спасению… Положи себе, что ты женат и имеешь жену, которую ты хотел испытать в верности, для чего ты, отъехав как бы в дальнюю сторону, через несколько дней вернулся бы к жене под искусной маской, под которой тебя невозможно было бы узнать.
Положи, что маска эта красивее тебя и так искусно сделана, что ты в ней другой человек, и ни одна женщина не могла бы в ней тобой не заинтересоваться. Под этим обличьем ты стал бы прельщать свою жену… Скажи мне, был бы ты обижен, если бы жена твоя в ответ на твои обольщения ответила тебе личным оскорблением, соблюдая свою супружескую верность?… Не стал ли бы ты ее еще больше любить и уважать?… Ну, вот видишь – так и ты поступи: от всей души возблагодари Господа за выздоровление, а сну не доверяй, памятуя свое недостоинство и греховность.
Так вразумил меня старец, прозревая во мне зарождающуюся склонность к самообольщению…
Так в жизни монастырского послушания, тихих радостях монашеской жизни, назидаясь примером и речами богомудрых моих наставников и собратий, провел я благополучно 1846 год в стенах великой Оптиной. На небе был я или на земле, не знаю; но – увы! – земля на этот раз в моей жизни оказалась сильнее неба, и для временного пустынножителя назрела неотложная нужда в паспорте. С великой тугой сердечной написал я из Оптиной родителю письмо о высылке паспорта, но в ответ получил угрозу вытребовать меня через полицейское управление.
Сильнее всех в семье восстал против моего монашества брат Феодор, который и всегда-то был, как человек нового духа, враг монахов, и тут пошел на меня прямо-таки войной и подняв бурю против меня на семейном совете.
Батюшка отец Макарий благословил отца Амвросия написать от своего имени моим родителям письмо, чтобы они не препятствовали моему желанию посвятить себя иноческой жизни. В письме этом родители мои предупреждались старцем, что противлением своим сыну на вступление в монашество они могут навлечь на себя гнев Божий и лишиться благословения в делах своих… Письмо было отправлено, но мне что-то не чаялось получить исполнение своего желания. Так и вышло: вскоре пришел за мной игуменский келейник и позвал к отцу игумену.
Когда я вошел в залу, то за столом увидел городничего города Козельска. Хотя городничий мирно попивал игуменский чай, сердце мое обмерло от тяжелого предчувствия… Отец игумен сообщил мне, что родители требуют высылки моей в город Балашов через полицейское управление, городничий к игуменским словам добавил с усмешкой:
– При этапе конвойном.
Я заплакал…
– За что ж по этапу? – возразил отец Моисей, – выдайте ему проходной билет от Козельска до Балашова.
Городничий согласился:
– Конечно, так, – сказал он, – за что же по этапу – он никакого преступления не сделал.
В конце концов мне было вручено проходное свидетельство, и я должен был отправиться на родину.
Поговевши в последний раз в Оптиной, я с великим плачем простился с братией, со старцем отцом Макарием и с отцом игуменом. Великий старец ласково утешал меня и сказал, что рано или поздно, а я все-таки буду монахом, только бы я не вступал в супружество.
– Не плачь, – говорил мне отец Макарий, – не плачь. Уверяю тебя – никогда не отчаивайся в милосердии Божием; оно безгранично. Силен Бог извести тебя из мира, – и ты со временем будешь иноком. Просите и дастся вам… И мы будем за тебя молиться.
Отец игумен, прощаясь со мной, достал из столика положенные туда при моем вступлении два золотые, которые так все время там и лежали, и я, поклонившись старцам и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, пешком отправился на родину.
Отец Родион провожал меня до Свято-Пафнутиевского колодезя.
Так завершился мой побег из родительского дома… Что-то меня ожидало по возвращении под кров родительский?
XXIII
– Ах ты, вшивый! Сколько ты наделал нам скорби и слез матери!..
Такими словами встретил меня родитель, когда я вернулся под кров отчего дома.
В слезах радости свидания после долгой разлуки обнимались мы с отцом, матерью и сестрами. Только в брате моем старшем, Феодоре, радость свидания особенно не была заметна – он больше подсмеивался надо мной и над вынужденным моим возвращением, как бы торжествуя, что не без его усиленного настояния мне не был выслан родителями паспорт. Не злой был он человек, но, прости ему, Господи, сильно зараженный духом времени… Узнавши о моем возвращении, к нам набрался полный дом родных и знакомых: кто просто хотел видеть беглеца и порадоваться вместе с родителями его возвращению, а кто явился меня защищать от предполагаемого гнева родительского. Но в родительском сердце не было гнева – радость встречи после двухлетней скорби заставила их все забыть, и я вновь вступил в семейную жизнь в полном повиновении и покорности воле родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще продолжал держать водяную мельницу и вести торговлю церковными свечами. Брат Феодор служил по откупам, сестра Екатерина без меня была выдана замуж. Года полтора жила она в замужестве за прекрасным и умным молодым человеком, настолько образованным, что он был учителем губернаторских детей, но незадолго до моего возвращения он скончался от чахотки.
Это был первый тяжкий удар моим родителям, особенно матери, который они понесли после письма батюшки отца Макария, писанного им отцом Амвросием с увещанием не препятствовать в моем стремлении стать монахом.
Другие скорби были еще впереди… В эту пору в моей жизни произошел случай, о котором я считаю нужным упомянуть в летописи моей жизни.
В доме родителя моего стоял постоялец, служивший поверенным по комиссионным делам винного откупа, коломенский мещанин Ульян Герасимович Ульянов. Как-то раз собрались мы со своей семьей и Ульянов со своей женой все вместе за обеденным столом в кухне. Во время обеда произошел разговор о воплощении Сына Божия. Ульянов, человек хотя и малообразованный и в особенности мало начитанный в Слове Божием, но вольнодумный, стал издеваться надо мной, над моими задушевными желаниями и, в особенности, над монашеством. По гордости и безумию он, что называется, из кожи вон лез, кощунствуя над верой православной и надо всем, что только было в моем сердце святого. Особенно глумился он над верой в существование диавола и всей его нечистой силы…
– Какие такие бесы, – хохоча говорил он, – и кто их видел? Не любо, не слушай, а лгать не мешай… Экий вздор, какие – бесы! Стыдились бы и говорить о таком вздоре!
– Прочтите Евангелие, – отвечал я ему, – и убедитесь в этой истине: Спаситель не раз в земной Своей жизни исцелял бесноватых, изгонял духов нечистых, как то было с Гадаринским, например, бесноватым, когда Он повелел легиону бесов выйти в стадо свиней…
В ответ на мои речи Ульянов хохотал пуще прежнего и продолжал злобно кощунствовать. Я весь трясся от внутреннего гнева…
– И что такое ваше Евангелие, – не унимался Ульянов, видимо, тешась над моим негодованием, – кто его писал?… Все это – выдумки, вздор, чтобы морочить людей и ездить на их шее попам, архиереям да тунеядцам – монахам…
При этих словах я, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на него, стал просить, чтобы он переменил разговор, но его точно муха какая-то укусила, и он со злым смехом продолжал кощунствовать еще страшнее, еще невыносимее…
Тут сидели мои родители и безмолвствовали. Это меня еще более потрясло, и я, не помня себя от охватившего меня внутреннего пламени, схватил со стола нож, поднял его над своей головой, вскочил со своего места и вне себя от гнева повелительно крикнул кощуннику:
– Или ты должен умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда заставлю замолчать!
Меня трясло, как в лихорадке. Бледный, как полотно, я уже готов был кинуться на Ульянова, но тут родители бросились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь кощунника.
С гневом родители выгнали меня из-за стола… Я подчинился воле родительской, но, уходя из кухни, с великой силой чувства оскорбленного за поруганную святыню крикнул Ульянову:
– За твое неверие меня выгнали из-за стола, но помни, негодяй: ты именуешься христианином и не веришь воплощению Бога-Слова, издеваешься над Евангелием – знай, что это не пройдет тебе даром, и не нынче, так завтра постигнет тебя кара Божия. Едешь ты в уезд и, попомни мои слова, – не вернешься оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяние, да будет поздно: Бог поруган не бывает!
Оптина была школой для российского монашества.
Вспоминая любовь старца Макария, не могу не упомянуть об одном знаменательном помысле, вошедшем мне в сердце, когда я раз пришел к нему в келью пить чай с его келейниками. Самовар еще не ставили. Был жаркий июльский день. Сидя на крыльце кельи, я услышал стук топора за кельей. Я пошел на этот стук и застал келейника, иеродиакона Амвросия, трудящимся до поту за одного больного брата, послушника Василия. Я смотрел на его ревность из любви к больному брату и молился мысленно, чтобы Господь призрел на дело любви и благословил дни его жизни. И в это время я услышал в себе внутренний голос, мне говорящий, ясно произнесший: «Этот отец будет по времени старцем в этой обители вместо отца Макария». Впоследствии помыслу этому суждено было сбыться: иеродиакон Амвросий стал по смерти отца Макария великим Оптинским старцем.
Но ни помыслам, ни благодатным видениям, как бы ни были они знаменательны и вожделенны, старец Макарий не дозволял давать легкомысленной веры.
Однажды, во время описываемого мною пребывания в Оптиной, был со мною такой случай. Заболело у меня горло, сделалась сильная опухоль, и я сильно заболел.
Смерти я не боялся, но мне хотелось еще потрудиться в обители, и так как болезнь грозила принять серьезный оборот, то я сильно упал духом. В скорби духа я заснул и вижу во сне, что я лежу больной, и вот – подходит ко мне Спаситель, как Его пишут на иконах явления Марии Магдалине по Воскресении, – нагой, через плечо покрытый покровом, и говорит мне:
– Феодор, ты нездоров?
– Нездоров, Господи!
Спаситель приблизился ко мне и рукою Своею вскрыл мне грудь, так что я увидел свое сердце и всю мою внутренность…
– Да – нездоров, – сказал Он и, сказавши это, стал ко мне боком, и из ребра Его брызнула на меня фонтаном Кровь и вода; как дождь благодатный, оросили они мне все мои внутренности. Затем Он закрыл мне грудь, еще раз оросил ее Своею Кровью и, сказавши:
– Теперь ты будешь здоров, – стал невидим, а я проснулся.
Опухоли в горле – как не бывало, и я встал с постели совершенно здоровым.
Немедля пошел я в скит к старцу отцу Макарию, чтобы рассказать о дивном видении. Старец выслушал меня со вниманием и обычной ему любовью, и несколько помолчавши, сказал:
– Что ты сделался здоров, за это благодари Господа, но сну этому не верь.
– Как же так, батюшка, не верить-то? Вы сами свидетель, что я был сильно болен, а вот – мгновенно – здоров, – возразил я не без горечи и удивления старцу.
– Слушай меня! – призвал отец Макарий, – если бы и точно, за молитвы святых отец, сон твой был благодатный, то и тогда гораздо для тебя полезнее не верить сну. Веря сну, ты не избегнешь самомнения, а испытай себя, спроси свою совесть: ну, достоин ли ты, чтобы явился к тебе Спаситель?… Положим, что «милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть», но, во всяком случае, недоверие сие не будет служить тебе препятствием ко спасению… Положи себе, что ты женат и имеешь жену, которую ты хотел испытать в верности, для чего ты, отъехав как бы в дальнюю сторону, через несколько дней вернулся бы к жене под искусной маской, под которой тебя невозможно было бы узнать.
Положи, что маска эта красивее тебя и так искусно сделана, что ты в ней другой человек, и ни одна женщина не могла бы в ней тобой не заинтересоваться. Под этим обличьем ты стал бы прельщать свою жену… Скажи мне, был бы ты обижен, если бы жена твоя в ответ на твои обольщения ответила тебе личным оскорблением, соблюдая свою супружескую верность?… Не стал ли бы ты ее еще больше любить и уважать?… Ну, вот видишь – так и ты поступи: от всей души возблагодари Господа за выздоровление, а сну не доверяй, памятуя свое недостоинство и греховность.
Так вразумил меня старец, прозревая во мне зарождающуюся склонность к самообольщению…
Так в жизни монастырского послушания, тихих радостях монашеской жизни, назидаясь примером и речами богомудрых моих наставников и собратий, провел я благополучно 1846 год в стенах великой Оптиной. На небе был я или на земле, не знаю; но – увы! – земля на этот раз в моей жизни оказалась сильнее неба, и для временного пустынножителя назрела неотложная нужда в паспорте. С великой тугой сердечной написал я из Оптиной родителю письмо о высылке паспорта, но в ответ получил угрозу вытребовать меня через полицейское управление.
Сильнее всех в семье восстал против моего монашества брат Феодор, который и всегда-то был, как человек нового духа, враг монахов, и тут пошел на меня прямо-таки войной и подняв бурю против меня на семейном совете.
Батюшка отец Макарий благословил отца Амвросия написать от своего имени моим родителям письмо, чтобы они не препятствовали моему желанию посвятить себя иноческой жизни. В письме этом родители мои предупреждались старцем, что противлением своим сыну на вступление в монашество они могут навлечь на себя гнев Божий и лишиться благословения в делах своих… Письмо было отправлено, но мне что-то не чаялось получить исполнение своего желания. Так и вышло: вскоре пришел за мной игуменский келейник и позвал к отцу игумену.
Когда я вошел в залу, то за столом увидел городничего города Козельска. Хотя городничий мирно попивал игуменский чай, сердце мое обмерло от тяжелого предчувствия… Отец игумен сообщил мне, что родители требуют высылки моей в город Балашов через полицейское управление, городничий к игуменским словам добавил с усмешкой:
– При этапе конвойном.
Я заплакал…
– За что ж по этапу? – возразил отец Моисей, – выдайте ему проходной билет от Козельска до Балашова.
Городничий согласился:
– Конечно, так, – сказал он, – за что же по этапу – он никакого преступления не сделал.
В конце концов мне было вручено проходное свидетельство, и я должен был отправиться на родину.
Поговевши в последний раз в Оптиной, я с великим плачем простился с братией, со старцем отцом Макарием и с отцом игуменом. Великий старец ласково утешал меня и сказал, что рано или поздно, а я все-таки буду монахом, только бы я не вступал в супружество.
– Не плачь, – говорил мне отец Макарий, – не плачь. Уверяю тебя – никогда не отчаивайся в милосердии Божием; оно безгранично. Силен Бог извести тебя из мира, – и ты со временем будешь иноком. Просите и дастся вам… И мы будем за тебя молиться.
Отец игумен, прощаясь со мной, достал из столика положенные туда при моем вступлении два золотые, которые так все время там и лежали, и я, поклонившись старцам и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, пешком отправился на родину.
Отец Родион провожал меня до Свято-Пафнутиевского колодезя.
Так завершился мой побег из родительского дома… Что-то меня ожидало по возвращении под кров родительский?
XXIII
– Ах ты, вшивый! Сколько ты наделал нам скорби и слез матери!..
Такими словами встретил меня родитель, когда я вернулся под кров отчего дома.
В слезах радости свидания после долгой разлуки обнимались мы с отцом, матерью и сестрами. Только в брате моем старшем, Феодоре, радость свидания особенно не была заметна – он больше подсмеивался надо мной и над вынужденным моим возвращением, как бы торжествуя, что не без его усиленного настояния мне не был выслан родителями паспорт. Не злой был он человек, но, прости ему, Господи, сильно зараженный духом времени… Узнавши о моем возвращении, к нам набрался полный дом родных и знакомых: кто просто хотел видеть беглеца и порадоваться вместе с родителями его возвращению, а кто явился меня защищать от предполагаемого гнева родительского. Но в родительском сердце не было гнева – радость встречи после двухлетней скорби заставила их все забыть, и я вновь вступил в семейную жизнь в полном повиновении и покорности воле родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще продолжал держать водяную мельницу и вести торговлю церковными свечами. Брат Феодор служил по откупам, сестра Екатерина без меня была выдана замуж. Года полтора жила она в замужестве за прекрасным и умным молодым человеком, настолько образованным, что он был учителем губернаторских детей, но незадолго до моего возвращения он скончался от чахотки.
Это был первый тяжкий удар моим родителям, особенно матери, который они понесли после письма батюшки отца Макария, писанного им отцом Амвросием с увещанием не препятствовать в моем стремлении стать монахом.
Другие скорби были еще впереди… В эту пору в моей жизни произошел случай, о котором я считаю нужным упомянуть в летописи моей жизни.
В доме родителя моего стоял постоялец, служивший поверенным по комиссионным делам винного откупа, коломенский мещанин Ульян Герасимович Ульянов. Как-то раз собрались мы со своей семьей и Ульянов со своей женой все вместе за обеденным столом в кухне. Во время обеда произошел разговор о воплощении Сына Божия. Ульянов, человек хотя и малообразованный и в особенности мало начитанный в Слове Божием, но вольнодумный, стал издеваться надо мной, над моими задушевными желаниями и, в особенности, над монашеством. По гордости и безумию он, что называется, из кожи вон лез, кощунствуя над верой православной и надо всем, что только было в моем сердце святого. Особенно глумился он над верой в существование диавола и всей его нечистой силы…
– Какие такие бесы, – хохоча говорил он, – и кто их видел? Не любо, не слушай, а лгать не мешай… Экий вздор, какие – бесы! Стыдились бы и говорить о таком вздоре!
– Прочтите Евангелие, – отвечал я ему, – и убедитесь в этой истине: Спаситель не раз в земной Своей жизни исцелял бесноватых, изгонял духов нечистых, как то было с Гадаринским, например, бесноватым, когда Он повелел легиону бесов выйти в стадо свиней…
В ответ на мои речи Ульянов хохотал пуще прежнего и продолжал злобно кощунствовать. Я весь трясся от внутреннего гнева…
– И что такое ваше Евангелие, – не унимался Ульянов, видимо, тешась над моим негодованием, – кто его писал?… Все это – выдумки, вздор, чтобы морочить людей и ездить на их шее попам, архиереям да тунеядцам – монахам…
При этих словах я, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на него, стал просить, чтобы он переменил разговор, но его точно муха какая-то укусила, и он со злым смехом продолжал кощунствовать еще страшнее, еще невыносимее…
Тут сидели мои родители и безмолвствовали. Это меня еще более потрясло, и я, не помня себя от охватившего меня внутреннего пламени, схватил со стола нож, поднял его над своей головой, вскочил со своего места и вне себя от гнева повелительно крикнул кощуннику:
– Или ты должен умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда заставлю замолчать!
Меня трясло, как в лихорадке. Бледный, как полотно, я уже готов был кинуться на Ульянова, но тут родители бросились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь кощунника.
С гневом родители выгнали меня из-за стола… Я подчинился воле родительской, но, уходя из кухни, с великой силой чувства оскорбленного за поруганную святыню крикнул Ульянову:
– За твое неверие меня выгнали из-за стола, но помни, негодяй: ты именуешься христианином и не веришь воплощению Бога-Слова, издеваешься над Евангелием – знай, что это не пройдет тебе даром, и не нынче, так завтра постигнет тебя кара Божия. Едешь ты в уезд и, попомни мои слова, – не вернешься оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяние, да будет поздно: Бог поруган не бывает!