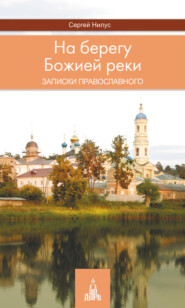По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сила Божия и немощь человеческая
Жанр
Серия
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Из Калуги.
– Что ж, родственники у тебя, что ль, здесь есть?…
– Нет, батюшка, ровно никого – ни родственников, ни знакомых…
И с этими словами я заплакал… Старичок-монах с любовью и необыкновенно теплым участием опять обратился ко мне с вопросом:
– Что, аль к нам в обитель послужить пришел?
– Да, батюшка, – ответил я, – желаю быть монахом… Где, скажите мне, найти тут старца отца Макария – я про него слыхал в Сергиевой лавре?
– О, любезный мой! Так иди ж к нему скорее, а то кабы в скиту не заперли ворота.
И добрый старец проводил меня до самого скита и, прощаясь со мной у калитки, ласково сказал мне:
– Ну, теперь иди с Богом! Мне ведь все странники родные: я сам, брат, по-твоему, много прошел… Ну, ступай, иди с Богом. Мир тебе!
XIX
В те времена, когда со мной совершились эти события моей жизни, скитский лес был куда гуще и величественнее, чем теперь, и в вечном полусумраке его святой тайны Божьего девственного создания, догорающий день быстро сменялся мраком ночи, и ночная тень ложилась плотнее и гуще, чем на просторе обширного Оптинского монастырского двора. Дивно красив был в это время скитский лес, когда в благоговейном трепете подходил я со своим путеводителем к святым воротам, скрывавшим за собой, казалось мне, истинных небожителей, временно и только для назидания людям сошедших с горнего неба на грешную землю… Вспомнил я по дороге, что отец Герасим, прощаясь со мной в Сергиевой лавре, сказал:
– А ты постарайся найти, как придешь в Оптину, в скиту двух рясофорных монахов, отца с сыном – они ваши, саратовские. Зовут отца Никитой, а сына Родионом: они, наверное, тебе будут ближе других.
И вот, идя дорожкой по лесу в скит, я и думал: ах, если бы мне найти своих земляков – все бы было лучше…
Когда ушел мой старец-путеводитель, еще не входя в святые ворота, я бросился на колени перед изображениями святых отцов на стенах святого входа и слезно им помолился, чтобы они меня приняли в скитскую братию, и затем трепетно переступил порог скита, осенив себя крестным знамением… Меня сразу обдал густой, чудный запах резеды и всей благовонной роскоши скитских цветов на заре догоревшего знойного летнего дня… Прямо передо мною, пересекая мне дорогу, смотрю, идут два инока… В скитском храме зазвонили во все колокола…
Я поклонился инокам в землю…
– Откуда, брат?
Я назвал свою родину. Иноки переглянулись между собой…
– Не знаете ли, – спросил я, – где мне здесь найти двух монахов, отца с сыном из Саратовской губернии, по фамилии, кажется, Пономаревых?
– А что ж, они родственники тебе, что ли?
– Нет, – говорю, – не родственники, а как у меня здесь никого нет, то я и ищу хоть земляков.
– Ну, и слава Богу говори: твои земляки с тобой-то и разговаривают – я отец, а это – мой сын…
При этом они мне дали братское целование. Это были Никита и Родион Пономаревы, в монашестве Нифонт и Илларион. Сильно обрадовался я этой встрече, в которой не мог, конечно, не усмотреть промыслительного о мне, грешном, Божьего смотрения. Скит мне сразу сделался родным.
– А где мне увидать старца Макария? – спросил я земляков.
– Пойдем в церковь, – предложил отец Илларион, – он там, и я тебя подведу к нему под благословение.
Батюшку Макария мы действительно застали на молитве в церкви. Шло бдение.
Доложили ему обо мне:
– Какой-то странник, батюшка, вас спрашивает. Желает вас видеть и сказывает, что он наш с отцом земляк, – доложил старцу отец Илларион.
Надо сказать, что Пономаревым я при встрече не успел ничего другого объяснить, кроме того, что я ихний земляк: ни имени моего, ни фамилии они не знали, да и во всей Оптиной меня никто знать не мог.
– Где он? – спросил старец.
– Стоит у церкви.
– Приведи его ко мне.
…Отец Илларион ввел меня в церковь и подвел к старцу. С замирающим от волнения сердцем я упал ему в ноги, а когда встал, старец, благословляя меня, сказал:
– Э, да это, знать, Федор!.. Дивное прозрение…
– Откуда ты сегодня пришел?
– Прямо из Калуги, – ответил я, вне себя от изумленной радости, представ перед дивным старцем.
– Так веди ж его скорей в трапезу, – сказал батюшка отцу Иллариону, – да скажи повару, чтобы он хорошенько, чем Бог послал, его накормил… Да, ты уж после ужина-то не ходи ко бдению, – обратился ко мне старец, – ложись спать, а то ты устал, голодный!
Правду сказать, и голоден я был, да и было мне с чего устать, пройдя за день более шестидесяти верст.
В трапезе меня накормили досыта. Смотрю, отец Илларион тащит мне подушку…
– Это мне к чему ж? Я еще хочу пойти ко бдению, – сказал я отцу Иллариону.
– Старец не благословил, а велел спать ложиться, – возразил отец Илларион.
Пришлось умерить свое усердие. Ложась спать, я попросил отца Иллариона побудить меня к обедне и… заснул сном крепчайшим. Это была первая моя ночь в Оптинском скиту. Ни снов, ни видений: как лег, так и заснул беспробудно до следующего утра.
XX
Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тот же инок пришел в трапезную и разбудил меня. Был уже восьмой час утра.
– Ну, земляк, – сказал он мне, – батюшка отец Макарий прислал за тобой, чтобы шел к нему в келью чай пить.
– А как же обедня-то?
– Обедня? Обедня-то уж отошла, и батюшка за тобой послал, придя от обедни. Я у батюшки келейником, и будить тебя к обедне он меня не благословил. Не скорби о том, что проспал обедню – это так старцу было угодно, и послушание паче поста и молитвы. Вот завтра, живы будем и Господу будет угодно, разбудят тебя в два часа, тогда вставай, только не ленись!
При этих словах мы подошли к келье старца, отец Илларион мне сказал:
– А как взойдешь к старцу, будь посмелей и говори ему все откровенно, как отцу, да взойдя помолись и потом поклонись старцу до земли – такое у нас чиноположение.
А я не только готов был кланяться, но и ноги целовать старцу и землю, на которой следы стоп были его…
Когда мы взошли в прихожую старцевой кельи, батюшка отец Макарий сидел в белом холщовом балахончике с четками в руках. Встретил меня старец весьма ласково. Я поклонился земным поклоном, и он, благословив меня, с ангельской улыбкой сказал мне:
– Что ж, родственники у тебя, что ль, здесь есть?…
– Нет, батюшка, ровно никого – ни родственников, ни знакомых…
И с этими словами я заплакал… Старичок-монах с любовью и необыкновенно теплым участием опять обратился ко мне с вопросом:
– Что, аль к нам в обитель послужить пришел?
– Да, батюшка, – ответил я, – желаю быть монахом… Где, скажите мне, найти тут старца отца Макария – я про него слыхал в Сергиевой лавре?
– О, любезный мой! Так иди ж к нему скорее, а то кабы в скиту не заперли ворота.
И добрый старец проводил меня до самого скита и, прощаясь со мной у калитки, ласково сказал мне:
– Ну, теперь иди с Богом! Мне ведь все странники родные: я сам, брат, по-твоему, много прошел… Ну, ступай, иди с Богом. Мир тебе!
XIX
В те времена, когда со мной совершились эти события моей жизни, скитский лес был куда гуще и величественнее, чем теперь, и в вечном полусумраке его святой тайны Божьего девственного создания, догорающий день быстро сменялся мраком ночи, и ночная тень ложилась плотнее и гуще, чем на просторе обширного Оптинского монастырского двора. Дивно красив был в это время скитский лес, когда в благоговейном трепете подходил я со своим путеводителем к святым воротам, скрывавшим за собой, казалось мне, истинных небожителей, временно и только для назидания людям сошедших с горнего неба на грешную землю… Вспомнил я по дороге, что отец Герасим, прощаясь со мной в Сергиевой лавре, сказал:
– А ты постарайся найти, как придешь в Оптину, в скиту двух рясофорных монахов, отца с сыном – они ваши, саратовские. Зовут отца Никитой, а сына Родионом: они, наверное, тебе будут ближе других.
И вот, идя дорожкой по лесу в скит, я и думал: ах, если бы мне найти своих земляков – все бы было лучше…
Когда ушел мой старец-путеводитель, еще не входя в святые ворота, я бросился на колени перед изображениями святых отцов на стенах святого входа и слезно им помолился, чтобы они меня приняли в скитскую братию, и затем трепетно переступил порог скита, осенив себя крестным знамением… Меня сразу обдал густой, чудный запах резеды и всей благовонной роскоши скитских цветов на заре догоревшего знойного летнего дня… Прямо передо мною, пересекая мне дорогу, смотрю, идут два инока… В скитском храме зазвонили во все колокола…
Я поклонился инокам в землю…
– Откуда, брат?
Я назвал свою родину. Иноки переглянулись между собой…
– Не знаете ли, – спросил я, – где мне здесь найти двух монахов, отца с сыном из Саратовской губернии, по фамилии, кажется, Пономаревых?
– А что ж, они родственники тебе, что ли?
– Нет, – говорю, – не родственники, а как у меня здесь никого нет, то я и ищу хоть земляков.
– Ну, и слава Богу говори: твои земляки с тобой-то и разговаривают – я отец, а это – мой сын…
При этом они мне дали братское целование. Это были Никита и Родион Пономаревы, в монашестве Нифонт и Илларион. Сильно обрадовался я этой встрече, в которой не мог, конечно, не усмотреть промыслительного о мне, грешном, Божьего смотрения. Скит мне сразу сделался родным.
– А где мне увидать старца Макария? – спросил я земляков.
– Пойдем в церковь, – предложил отец Илларион, – он там, и я тебя подведу к нему под благословение.
Батюшку Макария мы действительно застали на молитве в церкви. Шло бдение.
Доложили ему обо мне:
– Какой-то странник, батюшка, вас спрашивает. Желает вас видеть и сказывает, что он наш с отцом земляк, – доложил старцу отец Илларион.
Надо сказать, что Пономаревым я при встрече не успел ничего другого объяснить, кроме того, что я ихний земляк: ни имени моего, ни фамилии они не знали, да и во всей Оптиной меня никто знать не мог.
– Где он? – спросил старец.
– Стоит у церкви.
– Приведи его ко мне.
…Отец Илларион ввел меня в церковь и подвел к старцу. С замирающим от волнения сердцем я упал ему в ноги, а когда встал, старец, благословляя меня, сказал:
– Э, да это, знать, Федор!.. Дивное прозрение…
– Откуда ты сегодня пришел?
– Прямо из Калуги, – ответил я, вне себя от изумленной радости, представ перед дивным старцем.
– Так веди ж его скорей в трапезу, – сказал батюшка отцу Иллариону, – да скажи повару, чтобы он хорошенько, чем Бог послал, его накормил… Да, ты уж после ужина-то не ходи ко бдению, – обратился ко мне старец, – ложись спать, а то ты устал, голодный!
Правду сказать, и голоден я был, да и было мне с чего устать, пройдя за день более шестидесяти верст.
В трапезе меня накормили досыта. Смотрю, отец Илларион тащит мне подушку…
– Это мне к чему ж? Я еще хочу пойти ко бдению, – сказал я отцу Иллариону.
– Старец не благословил, а велел спать ложиться, – возразил отец Илларион.
Пришлось умерить свое усердие. Ложась спать, я попросил отца Иллариона побудить меня к обедне и… заснул сном крепчайшим. Это была первая моя ночь в Оптинском скиту. Ни снов, ни видений: как лег, так и заснул беспробудно до следующего утра.
XX
Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тот же инок пришел в трапезную и разбудил меня. Был уже восьмой час утра.
– Ну, земляк, – сказал он мне, – батюшка отец Макарий прислал за тобой, чтобы шел к нему в келью чай пить.
– А как же обедня-то?
– Обедня? Обедня-то уж отошла, и батюшка за тобой послал, придя от обедни. Я у батюшки келейником, и будить тебя к обедне он меня не благословил. Не скорби о том, что проспал обедню – это так старцу было угодно, и послушание паче поста и молитвы. Вот завтра, живы будем и Господу будет угодно, разбудят тебя в два часа, тогда вставай, только не ленись!
При этих словах мы подошли к келье старца, отец Илларион мне сказал:
– А как взойдешь к старцу, будь посмелей и говори ему все откровенно, как отцу, да взойдя помолись и потом поклонись старцу до земли – такое у нас чиноположение.
А я не только готов был кланяться, но и ноги целовать старцу и землю, на которой следы стоп были его…
Когда мы взошли в прихожую старцевой кельи, батюшка отец Макарий сидел в белом холщовом балахончике с четками в руках. Встретил меня старец весьма ласково. Я поклонился земным поклоном, и он, благословив меня, с ангельской улыбкой сказал мне: