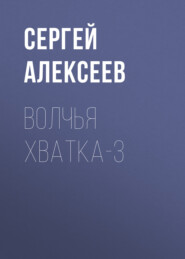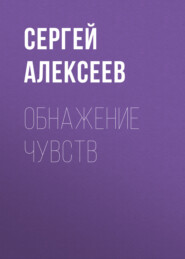По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чудские копи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Явная подстава… Документы есть?
– Никаких документов. И лет ему – четырнадцать!
Глеб рассмеялся теперь искренне.
– И откуда же взялся такой взрослый племянничек, Верона? Что мама-то говорит?
– Молчит она! Увиливает… Приехал бы и сам выяснил!
– Верона, а у нее с головой все в порядке?
– Не пойму, Глеб! – Сестра готова была расплакаться, чего давно уже не делала перед братом. – Вроде бы в уме, но ведет себя…
– Как?
– Скрывает что-то! У нее новая гребенка появилась откуда-то… Красивая, заколешь волосы – венчик получается, корона такая… Представляешь, золотая и вроде старинная!
– А у тебя с головкой как, сестрица?
– Сам ты больной!.. Причем гребенка из червонного золота!
Балащук встряхнулся, ощущая некий мистический озноб.
– И как все это мама объясняет?
– Темнит! Купила, говорит, цыгане продавали. От сглаза помогает. Ты у нас психолог, приезжай и посмотри, послушай. Может, ее и в самом деле за рубеж свозить, полечить в нормальной клинике?
– Да это как раз не проблема… Но ты попробуй, уговори! Комсомолка еще та…
– Теперь она какую-то мистику гонит! Книжек начиталась, что ли…
– Это и раньше было. То у нее из телевизора кровь течет…
– Она вообще сильно изменилась, – со слезой в голосе заключила Вероника. – Задумчивая и радуется чему-то… И знаешь, стала какая-то чужая, холодная. Конечно, сидит одна, тоскует… А этот подлец нынче не хочет везти Ульянку!.. Вот мама и отыскала себе внука…
Подлецом был ее бывший муж Казанцев, а Ульянка – их дочерью.
– Утром заеду, – пообещал он, на всякий случай не желая выдавать свое местонахождение. – Сегодня никак не могу.
И подумал – сейчас еще попросит пожертвовать на богоугодное дело. Она всегда так просила: сначала на жалость надавит, какую-нибудь проблему придумает, а потом обязательно скажет:
– Ты давно на храм денег не давал! А отец Илларион за тебя молится!
– И денег я тебе завезу, – не дожидаясь просьбы, сказал он.
– Мне не надо твоих денег! – вдруг взвизгнула сестра и бросила трубку.
Комсомольская закваска у матери проявлялась всю жизнь в виде подчеркнутой независимости и к старости все больше приобретала оттенок обыкновенного самодурства. Ее любовь к внучке однажды вылилась в скандал и ощутимые потери в бизнесе. Два года назад Казанцев привез ей Ульянку и, соответственно, охранника с конкретным заданием коммерческого шпионажа. Веселый, обходительный и говорливый, он заболтал доверчивую матушку и сначала вытянул из нее все, что Глеб роком или ненароком ей рассказывал о своих делах. И это ладно бы, ничего там особенного конкурент для себя не открыл, так, мелочи. Но в тайнике, устроенном в мастерской, Балащук хранил важные архивные документы двойной бухгалтерии компании, в частности, неофициальные финансовые отчеты подразделений. Телохранитель племянницы отпускал бабушку с внучкой в лес погулять, якобы нарушая инструкции Казанцева, а сам тем временем проводил тщательный обыск, и в результате на тайник наткнулся. Трогать ничего не стал, скопировал содержимое папок и передал своему шефу, а тот уже в налоговую. Только усилиями своей влиятельной команды уголовное дело удалось прекратить, но компанию все равно поставили на конкретные деньги. С тех пор Глеб ничего уже в материнском доме не прятал и ничего о своей работе не рассказывал.
Однажды в юности Глеб попал за решетку – милиция делала ночные облавы на подростков, а потом вызывала родителей и воспитывала. И вот, сидя в «телевизоре», он увидел маму сквозь прутья арматуры, вернее – только ее глаза на бледном, изможденном лице и содрогнулся. Показалось, в них столько боли, что она сейчас умрет! Забывшись, в каком-то исступлении, он потряс решетку и закричал:
– Мама! Не умирай! Я больше никогда не попаду в тюрьму!
А пацаны-сокамерники захохотали, иные вообще покатились со смеху, поскольку его вопль был расценен как слабость и унижение. Еще кто-то в спину пихнул и еще пнул в зад, как пинают опущенных…
Мама же тогда даже не ругала и не наказывала его, и потом, уже дома, сказала, чтоб он не зарекался от тюрьмы и сумы.
Эти ее глаза с мучительной, предсмертной болью вставали перед взором всякий раз, когда он попадал в какую-нибудь неприятную историю либо чуял приближение опасности. Но сейчас вроде бы ничего подобного не ожидалось, к тому же сразу после звонка сестры служба безопасности доложила, что хранитель музея сам остался в помещении, заперся изнутри и теперь ходит по залам как привидение с геологическим молотком в руках. Никто на подмогу к нему не пришел, баррикад не строил, да и вообще кругом все тихо. Бойцы ЧОПа незаметно сосредоточились в пустующем здании, стоявшем во дворе музея, и только ждут команды к штурму.
Машина с Шутовым и Аланом догнала только под Шерегешем, и Балащук, внезапно ощутив приступ раздражения, стал отчитывать не водителя – своих гостей. Писатель только пучил на него глаза навыкате и багровел, а бард мечтательно поглядывал на вершину Мустага. Предупрежденный управляющий уже включил канатку и ждал шефа, чтобы подсадить в кресло, однако Глеб оттолкнул его, сел сам и в одиночку, хотя обычно брал с собой Веню Шутова, чтобы за пятнадцать минут подъема обсудить текущие дела и более к ним не возвращаться. Ни писатель, ни бард не были законченными холуями, иногда могли проявить характер, особенно мечтательный Алан, и Балащук вдруг испугался, что они сейчас повернут назад и уедут, оставив его одного. Поэтому через некоторое время обернулся и крикнул:
– Ладно, мужики, простите!..
Гости пропустили несколько кресел и все-таки сели, тоже поодиночке. Никто из них не отозвался, разве что бард расчехлил гитару, принялся настраивать, но и этого уже было достаточно.
Мустаг манил и сейчас. Может, потому, что в долине уже было темно, а Курган с линзами снега еще сиял от последних отсветов зашедшего солнца и отчетливо просматривался блестящий крест.
4
Не собирался Опрята идти встречь солнцу далее Вятки-реки и города Хлынова. Мыслил взять должок с хлыновских разбойных людей за потопленные на Ярани ушкуи с добычей и устроить спрос с Весёлки, что сидел в лесах на Вое. Весть пришла, будто не ордынцев грабит, а тайно спутался с ними и теперь по чужой воле притесняет и честных ушкуйников, и хлыновцев. В общем, порядок на Вятке учинить, и к зиме, малым числом, Лузой, Двиной и далее пешим ходом – то есть иным путем, дабы не скараулили на Сухоне супостаты, возвратиться обратно, в Новгород.
Только на следующий год, поправив дела и укрепившись на лесной Вятке, думал он отправиться набегом на Орду, когда сами ордынцы по весне уйдут воевать земли в стороне полуденной и оставят на поживу добычу легкую – жен своих, детишек малых и добро, награбленное и свезенное в Сарай со многих покоренных земель. Воевода ушкуйников имел тайный уговор с новгородским князем по поводу сего похода. Ежели набег удастся, князь ему все недоимки простит и впредь еще три лета десятины брать не станет от добычи и от ватажных людей. И посему Опрята замыслил прежде изготовиться, скопить силы на Вятке-реке, и оттуда уже, дабы все подозрения ордынцев отвести от Новгорода, пойти и позорить Орду.
Стражу ордынцы оставляли не великую, ибо хоть и были умом проницательны и хитры, да уж никак не ждали столь дерзкого набега, полагая, что усмиренная и подданная Русь долго теперь не залижет раны. Этим их заблуждением и намеревался воспользоваться лихой боярин Опрята и до поры замыслы свои держал в великой тайне.
Накануне же вполне безопасного похода к Хлынову, когда ватага из полутысячи ярых и отважных ушкуйников была уже собрана и ушкуи стояли на высокой, полой воде, явился к Опряте новгородский купец Анисий Баловень. В молодости он тоже промышлял ушкуйным ремеслом, ходил и по Оке, Каме и Волге, да в одной из стычек с мордвой получил увечье, лишившись правого глаза. И стало ему несподручно ни из лука стрелять, ни рогатину держать, ни на гребях сидеть, ибо пустая глазница кровоточила. Но иные говорили, дескать, это он сам выколол себе око, дабы от ватаги своей отстать и заняться скупкой добычи, привозимой другими ушкуйниками из походов. Опрята и сам продавал Анисию мягкую рухлядь, сукно и кое-какое серебро, если удавалось добыть, – иного добра Баловень не брал.
Так вот пришел купец с подарком и угощением: харлужный засапожник принес, коим бриться можно, и малый бочонок греческого вина. Сначала в угол встал, помолился, ибо, купечеством промышляя, набожный стал, затем и говорит:
– Прими от меня в дар, боярин! От моего чистого сердца и с промыслами благими.
Можно сказать, чести удостоил, однако Опрята знал, что Анисий без нужды в гости не ходит и даров не приносит – знать, есть у него дело какое-то. Говорили, ежели он прознает, какая ватага и куда нацелилась, и ежели есть у него интерес, заранее тайный договор с воеводой учиняет, и, мол, бывает, даже подсобит в дорогу снарядить. С одной стороны, добро, привез добычу и отдал, но с другой, он своим интересом руки вязал и волю сковывал: искать-то приходится того, чего Анисий хочет.
Опрята дары оценил, особенно по нраву пришелся засапожник – и не оттого, что рукоять и ножны искусным серебряным узорочьем отделаны. Дабы своих истинных образов в чужих землях не выказывать, друг друга в схватках узнавать да и вшей не заводить на долгих, суровых путях, ушкуйники бороды и головы обривали, оставляя лишь усы. На обратной же дороге вновь отращивали и возвращались, какими уходили. А для бритья не всякий харлужный нож годился. Лезвием купеческого дара Опрята руку свою мохнатую разок и слегка скребанул, волос даже без треска посыпался…
Принял дары, из бочонка по кубку вина налил.
– Слышал, ты, боярин, на Вятку изготовился?
В ушкуйном братстве было принято таить свои промыслы, и тем паче, пути, по коим ходят. Часто большая часть ватаги и не ведала, куда поведут, через какие земли и какова добыча ожидается; знали все лишь те ватажники, кто входил в поручный круг, а это три-четыре верных человека, повязанных близким родством, и выпытывать у них что-либо не полагалось, тем более сторонним людям. Однако Анисию да еще некоторым купцам, у которых на всю жизнь руки в мозолях были от ушкуйных весел, подобное дозволялось.
– Думаю сбегать в одно лето, – уклончиво отозвался Опрята. – Плечи да ноги размять. Залежался зимой на печи…
Выдавать купцу истинную причину похода он не собирался, хотя тот мог прознать, что воевода прошлогоднюю свою ватагу всю на Вятке зимовать оставил и в Новгород приходил, дабы новую набрать и туда же повести: чтоб орду позорить, немалая сила требовалась, и прежде ее следовало незаметно скопить в одном месте.
Баловень тоже пока что таился, не выдавал намерений и пытался показать, что ему много чего про походы Опряты известно.
– Сказывают, хлыновцы тебе урон причинили, ушкуи с добычей потопили?