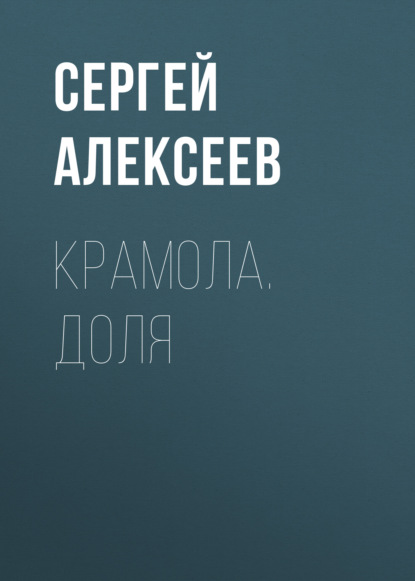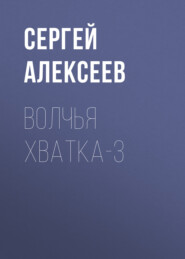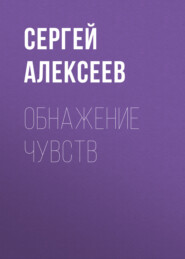По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крамола. Доля
Серия
Год написания книги
1991
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ни за что.
– Все вы ни за что!
– Они в могилах, – несмело вставил часовой и тут же поправился: – Давно похоронены. На погосте.
Военный стрельнул прищуренным глазом в его сторону, сказал, добрея и теряя интерес:
– Тут не музей и не проходной двор. Учреждение… Идите-ка домой.
Мать Мелитина подняла глаза к иконе, перекрестившись, попросила:
– Прости его, Господи…
Военный машинально проследил за ее взглядом, качнулся на носках – скрипнули ухоженные сапоги.
– А вербу дай, – вдруг сказал он. – Так и быть, положу… Кому только? Фамилии?
– Нет у них фамилий, – сказала мать Мелитина. – Только имена. Александр и Даниил. Рядом лежат.
– Ладно… – Он помедлил. – А твоя как фамилия?
– И у меня ее нет, – проронила мать Мелитина. – Без нужды нам фамилия.
– Документы-то есть? Ну-ка предъяви! – посуровел военный.
Мать Мелитина неторопливо достала выданную в Туруханске бумагу, где говорилось об отбытии ссылки и направлении на жительство под Барабинск. Военный кашлянул и усмехнулся:
– Говоришь – нету… Березина твоя фамилия, Любовь Прокопьевна. Или отвыкла от своей фамилии в монастырях-то?
Он уже совсем подобрел, ему хотелось шутить и, может быть, как-то развеселиться, коротая воскресное дежурство.
– Отвыкла, – призналась мать Мелитина.
– А теперь привыкай, хватит. Женщина ты еще не старая, можно и замуж пойти. Чего ходить в божьих невестах-то, когда эвон сколь мужиков кругом!
Она стерпела. Прошка Грех теребил ее за полу, шептал, бормотал:
– Пускают? Али нет? Али мне его палкой, палкой…
– Березина? – неожиданно повторил стрелок и вытянул шею. – Товарищ Голев! А?..
Военный не услышал его. Стрелок, часто поправляя очки, таращился на мать Мелитину и хотел что-то спросить.
– Дозвольте икону вымыть, – попросила мать Мелитина. – Или обтереть бы. Вспомните матерей своих. И Божью уважьте.
Военный глянул вверх и чуть не сронил фуражку с головы.
– Высоко… Загремишь еще оттуда. Ты иди, тебе еще далеко топать, в Барабинск-то. А за икону не волнуйся. Я вот стрелка заставлю, он и вымоет. И то верно, в порядке надо содержать. Иди, Любовь Прокопьевна.
Он никак не хотел замечать Прошку Греха, словно его не существовало уже на этом свете. Мать Мелитина подхватила отца на руки, поклонилась иконе и пошла не оглядываясь. Военные у монастырских ворот смотрели ей в спину, и было в их взглядах нечто высокое и всесильное.
А Прошка Грех сердился и щипал твердыми пальцами дочернее плечо:
– Плохо сказывала, вот и не пустили. Мягкая ты у меня, кисель, а не девка. С ними круто надобно бы…
Она терпела, пока монастырь вместе с холмом и рекой не скрылся за лесом. Потом руки ее ослабли. Опустив Прошку на землю, мать Мелитина села подле него и собралась в комок.
– Что же мне делать, тятенька? – тихо спросила она, и голос наполнился отчаянием. – Что делать мне, коль человек последним на земле родился? Последним! После зверей, после птиц… И даже после травы… Что же спросить с него?! Ведь он же, как дитя, не ведает, что творит…
* * *
Проводив очередных паломников, начкар Голев встал перед воротами и долго смотрел вверх, на икону. Фуражку он предусмотрительно снял; бритая по-модному голова, крупные, породистые черты лица и благородная осанка делали начкара похожим на римского патриция. Часовой как умел держал стойку «смирно» и ждал выговора, однако Голев медлил, хотя по всему было видно, что действиями стрелка он недоволен.
Обгаженная вороньем надвратная икона притягивала взгляд, приковывала воображение. Начкар Голев надел фуражку, оглядел стрелка и похлопал букетом вербы по голенищу сапога.
– Та-ак… Ты сколько служишь, Деревнин?
– Девять месяцев, – отчеканил стрелок, предчувствуя наказание.
– За такой срок баба зачать успевает и родить! – наставительно сказал начкар. – Человека произвести!.. А я из тебя стрелка не могу сделать. Сторожа у ворот. Как ты считаешь – почему?
– Не знаю, товарищ начкар…
– А я знаю. – Голев улыбнулся и заложил руки за спину. – Потому что не наказываю. Все стараюсь через сознание, через соображение воспитать. А вы на четырнадцатом году Советской власти никак того не можете уразуметь. И добротой моей пользуетесь.
– Исправлюсь, Сидор Филиппыч! – заверил Деревнин.
Однако тот махнул рукой:
– Горбатого могила исправит… Кто это вербу туда затащил?
Стрелок глянул на икону и тут же признался:
– Я, товарищ начкар. По недоразумению! Убрать?
– Ладно, пускай торчит. – Голев вздохнул и не спеша скрылся за калиткой.
Деревнин перевел дух и расслабленно обвис, оперевшись на винтовку. Он побаивался начальника караула, как, впрочем, и другие стрелки охраны, но боязнь эта была особой, замешенной на уважении и какой-то таинственной непредсказуемости характера начкара. В Есаульске Голев появился всего год назад, когда организовался лагерь. Видно было, что он старый служака, много повидавший и везде побывавший; через месяц он уже поселился на квартире у Зинаиды Солоповой, молодой и веселой женщины, овдовевшей в гражданскую, а спустя еще месяц уже гулял с ней под ручку по деревянным тротуарам. Однако никто, в том числе и Зинаида, не знал, откуда он явился и надолго ли. Присматриваясь к своему начальнику, Деревнин угадывал за ним тайну, тщательно скрываемую даже от начальника лагеря. Скорее всего Голев когда-то занимал высокие должности, даже выше, чем начлаг, но тут служил в караулке, командовал двумя десятками стрелков и, кажется, был очень доволен. Создавалось ощущение, будто он прибыл в Есаульск на отдых от каких-то своих трудных дел и служба ему тут в радость и развлечение. Отдохнет, погуляет с вдовушкой и скоро уедет на свою главную и тяжкую службу, знать о которой никому не положено. Деревнину самому приходилось кое-что скрывать из своей биографии и своих взглядов, поэтому он чувствовал скрытность других и непроизвольно защищался от них: если видит он, значит, видят и другие… А Голев наверняка предугадывал, подозревал Деревнина, поэтому частенько прощупывал его оброненными невзначай вопросами о прошлой жизни, и приходилось бдеть ежесекундно, чтобы не взяли врасплох.
Через несколько минут начкар вернулся с лестницей, неторопливо приставил ее к карнизу ворот, проверил, хорошо ли стоит, для надежности подпер камнями.
– Икону мыть? – с готовностью спросил Деревнин.
– Лезь! – приказал Голев. – Ведро принесу.
Стрелок прислонил винтовку к стене, но, спохватившись, закинул оружие за спину, полез вверх. Коснувшись иконы, он воровато перекрестился и стал поджидать начкара. По монастырскому двору, построившись в затылок друг другу, бродили заключенные. Они ходили по кругу возле бараков набитой и побелевшей на солнце тропой, щурились на меркнущий закат, тоскливо озирались по сторонам и казались похожими, как братья. Заглядевшись на этот хоровод, Деревнин не заметил, как под лестницей оказался Голев с ведром и кистью. В ведре белела густая, будто сметана, известь.
– Забеливай! – велел начкар. – Да аккуратней смотри, на ворота не брызгай.
– Все вы ни за что!
– Они в могилах, – несмело вставил часовой и тут же поправился: – Давно похоронены. На погосте.
Военный стрельнул прищуренным глазом в его сторону, сказал, добрея и теряя интерес:
– Тут не музей и не проходной двор. Учреждение… Идите-ка домой.
Мать Мелитина подняла глаза к иконе, перекрестившись, попросила:
– Прости его, Господи…
Военный машинально проследил за ее взглядом, качнулся на носках – скрипнули ухоженные сапоги.
– А вербу дай, – вдруг сказал он. – Так и быть, положу… Кому только? Фамилии?
– Нет у них фамилий, – сказала мать Мелитина. – Только имена. Александр и Даниил. Рядом лежат.
– Ладно… – Он помедлил. – А твоя как фамилия?
– И у меня ее нет, – проронила мать Мелитина. – Без нужды нам фамилия.
– Документы-то есть? Ну-ка предъяви! – посуровел военный.
Мать Мелитина неторопливо достала выданную в Туруханске бумагу, где говорилось об отбытии ссылки и направлении на жительство под Барабинск. Военный кашлянул и усмехнулся:
– Говоришь – нету… Березина твоя фамилия, Любовь Прокопьевна. Или отвыкла от своей фамилии в монастырях-то?
Он уже совсем подобрел, ему хотелось шутить и, может быть, как-то развеселиться, коротая воскресное дежурство.
– Отвыкла, – призналась мать Мелитина.
– А теперь привыкай, хватит. Женщина ты еще не старая, можно и замуж пойти. Чего ходить в божьих невестах-то, когда эвон сколь мужиков кругом!
Она стерпела. Прошка Грех теребил ее за полу, шептал, бормотал:
– Пускают? Али нет? Али мне его палкой, палкой…
– Березина? – неожиданно повторил стрелок и вытянул шею. – Товарищ Голев! А?..
Военный не услышал его. Стрелок, часто поправляя очки, таращился на мать Мелитину и хотел что-то спросить.
– Дозвольте икону вымыть, – попросила мать Мелитина. – Или обтереть бы. Вспомните матерей своих. И Божью уважьте.
Военный глянул вверх и чуть не сронил фуражку с головы.
– Высоко… Загремишь еще оттуда. Ты иди, тебе еще далеко топать, в Барабинск-то. А за икону не волнуйся. Я вот стрелка заставлю, он и вымоет. И то верно, в порядке надо содержать. Иди, Любовь Прокопьевна.
Он никак не хотел замечать Прошку Греха, словно его не существовало уже на этом свете. Мать Мелитина подхватила отца на руки, поклонилась иконе и пошла не оглядываясь. Военные у монастырских ворот смотрели ей в спину, и было в их взглядах нечто высокое и всесильное.
А Прошка Грех сердился и щипал твердыми пальцами дочернее плечо:
– Плохо сказывала, вот и не пустили. Мягкая ты у меня, кисель, а не девка. С ними круто надобно бы…
Она терпела, пока монастырь вместе с холмом и рекой не скрылся за лесом. Потом руки ее ослабли. Опустив Прошку на землю, мать Мелитина села подле него и собралась в комок.
– Что же мне делать, тятенька? – тихо спросила она, и голос наполнился отчаянием. – Что делать мне, коль человек последним на земле родился? Последним! После зверей, после птиц… И даже после травы… Что же спросить с него?! Ведь он же, как дитя, не ведает, что творит…
* * *
Проводив очередных паломников, начкар Голев встал перед воротами и долго смотрел вверх, на икону. Фуражку он предусмотрительно снял; бритая по-модному голова, крупные, породистые черты лица и благородная осанка делали начкара похожим на римского патриция. Часовой как умел держал стойку «смирно» и ждал выговора, однако Голев медлил, хотя по всему было видно, что действиями стрелка он недоволен.
Обгаженная вороньем надвратная икона притягивала взгляд, приковывала воображение. Начкар Голев надел фуражку, оглядел стрелка и похлопал букетом вербы по голенищу сапога.
– Та-ак… Ты сколько служишь, Деревнин?
– Девять месяцев, – отчеканил стрелок, предчувствуя наказание.
– За такой срок баба зачать успевает и родить! – наставительно сказал начкар. – Человека произвести!.. А я из тебя стрелка не могу сделать. Сторожа у ворот. Как ты считаешь – почему?
– Не знаю, товарищ начкар…
– А я знаю. – Голев улыбнулся и заложил руки за спину. – Потому что не наказываю. Все стараюсь через сознание, через соображение воспитать. А вы на четырнадцатом году Советской власти никак того не можете уразуметь. И добротой моей пользуетесь.
– Исправлюсь, Сидор Филиппыч! – заверил Деревнин.
Однако тот махнул рукой:
– Горбатого могила исправит… Кто это вербу туда затащил?
Стрелок глянул на икону и тут же признался:
– Я, товарищ начкар. По недоразумению! Убрать?
– Ладно, пускай торчит. – Голев вздохнул и не спеша скрылся за калиткой.
Деревнин перевел дух и расслабленно обвис, оперевшись на винтовку. Он побаивался начальника караула, как, впрочем, и другие стрелки охраны, но боязнь эта была особой, замешенной на уважении и какой-то таинственной непредсказуемости характера начкара. В Есаульске Голев появился всего год назад, когда организовался лагерь. Видно было, что он старый служака, много повидавший и везде побывавший; через месяц он уже поселился на квартире у Зинаиды Солоповой, молодой и веселой женщины, овдовевшей в гражданскую, а спустя еще месяц уже гулял с ней под ручку по деревянным тротуарам. Однако никто, в том числе и Зинаида, не знал, откуда он явился и надолго ли. Присматриваясь к своему начальнику, Деревнин угадывал за ним тайну, тщательно скрываемую даже от начальника лагеря. Скорее всего Голев когда-то занимал высокие должности, даже выше, чем начлаг, но тут служил в караулке, командовал двумя десятками стрелков и, кажется, был очень доволен. Создавалось ощущение, будто он прибыл в Есаульск на отдых от каких-то своих трудных дел и служба ему тут в радость и развлечение. Отдохнет, погуляет с вдовушкой и скоро уедет на свою главную и тяжкую службу, знать о которой никому не положено. Деревнину самому приходилось кое-что скрывать из своей биографии и своих взглядов, поэтому он чувствовал скрытность других и непроизвольно защищался от них: если видит он, значит, видят и другие… А Голев наверняка предугадывал, подозревал Деревнина, поэтому частенько прощупывал его оброненными невзначай вопросами о прошлой жизни, и приходилось бдеть ежесекундно, чтобы не взяли врасплох.
Через несколько минут начкар вернулся с лестницей, неторопливо приставил ее к карнизу ворот, проверил, хорошо ли стоит, для надежности подпер камнями.
– Икону мыть? – с готовностью спросил Деревнин.
– Лезь! – приказал Голев. – Ведро принесу.
Стрелок прислонил винтовку к стене, но, спохватившись, закинул оружие за спину, полез вверх. Коснувшись иконы, он воровато перекрестился и стал поджидать начкара. По монастырскому двору, построившись в затылок друг другу, бродили заключенные. Они ходили по кругу возле бараков набитой и побелевшей на солнце тропой, щурились на меркнущий закат, тоскливо озирались по сторонам и казались похожими, как братья. Заглядевшись на этот хоровод, Деревнин не заметил, как под лестницей оказался Голев с ведром и кистью. В ведре белела густая, будто сметана, известь.
– Забеливай! – велел начкар. – Да аккуратней смотри, на ворота не брызгай.