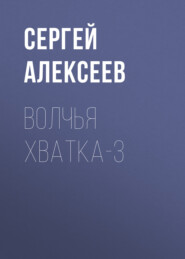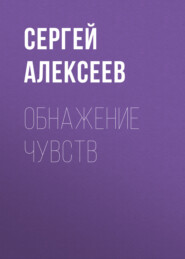По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Правда и вымысел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вон цыган стоит! Выйдешь – украдёт и увезёт с собой.
Я боялся цыган до тех пор, пока не услышал их песен…
Ситуация сейчас складывалась подобная, меня мог забрать этот путник из племени гоев и куда-то увести, но удивительно, я не испытывал страха, напротив, хотел, чтоб он вылечил нас с дедом и забрал с собой. И мы бы взяли коней и поехали, как три богатыря на картинке из журнала «Огонёк», которым была оклеена перегородка горницы.
Родители рассуждали иначе, а точнее, спорили с дедом-либералом, который мог отдать меня проходимцу, чтоб только я остался жив. Все остальные готовы были странного путника выгнать, как только он меня поставит на ноги, а то милицию вызвать с сельсоветом, если потребует мальчишку себе и начнёт задираться. Дед один стоял против всех, смеялся и отмахивался:
– Ох, и дураки же вы! Да как же вы не понимаете? Это что, заместо благодарности – взашей?
Не помню, сколько наш гость ходил, говорили по-разному, от нескольких часов до суток. И никто не торжествовал, когда он явился с красным быком, причём не на верёвке привёл, а будто двухгодовалый бык сам за ним шёл. Денег за него не спросил, а сел на лавку точить нож и долго ширкал им по наждачному кругу, пробовал остроту пальцем, затем велел матушке затопить железную печь в старой избе и позвал с собой отца в качестве подручного. Отец потом и рассказал, как необычный гость забивал быка.
Родитель мой всю жизнь проработал охотником-промысловиком, держал коров, свиней и овец, знал многие хитрости добычи зверей и забоя скота, кое-чему и меня стал учить лет с двенадцати – воспитывал хладнокровного и одновременно сострадательного мужика. То, что он увидел в старой избе, не укладывалось в рамки крестьянского воображения. Привередливый путник велел расстелить на полу чистую солому, после чего привёл и поставил на неё быка – опять же без верёвки. Конским скребком и щёткой тщательно вычистил его с головы до ног, а копыта и рога вымыл тёплой водой с мылом, затем приказал отцу вымести солому, сжечь её и принести свежей. Все эти приготовления утомили, батя ждал, когда путник возьмётся за нож, а он всё тянул, медлил: то у окна стоял, то у быка позвоночник зачем-то прощупывал от головы до репицы хвоста, то дрова в печку подбрасывал и сидел, будто бы грелся. Отец едва терпел, чтоб не вмешаться: если он был колдуном и лекарем, то каким-то непутёвым, и быка такого же привёл – центнера под три, морда свирепая, уже в складку пошла, и рога ухватом, а стоит смирно, как овечка, которая смерти не чует.
Часа полтора шли все эти приготовления, потом путник в очередной раз подошёл к быку, слегка вроде толкнул и уронил его на пол. Отец бросился ноги держать, чтоб не дрыгался, а бык уже готов! И тут началась быстрая работа – обдирать, да так, чтобы капли крови не пролилось. Отца с ножом путник к туше не подпустил, заставил только помогать: то поддержать, то шкуру скручивать мездрой внутрь, чтоб не остывала. Сам же лишь надрезы сделал, рукава засучил и стал обдирать кулаками – ладно бы с барана, а то с двухлетнего быка! Десяти минут не прошло, а дело уже сделано! Бык забит и шкура снята без капли пролитой крови!
Отец взял топор, чтоб разрубить тушу и повесить на мороз, но путник остановил и приказал погрузить её в сани, вывезти на открытое место и отдать птицам, чтоб склевали, а кости весной в землю зарыть на горе, где не топит.
И чтобы кусочка от этого быка никто из людей не съел!
Меня он раздел догола и завернул в горячую шкуру с ногами и руками – будто спеленал, оставив лишь нос и рот, чтоб дышал, да глаза.
– Теперь спи! – распорядился путник и дал ещё один кристалл соли. – Я буду с тобой.
Уснул я почти мгновенно, испытывая какой-то солнечный вкус во рту и приятное, чуть жгучее тепло, будто лежал в жаркий летний день на речном разогретом песке. Я так хорошо запомнил эти ощущения, что потом очень долго искал, существует ли в природе подобное. Съел много пудов обыкновенной соли, валялся на самых разных пляжах, но всё не подходило. Была некая похожесть вкуса у молдавского красного вина, которое давят из винограда сорта Изабелла, а потом оставляют на солнце в открытом чане, чтоб забродило. Отдалённо напоминающее тепло я случайно почувствовал однажды, когда на Таймыре, в ожидании транспорта, чтоб уехать с буровой в камералку (мороз был за пятьдесят), я забрался в дизельную, согрелся и задремал под мощный, оглушающий рёв.
* * *
…Проснулся утром, в полной тишине, и первое, что мне захотелось, это потянуться, однако был скован высохшей до фанерной крепости шкурой. Дед не спал, сидел на кровати, подложив под спину свёрнутый тулуп, и насвистывал «Чёрный ворон». Он всегда свистел, когда становилось лучше, несмотря на ворчание бабушки.
– Ну что, Серёга, живём? – спросил дед.
– А где путник? – спросил я.
– Э-э, да поди уж под Зырянкой. Как ты уснул, он наказы дал и – дуй, не стой!
– Хотел меня с собой взять…
– Тихо, молчок! – шёпотом остановил дед. – Рот на крючок.
В этот момент вбежала матушка, за ней отец.
Снимали бычью шкуру точно так же, как путник снимал её с быка, с той лишь разницей, что делали это не так умело. Я орал, будто это меня обдирали, причём без ножа: шкура присохла, прикипела или вовсе приросла, а родители радовались, должно быть, проинструктированные путником: они знали, что я ожил, если кричу, тело вновь обрело чувствительность, заработали мышцы, поскольку я от боли дрыгал ногами и отбивался. Дед подбадривал, мол, ничего, ори громче, помогает, и не выдержал, встал с постели первый раз за многие месяцы и начал помогать; бабушка, ещё недавно подозревавшая случайного гостя во всех грехах, страстно молилась и каялась:
– Господи! Это Ты послал нам ангела своего! А я, слепая, не разглядела, не признала его, за лешака приняла. Прости меня, грешную!
Шкуру красного быка отец вынес на улицу, обложил берёзовыми дровами и сжёг, как Иван-царевич лягушачью кожу…
Гой
Так с февраля 1957 года у нас начался новый отсчёт времени – с того дня, когда к нам приходил путник. Вспоминая что-нибудь, шепотком, и только в кругу своей семьи, обычно уточняли:
– Да это было на такой-то год, как Гой являлся.
Однако бабушка, обрадованная тем, что лекарь меня забирать не стал и даже денег за быка не спросил, называла его только ангелом. Она вообще довольно часто и круто меняла своё отношение к людям и этого случайного прохожего стала боготворить. В моём представлении на ангела он совсем не походил, скорее на пожившего, дошлого и властного мужика, однако спорить с бабушкой было нельзя, по её мнению, посланники божьи могут являться в любом образе, а люди слепы и не видят промыслов Господних.
Я уже тогда понимал, что произошло нечто необыкновенное, вся наша семья прикоснулась к чуду, и теперь этот путник будто незримо живёт в нашей избе, словно ангел бесплотный, и постепенно становится легендой.
На следующую весну, с начала страстной недели бабушка пошла пешком в город, чтоб помолиться, поблагодарить Бога за наше с дедом чудесное спасение и встретить Пасху в действующем храме. (Иногда она ездила молиться к месту сгоревшей церкви в Зырянском). Томск от нас находился так далеко, что уже было всё равно, туда идти или в Палестину, на Сион-гору. Помню, ждали её долго, пытались угадать, каких гостинцев принесёт, откровенно скучали, и даже дед всё больше сидел у окна, выходящего на дорогу. Однако вернулась бабушка чем-то так разочарованная и растерянная, что даже про гостинцы забыла и стала вручать их лишь на второй день. И только по прошествии двух лет от явления Гоя тайком поведала моей второй, по матери, бабушке, как на исповеди рассказала историю с путником и излечением, за что батюшка её сильно ругал. Сказал, что она слепая, не разглядела сатану и силу его, допустив колдуна пользовать мужа и внука. Дескать, лечить следует молитвами, постом да послушанием, но никак не бычьими шкурами, и теперь неизвестно, что с излеченными будет, примет ли наши души Господь у себя на небесах, а заодно и её душу? Греха этого ей священник не отпустил, велел привести нас с дедом в церковь: тогда, мол, отпущу и дам святое причастие.
В то время никто этого не знал, но дед что-то заподозрил, когда она сначала запретила вспоминать Гоя, дескать, бродяга этот и не ангел вовсе, а бесово отродье, чёртово племя и лешак, а потом взялась за наше религиозное воспитание. Такое дело при Хрущёве было практически запрещённым, в наших краях «открытыми» богомольцами признавались только молдаване-иеговисты (кстати, такая же незаконная секта в то время), и если были верующие православные, то наверняка молились тайно, по пещерам, как первые христиане. А дед мой иногда любил повторять, что уходил на Первую мировую войну юным, но глубоко религиозным человеком, однако вернулся со Второй мировой законченным атеистом – он говорил так, когда возникал спор с бабушкой. Потому разок посмотрел, как она ставит меня и сестру рядом с собой перед иконами, второй, и, не выдержав, сказал строго:
– Ты свои грехи замаливай, а они ещё не нажили. А то скоро как кержаки станем! И к твоему попу я не поеду, а сюда явится, так накостыляю ещё!
Бабушка только губы поджала, но нас на колени больше не ставила и повторять молитвы не заставляла. Оказывается, она давно убеждала деда поехать к батюшке в храм и проговорилась, что её лишили причастия, но за что – молчала, как партизан. О Гое она теперь и слышать не могла, и когда о нём заводилась речь, или уходила, или сердито отворачивалась, и таким образом ещё сильнее притягивала внимание к случайно зашедшему в дом человеку. Чаще всего о нём вспоминал отец, пытающийся с научной точки зрения объяснить природу лекарских способностей Гоя. Сначала он долго изучал влияние горячей бычьей шкуры на тело человека, и когда однажды резал бычка, завернул свою левую, подвёрнутую на мотоцикле ногу и пролежал так всю ночь – ничуть не помогло. Тогда он сделал вывод, что нужен-то обязательно красный бык, значит, благотворное действие оказывает масть. Отец очень много читал и знал разные непонятные слова.
– Всё дело в ферменте! – заявил он. – Тебя вылечили ферментом.
На третий год он однажды прибежал с промысла в середине сезона, будто бы за продуктами, а на самом деле, скитаясь по охотничьим избушкам, наконец-то понял, в чём дело.
– Тять, Гой давал тебе соли? – стал пытать деда.
– Чего тебе? Давал, не давал… – неохотно заворчал тот. – Главное, на ноги поднял…
– А про что вы целых три часа говорили?
– Да ни про что. Так, брехали по-стариковски…
– Только ты мне не ври, тять! Ну скажи, про что? Может, он как-нибудь эдак тебя лечил?
– Ничем он не лечил! Ни так, ни эдак.
С той поры, как от нас ушёл путник, у деда остались лишь одышка да простреленная несгибаемая нога, все другие болячки зажили, и даже будто бы изорванное медведем лицо стало разглаживаться. Раньше в свои пятьдесят семь лет он выглядел глубоким стариком, а тут вроде помолодел, повеселел, взбодрился и не то чтобы молчаливым сделался, а каким-то хитровато-скрытным, что-то не договаривал, ухмылялся, отшучивался и относительно Гоя никогда не высказывал своего мнения. Он снова начал бондарничать, ухаживать за пасекой, ездить на рыбалку и осенью стрелять белок в лесу за поскотиной.
Каждый раз, как только ему становилось лучше, дед собирал инструмент в специальный ящик, укладывал котомку и просил отца отвезти его в Зырянское, откуда он уже самостоятельно добирался до железной дороги в Асино. Несмотря на тихий протест домашних, и особенно бабушки, он уезжал на четыре-пять месяцев в даль неведомую, на свою родную Вятку-реку, где занимался отхожим бондарным промыслом. После войны и таких ранений его пытались каждый раз остановить, но строптивый дед бил кулаком по верстаку:
– Молчок!
И покидал дом, даже ни с кем не простившись. Возвращался он по-всякому, но всегда больной, едва живой, и его начинали выхаживать всей семьёй. Говорили, раза три, ещё до войны, он зарабатывал большие деньги, но чаще – только себе на прокорм и обратную дорогу. Тогда дед был молчалив и стойко выносил все упрёки. Помню, расстроенная бабушка выговаривала ему:
– Небость два года тому хоть семьсот рублей привёз, а ныне и на гостинцы не заробил. Что ж там, на Вятке, кадушки никому не нужны? А может, прогулял денежки-то, лешак? Иль с бабёнкой какой схлестнулся?
И вот теперь она ждала, что дед начнёт собирать инструменты и поедет на отхожий промысел, но он глядел на бабушку, ухмылялся, насвистывал «Чёрного ворона» и выстругивал нам с сестрой живые игрушки – пильщика с пилой, мужика-кузнеца с медведем-молотобойцем, карусели, пожарных с насосом и прочие забавные штучки. На приставания отца обычно махал рукой или весело сердился.
– Так вот, тять, он тебя солью вылечил! – заявил отец. – И шкура с ферментом тут ни при чём! Он дал тебе какой-то особой соли. А может, и не соли, а другого вещества.
– Не знаю, – ухмыльнулся дед. – Помогло, и ладно…
А батя не мог успокоиться и стал выпытывать у меня:
Я боялся цыган до тех пор, пока не услышал их песен…
Ситуация сейчас складывалась подобная, меня мог забрать этот путник из племени гоев и куда-то увести, но удивительно, я не испытывал страха, напротив, хотел, чтоб он вылечил нас с дедом и забрал с собой. И мы бы взяли коней и поехали, как три богатыря на картинке из журнала «Огонёк», которым была оклеена перегородка горницы.
Родители рассуждали иначе, а точнее, спорили с дедом-либералом, который мог отдать меня проходимцу, чтоб только я остался жив. Все остальные готовы были странного путника выгнать, как только он меня поставит на ноги, а то милицию вызвать с сельсоветом, если потребует мальчишку себе и начнёт задираться. Дед один стоял против всех, смеялся и отмахивался:
– Ох, и дураки же вы! Да как же вы не понимаете? Это что, заместо благодарности – взашей?
Не помню, сколько наш гость ходил, говорили по-разному, от нескольких часов до суток. И никто не торжествовал, когда он явился с красным быком, причём не на верёвке привёл, а будто двухгодовалый бык сам за ним шёл. Денег за него не спросил, а сел на лавку точить нож и долго ширкал им по наждачному кругу, пробовал остроту пальцем, затем велел матушке затопить железную печь в старой избе и позвал с собой отца в качестве подручного. Отец потом и рассказал, как необычный гость забивал быка.
Родитель мой всю жизнь проработал охотником-промысловиком, держал коров, свиней и овец, знал многие хитрости добычи зверей и забоя скота, кое-чему и меня стал учить лет с двенадцати – воспитывал хладнокровного и одновременно сострадательного мужика. То, что он увидел в старой избе, не укладывалось в рамки крестьянского воображения. Привередливый путник велел расстелить на полу чистую солому, после чего привёл и поставил на неё быка – опять же без верёвки. Конским скребком и щёткой тщательно вычистил его с головы до ног, а копыта и рога вымыл тёплой водой с мылом, затем приказал отцу вымести солому, сжечь её и принести свежей. Все эти приготовления утомили, батя ждал, когда путник возьмётся за нож, а он всё тянул, медлил: то у окна стоял, то у быка позвоночник зачем-то прощупывал от головы до репицы хвоста, то дрова в печку подбрасывал и сидел, будто бы грелся. Отец едва терпел, чтоб не вмешаться: если он был колдуном и лекарем, то каким-то непутёвым, и быка такого же привёл – центнера под три, морда свирепая, уже в складку пошла, и рога ухватом, а стоит смирно, как овечка, которая смерти не чует.
Часа полтора шли все эти приготовления, потом путник в очередной раз подошёл к быку, слегка вроде толкнул и уронил его на пол. Отец бросился ноги держать, чтоб не дрыгался, а бык уже готов! И тут началась быстрая работа – обдирать, да так, чтобы капли крови не пролилось. Отца с ножом путник к туше не подпустил, заставил только помогать: то поддержать, то шкуру скручивать мездрой внутрь, чтоб не остывала. Сам же лишь надрезы сделал, рукава засучил и стал обдирать кулаками – ладно бы с барана, а то с двухлетнего быка! Десяти минут не прошло, а дело уже сделано! Бык забит и шкура снята без капли пролитой крови!
Отец взял топор, чтоб разрубить тушу и повесить на мороз, но путник остановил и приказал погрузить её в сани, вывезти на открытое место и отдать птицам, чтоб склевали, а кости весной в землю зарыть на горе, где не топит.
И чтобы кусочка от этого быка никто из людей не съел!
Меня он раздел догола и завернул в горячую шкуру с ногами и руками – будто спеленал, оставив лишь нос и рот, чтоб дышал, да глаза.
– Теперь спи! – распорядился путник и дал ещё один кристалл соли. – Я буду с тобой.
Уснул я почти мгновенно, испытывая какой-то солнечный вкус во рту и приятное, чуть жгучее тепло, будто лежал в жаркий летний день на речном разогретом песке. Я так хорошо запомнил эти ощущения, что потом очень долго искал, существует ли в природе подобное. Съел много пудов обыкновенной соли, валялся на самых разных пляжах, но всё не подходило. Была некая похожесть вкуса у молдавского красного вина, которое давят из винограда сорта Изабелла, а потом оставляют на солнце в открытом чане, чтоб забродило. Отдалённо напоминающее тепло я случайно почувствовал однажды, когда на Таймыре, в ожидании транспорта, чтоб уехать с буровой в камералку (мороз был за пятьдесят), я забрался в дизельную, согрелся и задремал под мощный, оглушающий рёв.
* * *
…Проснулся утром, в полной тишине, и первое, что мне захотелось, это потянуться, однако был скован высохшей до фанерной крепости шкурой. Дед не спал, сидел на кровати, подложив под спину свёрнутый тулуп, и насвистывал «Чёрный ворон». Он всегда свистел, когда становилось лучше, несмотря на ворчание бабушки.
– Ну что, Серёга, живём? – спросил дед.
– А где путник? – спросил я.
– Э-э, да поди уж под Зырянкой. Как ты уснул, он наказы дал и – дуй, не стой!
– Хотел меня с собой взять…
– Тихо, молчок! – шёпотом остановил дед. – Рот на крючок.
В этот момент вбежала матушка, за ней отец.
Снимали бычью шкуру точно так же, как путник снимал её с быка, с той лишь разницей, что делали это не так умело. Я орал, будто это меня обдирали, причём без ножа: шкура присохла, прикипела или вовсе приросла, а родители радовались, должно быть, проинструктированные путником: они знали, что я ожил, если кричу, тело вновь обрело чувствительность, заработали мышцы, поскольку я от боли дрыгал ногами и отбивался. Дед подбадривал, мол, ничего, ори громче, помогает, и не выдержал, встал с постели первый раз за многие месяцы и начал помогать; бабушка, ещё недавно подозревавшая случайного гостя во всех грехах, страстно молилась и каялась:
– Господи! Это Ты послал нам ангела своего! А я, слепая, не разглядела, не признала его, за лешака приняла. Прости меня, грешную!
Шкуру красного быка отец вынес на улицу, обложил берёзовыми дровами и сжёг, как Иван-царевич лягушачью кожу…
Гой
Так с февраля 1957 года у нас начался новый отсчёт времени – с того дня, когда к нам приходил путник. Вспоминая что-нибудь, шепотком, и только в кругу своей семьи, обычно уточняли:
– Да это было на такой-то год, как Гой являлся.
Однако бабушка, обрадованная тем, что лекарь меня забирать не стал и даже денег за быка не спросил, называла его только ангелом. Она вообще довольно часто и круто меняла своё отношение к людям и этого случайного прохожего стала боготворить. В моём представлении на ангела он совсем не походил, скорее на пожившего, дошлого и властного мужика, однако спорить с бабушкой было нельзя, по её мнению, посланники божьи могут являться в любом образе, а люди слепы и не видят промыслов Господних.
Я уже тогда понимал, что произошло нечто необыкновенное, вся наша семья прикоснулась к чуду, и теперь этот путник будто незримо живёт в нашей избе, словно ангел бесплотный, и постепенно становится легендой.
На следующую весну, с начала страстной недели бабушка пошла пешком в город, чтоб помолиться, поблагодарить Бога за наше с дедом чудесное спасение и встретить Пасху в действующем храме. (Иногда она ездила молиться к месту сгоревшей церкви в Зырянском). Томск от нас находился так далеко, что уже было всё равно, туда идти или в Палестину, на Сион-гору. Помню, ждали её долго, пытались угадать, каких гостинцев принесёт, откровенно скучали, и даже дед всё больше сидел у окна, выходящего на дорогу. Однако вернулась бабушка чем-то так разочарованная и растерянная, что даже про гостинцы забыла и стала вручать их лишь на второй день. И только по прошествии двух лет от явления Гоя тайком поведала моей второй, по матери, бабушке, как на исповеди рассказала историю с путником и излечением, за что батюшка её сильно ругал. Сказал, что она слепая, не разглядела сатану и силу его, допустив колдуна пользовать мужа и внука. Дескать, лечить следует молитвами, постом да послушанием, но никак не бычьими шкурами, и теперь неизвестно, что с излеченными будет, примет ли наши души Господь у себя на небесах, а заодно и её душу? Греха этого ей священник не отпустил, велел привести нас с дедом в церковь: тогда, мол, отпущу и дам святое причастие.
В то время никто этого не знал, но дед что-то заподозрил, когда она сначала запретила вспоминать Гоя, дескать, бродяга этот и не ангел вовсе, а бесово отродье, чёртово племя и лешак, а потом взялась за наше религиозное воспитание. Такое дело при Хрущёве было практически запрещённым, в наших краях «открытыми» богомольцами признавались только молдаване-иеговисты (кстати, такая же незаконная секта в то время), и если были верующие православные, то наверняка молились тайно, по пещерам, как первые христиане. А дед мой иногда любил повторять, что уходил на Первую мировую войну юным, но глубоко религиозным человеком, однако вернулся со Второй мировой законченным атеистом – он говорил так, когда возникал спор с бабушкой. Потому разок посмотрел, как она ставит меня и сестру рядом с собой перед иконами, второй, и, не выдержав, сказал строго:
– Ты свои грехи замаливай, а они ещё не нажили. А то скоро как кержаки станем! И к твоему попу я не поеду, а сюда явится, так накостыляю ещё!
Бабушка только губы поджала, но нас на колени больше не ставила и повторять молитвы не заставляла. Оказывается, она давно убеждала деда поехать к батюшке в храм и проговорилась, что её лишили причастия, но за что – молчала, как партизан. О Гое она теперь и слышать не могла, и когда о нём заводилась речь, или уходила, или сердито отворачивалась, и таким образом ещё сильнее притягивала внимание к случайно зашедшему в дом человеку. Чаще всего о нём вспоминал отец, пытающийся с научной точки зрения объяснить природу лекарских способностей Гоя. Сначала он долго изучал влияние горячей бычьей шкуры на тело человека, и когда однажды резал бычка, завернул свою левую, подвёрнутую на мотоцикле ногу и пролежал так всю ночь – ничуть не помогло. Тогда он сделал вывод, что нужен-то обязательно красный бык, значит, благотворное действие оказывает масть. Отец очень много читал и знал разные непонятные слова.
– Всё дело в ферменте! – заявил он. – Тебя вылечили ферментом.
На третий год он однажды прибежал с промысла в середине сезона, будто бы за продуктами, а на самом деле, скитаясь по охотничьим избушкам, наконец-то понял, в чём дело.
– Тять, Гой давал тебе соли? – стал пытать деда.
– Чего тебе? Давал, не давал… – неохотно заворчал тот. – Главное, на ноги поднял…
– А про что вы целых три часа говорили?
– Да ни про что. Так, брехали по-стариковски…
– Только ты мне не ври, тять! Ну скажи, про что? Может, он как-нибудь эдак тебя лечил?
– Ничем он не лечил! Ни так, ни эдак.
С той поры, как от нас ушёл путник, у деда остались лишь одышка да простреленная несгибаемая нога, все другие болячки зажили, и даже будто бы изорванное медведем лицо стало разглаживаться. Раньше в свои пятьдесят семь лет он выглядел глубоким стариком, а тут вроде помолодел, повеселел, взбодрился и не то чтобы молчаливым сделался, а каким-то хитровато-скрытным, что-то не договаривал, ухмылялся, отшучивался и относительно Гоя никогда не высказывал своего мнения. Он снова начал бондарничать, ухаживать за пасекой, ездить на рыбалку и осенью стрелять белок в лесу за поскотиной.
Каждый раз, как только ему становилось лучше, дед собирал инструмент в специальный ящик, укладывал котомку и просил отца отвезти его в Зырянское, откуда он уже самостоятельно добирался до железной дороги в Асино. Несмотря на тихий протест домашних, и особенно бабушки, он уезжал на четыре-пять месяцев в даль неведомую, на свою родную Вятку-реку, где занимался отхожим бондарным промыслом. После войны и таких ранений его пытались каждый раз остановить, но строптивый дед бил кулаком по верстаку:
– Молчок!
И покидал дом, даже ни с кем не простившись. Возвращался он по-всякому, но всегда больной, едва живой, и его начинали выхаживать всей семьёй. Говорили, раза три, ещё до войны, он зарабатывал большие деньги, но чаще – только себе на прокорм и обратную дорогу. Тогда дед был молчалив и стойко выносил все упрёки. Помню, расстроенная бабушка выговаривала ему:
– Небость два года тому хоть семьсот рублей привёз, а ныне и на гостинцы не заробил. Что ж там, на Вятке, кадушки никому не нужны? А может, прогулял денежки-то, лешак? Иль с бабёнкой какой схлестнулся?
И вот теперь она ждала, что дед начнёт собирать инструменты и поедет на отхожий промысел, но он глядел на бабушку, ухмылялся, насвистывал «Чёрного ворона» и выстругивал нам с сестрой живые игрушки – пильщика с пилой, мужика-кузнеца с медведем-молотобойцем, карусели, пожарных с насосом и прочие забавные штучки. На приставания отца обычно махал рукой или весело сердился.
– Так вот, тять, он тебя солью вылечил! – заявил отец. – И шкура с ферментом тут ни при чём! Он дал тебе какой-то особой соли. А может, и не соли, а другого вещества.
– Не знаю, – ухмыльнулся дед. – Помогло, и ладно…
А батя не мог успокоиться и стал выпытывать у меня: