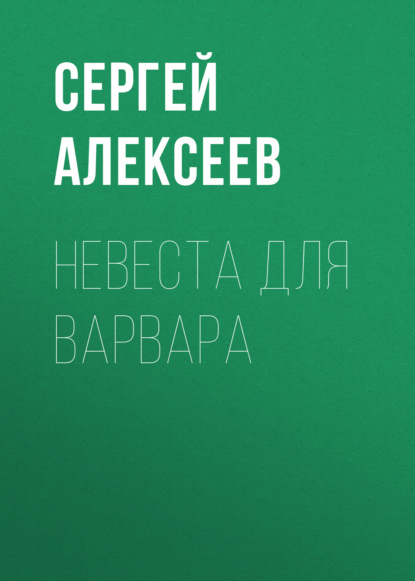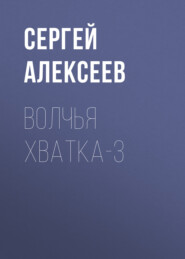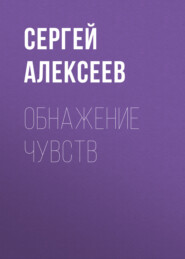По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Невеста для варвара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Молод, строптив, боярского происхождения, да худороден. А ныне все худородные стремятся к чести и славе, но не к знаниям.
– Покажешь мне сего боярина, – решил Тренка. – А я уж скажу, годится или нет.
– Давай условимся, – смахивая пот, проговорил Брюс. – Ты календарь пошли с Ивашкой, но не открывай ему, что есть сия книга. И письму чувонскому не учи, дабы прочесть не мог.
Тренка бельмами своими поблуждал и сказал беспрекословно:
– Позрю на него и сам изведаю, способно ли ему будет наше письмо одолеть и лисиц чернобурых ловить. Может, сам не пожелает…
Брюс наконец-то сдернул жаркий парик, обнажил лысеющую голову и в тот же час стал беззащитным, уязвимым…
2
По случаю кончины императора Петра Алексеевича его любимчик, капитан Ивашка Головин, повергся в глубокое уныние, запил горькую, вскорости был отстранен от службы и отправлен в карцер до полного отрезвления и последующего наказания. По дороге же он растолкал конвойных моряков по сугробам и бежал. Спутав по причине долгого пьянства времена года, он сначала помчался на свой фрегат, дабы в тот час же отчалить и уйти куда глаза глядят. Вскарабкался на борт, встал на мостик и начал командовать:
– Отдать швартовы! Багры в берег – отвалить! Поднять паруса! Носовая пушка – товсь! Отвальный залп, холостым зарядом!..
И тут увидел, что матросов на палубе всего двое и они отчего-то в тулупах и с метлами.
– Где команда?! – сурово спросил Ивашка. – Где боцманмат?!
– А все на берегу, герр капитан! – докладывают матросы.
– Почему вы с метлами?
– Снег с палубы метем!
– Откуда снег?
– Дак зима на дворе, Иван Арсентьевич!
Здесь только капитан Головин огляделся и обнаружил, что корабль стоит у причала, вмороженный в Неву. Паруса и оснастка вовсе были сняты и убраны на хранение в трум, а еще два матроса долбили пешнями сахаристый лед возле кормы.
Охолонувшись слегка, оконфуженный капитан спустился на берег и завернул в ближайший кабак, где его знали и могли налить чарку в долг, ибо денег в карманах не обнаружил. Испил немного вина и, когда в голове прояснилось, посчитал утраченные в загуле дни. И оказалось, их миновало уже двадцать, а еще вспомнил дерзкий побег из-под стражи, что было наказуемо разжалованием, и тут вовсе загоревал, ибо заступиться теперь за него было некому. Однако вина более пить не стал, а зашел к товарищу своему, Василию Прончищеву, капитан-лейтенанту, который также на берегу жил в ожидании весны. И хоть встречен был с радостью, Ивашка, однако же, только кофию попил, поглядел на счастливую семейную пару – у Василия жена была красавица, Мария, и стало вовсе дурно от одиночества, так что даже мечтать не захотелось. А мечтали они каждый о своем: Головин постарше был и потому думал выпроситься у Петра Алексеевича в кругосветное плавание, а Василий вкупе с женою своей мыслили пока что пройти полунощными, северными морями аж до Чукотки.
Теперь обоим не о чем стало мечтать…
От Прончищевых Головин побрел к себе на прошпект, где были у него рубленые хоромы, жалованные государем за находчивость и прилежную службу. Хоть и деревянные, но просторные, дворянские, в узорочье под камень, и окна на воду смотрят. Ивашка все жениться собирался и однажды даже сватов засылал к Некрасовым – дочка у них была, Гликерия, которую обыкновенно звали Ликой. Ему больше нравилось ее имя, чем сама избранница, как и многие девицы, привезенные из Москвы, в два года утратившая зубы на болотистых берегах Невы. Поэтому петербургские невесты на балах уст своих манящих не размыкали, и если смеялись, а вернее, подхихикивали, то заслоняли ладошками рты. Ко всему прочему, Гликерия оказалась еще и строптивой, отказала Ивашке и велела передать через сватов, что, тогда еще лейтенант, Головин хоть и образован в Европе, но, окромя жалованья, ничего не имеет, бездомок, обитает в труме на своем фрегате и к тому же любит в кабаках гулять. И все его мысли не о том, как дом свой завести и семью, а совсем вздорные и безалаберные – купить корабль и отправиться в кругосветное путешествие. Но, дескать, ежели исправит свое положение, обзаведется имением или хотя бы квартирою, то тогда она, Лика, подумает.
Ивашка не очень-то и расстроился, однако сей отказ его несколько образумил: и в самом деле эдак-то можно остаться в холостяках, еще раз отвернут сватов, и на весь стольный град дурная слава пойдет гулять. А добрую обрести можно лишь в сражениях, но тут как на грех все войны государь Петр Алексеевич завершил победами и наступил тягостный для лейтенанта мир. Особенно зимою становилось тоскливо, когда фрегат Головина мерз у причала, а иного дела он делать не умел, кроме как ходить под парусами по морю и брать на абордаж шведские корабли.
И здесь выпала удача и возможность отличиться. Однажды государю вздумалось установить на устье Невы свинкса, коего он увидел где-то на картинках египетских, и так загорелся, что ни быть, ни жить. А взять такой большой камень, чтоб высечь его, поблизости негде – только из-за моря везти, со шведского берега, где граниту полно. Вот он и бросил клич: «Кто доставит морем гранитный камень для свинкса, того всячески облагодетельствую».
На что ему был нужен этот свинкс, никто из морских офицеров не спрашивал, да блажь царскую уважать следует. В Европе Ивашку только навигации выучили, а думать он умел по природе своей, поэтому походил по берегу, подумал, посчитал и взошел на свой фрегат.
– Поднять якоря!
Пришел он к шведскому берегу и теперь по нему походил, подумал, посчитал, выбрал подходящую скалу, что у самой воды стояла, созвал прибрежных шведов и нанял их сухостойный лес рубить да к морю возить. А те после поражения смирные были, податливые, валят сосны в два обхвата, тащут их лошадями на берег и молча дивятся: на что русским сухостой, лишь на дрова годный? Неужто в России весь лес вырубили и печи топить стало нечем?
Моряки же тем часом начали вязать плот размером двадцать на сорок сажен, да не в одну деревину, а многоярусный, в двенадцать венцов: лес железными скобами сбивают, гвоздями и для прочности смолеными канатами переплетают. И форму плоту придают корабельную – форштевень, высокий нос, корма, все как полагается. Связали из сухостоя эдакое чудовище первобытное, подчалили кормой к скале и стали в той скале дыры пробивать и порохом заряжать. Тут молчаливые шведы и вовсе затылки зачесали: должно быть, эти варварского вида люди или с ума сошли, или совсем глупые, или же что-то небывалое замыслили, а то и вовсе для них, шведов, опасное и вредное – так в Европе всегда думали о русских, дабы не вдаваться в подробности их нрава. А лейтенант Головин велел с берега всем удалиться и махнул флажком. Побежал дымок по берегу, достал скалы, и тут так громыхнуло, что у любопытных шведов шапки сдуло. Скала же качнулась и медленно завалилась на плот, погрузив его в глубину до самого верхнего венца, так что издалека кажется, будто камень сам на воде плавает. А моряки на него еще и мачты поставили и снасти заготовили. Позрев на это, шведы доложили своему королю Карлу: дескать, моряки царя Петра не только дрова, но и скалы воруют. Король не поленился, приехал лично посмотреть, но Ивашка ему царскую грамоту показал, где было сказано, что лейтенант Головин послан к шведским берегам, дабы взять граниту для свинкса в зачет возложенной по договору контрибуции.
– А на что Петру сфинкс? – изумился Карл.
– Кто его знает? – ответствовал лейтенант. – Может, хочет, чтоб у нас как в Египте было. И не желает больше быть императором, а мыслит назваться фараоном. Цари, они же как малые ребята, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Король так ничего и не понял, однако же махнул рукой.
– Ну, добро, идите теперь домой! – позволил, и поскольку зол еще был на русского императора, то добавил: – Пускай Петр этот камень себе на могилу поставит!
Ивашка дождался попутного ветра, впряг свой фрегат в постромки, закрепленные на носу плота, поднял все паруса и пошел через море. Кто тогда встречь или вкрест проплывал, глаза себе протирали – блазнится ли, или уж в самом деле скала под парусами идет? Плота-то не видать, он весь в воду погрузился.
Приплавил лейтенант камень в устье Невы, причалил плот к берегу, а его весь стольный град встречать вышел. В толпе и Гликерия стоит, пуще всех радуется, руками машет и, забывшись, уста-то свои сахарные отворила. Ивашка как глянул на ее рот старушечий, так его от женитьбы сразу и отвратило. Государь на этот камень взошел, обнял там Ивашку, поцеловал и на радостях всячески облагодетельствовал: своею шпагой одарил, из лейтенантов в капитаны третьего ранга произвел, золотом воздал и хоромы пожаловал на прошпекте. А еще с камня же крикнул Меншикову:
– Алексашка! У тебя дочери который год?
Александр Данилович испугался, руками замахал:
– Мала еще! Мала!
– Как подрастет, за этого капитана отдашь!
Гликерия такое услышала и тотчас из толпы убежала.
Столько Ивашка за войну наград не получал, когда живота своего не жалел! Вот как Петру Алексеевичу свинкса хотелось поставить в Петербурге. Теперь или жди, когда Мария Меншикова подрастет, или не дожидаясь заходи в любой дом, сватайся, но на Головина опять тоска напала и нехотенье. Лика же нравом дерзкая была – не стыдилась того, что когда-то отказала Ивашке, а теперь передумала; она вознамерилась добиться своего и отважилась пойти к немцу, который новую моду завел в Петербурге – золотые зубы вставлять. Прежде он только отважных мужей пользовал, которые адские пытки готовы выдержать, когда живые зубы точат подпилком и сверлят коловоротом, а тут приходит девица и говорит, мол, вставляй, все вытерплю. И ведь вытерпела, слезы не пролила, до чего умела сердце скреплять. Является она на ассамблею, куда и Головин зван был, встречает его и улыбается во весь рот. Он же опять как глянул, так и вовсе потерял охоту к супружеству.
А с камнем гранитным вот какая недолга вышла: оказалось, его легче из-за моря приплавить, чем на берег поднять и там уже свинкса из него вырубить. Народу и лошадей согнали не только из Петербурга, но и со всей округи, опутали скалу, обвязали канатами и давай тянуть. С плота еще кое-как на отмель стащили, а уж когда он припал к земле – так к ней присосался, что ни с места. Сам государь впрягался и тянул – не помогло; сколько веревок и гужей порвали – не считано. Немцы всяческие прожекты предлагали: дождаться зимы и по льду вытащить камень, наморозив ледяную дорогу, или вовсе высечь свинкса там, где лежит скала, и пусть его омывают волны речные. Ну и прочие всякие глупости. Но Петр Алексеевич уже сумрачный стал, какие-то, видно, тайные надежды его рухнули, и скорее всего, надорвался он, пытаясь сволочь камень, простудился в холодной воде и с того начал часто хворать. Потом и вовсе махнул рукой и позволил пилить гранит на плиты, чтоб полы во дворцах настилать, фасады обделывать, ставить всяческие балюстрады, изваяния или вовсе пускать на надгробия богатых, но усопших граждан Петербурга. За один год всего так и не высеченного свинкса искололи, испилили и растащили – немцы едва успевали пилы из Германии возить.
Освобожденный плот же к берегу подчалили, разобрали, изрубили на дрова, и почитай всю зиму топился стольный град шведской кондовой сосной.
И вот после кончины императора Ивашка Головин отбражничал двадцать дней, оплакал былые веселые времена и, бежав из-под конвоя, засел в своих хоромах на прошпекте, чтобы с мыслями собраться и подумать, чем же скрасить далее свою жизнь. Из прислуги у него были лишь старая кухарка да камердинер, исполняющий обязанности истопника, сторожа и стекольщика: кто-то повадился каждую ночь бить стекла в окнах. Посоветоваться даже было не с кем. Ивашка наказал холопам, чтоб говорили, будто его дома нет, поскольку опасался, что вновь пришлют конвой, а сам залег, как медведь в берлогу, и разве что не лапу сосал, а отпивался капустным рассолом с брусникой. Похмельные мысли и так невеселы были, а тут еще ночью услышал он, как возок к дому подъехал и встал. Полагая, что это комендантский конвой, капитан от досады и расстройства шпаги хватился, да вспомнил, что отняли ее при аресте. И тогда взял от печи старую секиру, которую камердинер давно приспособил головни в топке толочь, и сунулся к окошку. В сей миг из повозки вышла женщина – лица не рассмотреть, стекла заиндевелые, да и фонари на облучке тусклые, направилась было к подъезду, но вдруг взмахнула рукой, и капитан едва отскочить успел. Стекло брызнуло в разные стороны, зазвенело, а по полу забрякал увесистый булыжник. Ивашка снова к окну, и на устах уже вызрел пузырь корабельного ругательства, но не лопнул, ибо в следующий миг узрел он сквозь пробитый глазок сверкнувшую золотом улыбку – не было подобной во всем Петербурге!
А Лика села в возок, захлопнула дверцу, и лошади с места взяли в рысь.
Более изумленный, чем возмущенный, капитан долго не мог найти покоя, велел камердинеру до утра заткнуть дыру в окне подушкой, но в комнате все одно выстыло, и он отправился в гостиную. Неугомонная Гликерия вернула его к прошлым мыслям о женитьбе – куда ни кинь, все указывает, что пора обзаводиться семьей, тогда, может, и тоска отойдет. Только вот к кому отправлять сватов? К самому Меншикову – у него дочь подросла, а государь прилюдно обещал отдать ее за Головина? Так ныне Александр Данилович Екатерине одним из первых присягнул, угодил в фавориты и капитана ко дворцу своему на милю не подпустит. И слышно, рвется он к трону через свою Марию, ибо вздумал выдать ее за наследника, малолетнего Петра Алексеевича. К Румянцевым ли направить стопы, или еще раз попытать счастья у Некрасовых? Лика-то неспроста зубы вставила и окна хлещет – должно, есть у нее любовь страстная, а то, что рот у нее сияет, как открытая табакерка, так к этому привыкнуть можно, а потом ночью-то, в постели, не видать. Днем же миловаться с ней будет недосуг – служба да походы морские…
Так размышляя и уговаривая себя, Ивашка уж было решился наутро заслать к Гликерии сватов, однако вспомнил: император Петр Алексеевич-то до сей поры в леднике лежит, не похороненный! Какие уж тут сватовство и свадьба, когда в стольном граде скорбь, по-новому «траур», и сам он еще под арестом и угрозой разжалования?..
Уже под утро, когда немецкие часы отбили четверть пятого, капитан вконец увяз в невеселых топких мыслях и уже кликнул кухарку, чтоб принесла вместо рассолу вина, опять под окнами запели на морозе кованые полозья. Он занавеску отвел, рукавом иней со стекла счистил – вот теперь уж точно конвой пожаловал: на паре приехали, санный возок оленьим мехом крыт и фонари яркие. Тут из него вышел офицер и два нижних чина с саблями спрыгнули с задков, да сразу все на крыльцо.
– Открывай, господин капитан! – застучали в двери. – Мы знаем, ты дома, коли в кабаках нету!
При подобной диспозиции следовало или затаиться, ровно мышь, или оказать возможное сопротивление, но Головин выбрал третье – сдаться, велел впустить конвой, ибо в тот момент не было желания ни прятаться, ни драться. Камердинер снял дверь с запоров, офицер и нижние чины вошли, однако встали у порога, сабель не вынимают из ножен и в караул не становятся.
– Доброго здоровья, Иван Арсентьевич, – сказал офицер и башлык скинул.
Ба! Да это же Данила Лефорт, подручный Брюса, человек хоть и давно знакомый, но поскольку с отрочества воспитан был графом, обучен им всяческим наукам и хитростям и при нем же служил, то дружбу ни с кем не водил и обыкновенно спесив был с Ивашкой и высокомерен. Один раз только и снизошел, когда Головин камень из-за моря приплавил по воде: все расспрашивал, как сие удалось да какими расчетами он пользовался, и самолично гранитную скалу обмерил веревочкой, нарисовал и грузность ее вычислил в пудах и фунтах, дабы потом графу доложить.
– Виноваты, ночью потревожили тебя, – между тем продолжает Данила, а в голосе неслыханное заискивание, – да дело у нас неотложное. Отряжены мы генерал-фельдцейхмейстером Брюсом с нижайшей его просьбой немедля прибыть к нему для разговора важного. Меня Яков Вилимович еще днем послал, да я тебя только к утру сумел отыскать.