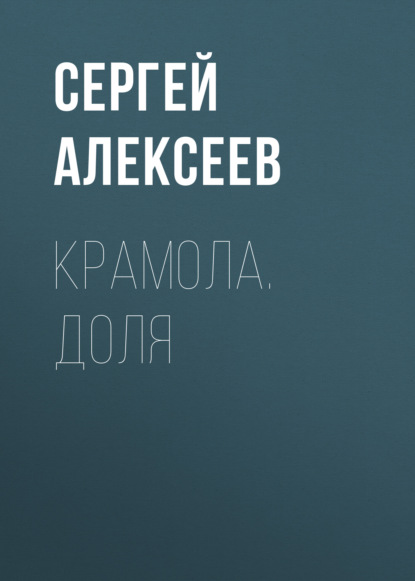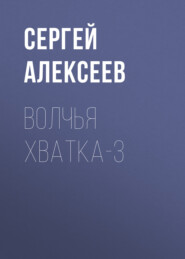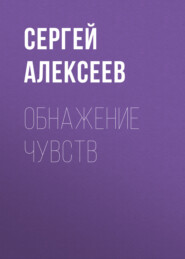По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крамола. Доля
Серия
Год написания книги
1991
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она отшатнулась, помотала головой. Андрей не отступал:
– Тогда выпейте со мной! За униженный русский народ. За измученную Россию! За умершую! Не чокаясь, как на поминках.
Всунув в ее руки бокал с вином, он с трудом выцедил свой и долго стоял, опустив голову. Наверное, Юлии показалось, что он угомонился.
– Я совсем вас не понимаю, – проговорила она. – Вы сильный человек. Я же чувствую в вас такую силу!.. Но вы – как ребенок!
Андрей только рассмеялся, опершись о стол:
– Нет, вы понимаете, все понимаете… Даже отчего кричит ваша обезьяна! – Он взял бутылку и бокал, догадливо поднял их над головой. – Мы сейчас угостим патруль! У него ведь тоже собачья служба!
Юлия догнала его у двери, заслонила ее собой.
– Не пущу! Андрей Николаевич, пожалейте меня, прошу вас!
– Хорошо, – согласился он. – Пожалею. Но давайте тогда подадим вашему охраннику! Он там в одной гимнастерочке, озяб!
– Не ходите, он латыш и не понимает по-русски…
– Ничего, поймет! – заверил он, отстраняя Юлию. – Все-таки собачья душа! Пусть порадуется!
Андрей сбежал с крыльца, отыскивая взглядом красноармейца, закричал:
– Стрелок! Эй, товарищ!
Юлия дрожала, стоя на крыльце, и зажимала ладонью рот.
Охранник маячил на своем месте – у калитки. Он и правда озяб, ежился, обнимая холодную винтовку.
– Пей! – Андрей подал вино. – Этому напитку полста лет, не меньше. Пей, а то где еще попробуешь царского!
Латыш осторожно и недоверчиво взял вино, пробормотал что-то на своем языке и, утерев губы, словно боялся запачкать бокал, выпил. Выпил и рассмеялся:
– Корошо! Корошо!
И Андрей засмеялся, толкнул его в плечо и, так смеясь, пошел в дом. Юлия заперла дверь на ключ, сказала решительно:
– Никуда больше не пущу!
– А мне больше никуда и не нужно! – закричал он и повалился в кресло. Увидев рояль у окна, завешенного черными гардинами, размел их, разгреб, чтобы было светлее, и откинул крышку инструмента. – Играть буду! Играть и петь!
Руки отвыкли, не гнулись, и костяные клавиши, желтевшие в сумерках, выскальзывали и разбегались под пальцами. Он все-таки приловчился, нашел аккорд и запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны…
Однако бросил руки на колени и замолк, потом зашевелился и вновь повеселел.
– Нет, лучше спою песню врага моего! Гимн армии Александра Васильевича, адмирала Колчака!
Он подобрал мелодию, инструмент под его руками играл грубо, визгливо – словно просил пощады и хотел вырваться.
– Вовеки славься Господь в Сионе! – прокричал Андрей первую строчку гимна и снова замолк. Помедлив, закрыл крышку. – Не поется мне и не плачется, – выговорил он, глядя в лицо Юлии. – Вы устали от меня… Хорошо, я иду на место. Где мое место? У двери? – Направился было в переднюю, однако спохватился, заговорил тихо, доверительно: – На хозяйской кровати хочу! Пока хозяина нет! Где его спальня?
– Андрей Николаевич, милый! – взмолилась Юлия. – Я вам постелю в гостевой комнате. Идемте!
– Нет, хочу на хозяйской! – закуражился он и пошел сквозь анфиладу. Заблудился, попал в тупик, но узнал дверь ванной.
Юлия попыталась увести его, однако Андрей засмеялся и, указывая на ванную, проговорил восхищенно:
– Я здесь воду украл! На четвереньках ползал…
Он побежал по лестнице наверх, Юлия не отставала, уговаривала, молила его; Андрей лишь пьяно смеялся и дергал двери комнат.
– Знаю! Знаю… Завтра будет порка. Но – хочу! На хозяйской!
И Юлия сама открыла перед ним маленькую дверцу, ввела в узкую, почти пустую комнату с одним окошком. Андрей увидел солдатскую кровать, заправленную солдатским же одеялом; рядом были тумбочка, табуретка и расшлепанные домашние туфли.
– Что это? – спросил он, словно напугавшись голых стен и аскетической обстановки. – Одиночка? Камера?
– Дядюшкина спальня, – виновато ответила Юлия. – Он не любит, чтоб сюда заходили… И убирает сам.
Андрей вышел из комнаты и послушно направился за Юлией. В глазах почему-то стояла перетертая, вылущенная телами солома, в которой лежал Шиловский в «эшелоне смерти», и земля – тяжелая, каменистая земля у железнодорожной насыпи, серо-синеватая, напоминающая цвет солдатского одеяла.
В гостевой было темно – черные шторы не пропускали даже хилого, сумеречного света. Будто сонный, с закрытыми глазами – все равно ничего не увидеть – Андрей разделся, ощупью нашел кровать, уже кем-то приготовленную и неимоверно широкую, так что не достать краев. Шелковисто зашуршала простыня на тяжелой перине, пуховое же одеяло, наоборот, показалось легким и отчего-то колючим. «Это солома, – подумал он. – Или нет, сено, на сенокосе…»
– Я принесла вина, – услышал он шепот. – У вас пересохли губы…
Каким-то образом в руке оказался бокал. Андрей привстал и выпил его до дна. Вино пахло лугом – солнцем, подсыхающей скошенной травой – и свежими огурцами. Потом он вспомнил, что это вовсе не огуречный запах. Так пахнет папоротник, если его сорвать и растереть в ладонях.
– Спите спокойно, – у самого уха прошептал знакомый голос, и Андрей ощутил на своем лице маленькие, шершавые руки. – Вы сильный, вы не боитесь смерти. А человек, который не боится смерти, победит всех своих врагов.
Пахло сеном, летним покосным зноем, и вдруг откуда-то из темноты посыпалась мелкая, колкая труха.
– Аленька? – позвал он. – Где ты, Аленька? Я тебя не вижу…
– Я здесь, здесь, с тобой, – отозвался чужой голос. – Вот мои руки…
«Это не Аленька», – подумал Андрей, однако узнал руки, шершавые и колючие от заноз.
– Аленька, – проговорил он. – Вино летом пахнет… А где мой конь? Где конь? Его расседлать нужно… Заподпружится…
– Все спокойно, милый, – серебрился шепот, и рука обласкивала шрам. – Конь здесь, все хорошо…
«Так не бывает, – словно кто-то сторонний подсказывал ему, и кололись эти слова, будто сенная труха. – Ты же сам знаешь, и быть не может. Обман, чувствуешь, обман…»
Он уже ничего не чувствовал, не видел, да и не слышал тоже…
Сон был глубоким и таким далеким, что доставал детство. И пробуждение скорее напоминало возвращение из прошлого. Чудилось, будто он идет по бесконечной анфиладе комнат: вот комната детства, вот комнаты юности, почти сливающиеся в единую, но все равно разные. И – последние, замыкающие, похожие то на «эшелон смерти», то на камеру-одиночку в Бутырской тюрьме. Прежде чем проснуться и ощутить явь, прежде чем выпутаться из бесконечной вереницы снов, он вдруг вспомнил, где находится и что произошло. Вспомнил, и захотелось, чтобы и это оказалось сном. Однако, открыв глаза, Андрей увидел темную гостевую спальню, серые квадраты рассветных окон, проступающие сквозь черные шторы, и в этом неясном сумраке – каштановые, словно подсвеченные, разбросанные по высоким подушкам волосы. Лицо Юлии и во сне было напряженным, а в уголках губ и глаз таилось что-то неуловимое, какая-то готовность к испугу. Казалось, сделай неосторожное движение – и по лицу ее скользнет страх, а потом уже все другие чувства.
– Тогда выпейте со мной! За униженный русский народ. За измученную Россию! За умершую! Не чокаясь, как на поминках.
Всунув в ее руки бокал с вином, он с трудом выцедил свой и долго стоял, опустив голову. Наверное, Юлии показалось, что он угомонился.
– Я совсем вас не понимаю, – проговорила она. – Вы сильный человек. Я же чувствую в вас такую силу!.. Но вы – как ребенок!
Андрей только рассмеялся, опершись о стол:
– Нет, вы понимаете, все понимаете… Даже отчего кричит ваша обезьяна! – Он взял бутылку и бокал, догадливо поднял их над головой. – Мы сейчас угостим патруль! У него ведь тоже собачья служба!
Юлия догнала его у двери, заслонила ее собой.
– Не пущу! Андрей Николаевич, пожалейте меня, прошу вас!
– Хорошо, – согласился он. – Пожалею. Но давайте тогда подадим вашему охраннику! Он там в одной гимнастерочке, озяб!
– Не ходите, он латыш и не понимает по-русски…
– Ничего, поймет! – заверил он, отстраняя Юлию. – Все-таки собачья душа! Пусть порадуется!
Андрей сбежал с крыльца, отыскивая взглядом красноармейца, закричал:
– Стрелок! Эй, товарищ!
Юлия дрожала, стоя на крыльце, и зажимала ладонью рот.
Охранник маячил на своем месте – у калитки. Он и правда озяб, ежился, обнимая холодную винтовку.
– Пей! – Андрей подал вино. – Этому напитку полста лет, не меньше. Пей, а то где еще попробуешь царского!
Латыш осторожно и недоверчиво взял вино, пробормотал что-то на своем языке и, утерев губы, словно боялся запачкать бокал, выпил. Выпил и рассмеялся:
– Корошо! Корошо!
И Андрей засмеялся, толкнул его в плечо и, так смеясь, пошел в дом. Юлия заперла дверь на ключ, сказала решительно:
– Никуда больше не пущу!
– А мне больше никуда и не нужно! – закричал он и повалился в кресло. Увидев рояль у окна, завешенного черными гардинами, размел их, разгреб, чтобы было светлее, и откинул крышку инструмента. – Играть буду! Играть и петь!
Руки отвыкли, не гнулись, и костяные клавиши, желтевшие в сумерках, выскальзывали и разбегались под пальцами. Он все-таки приловчился, нашел аккорд и запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны…
Однако бросил руки на колени и замолк, потом зашевелился и вновь повеселел.
– Нет, лучше спою песню врага моего! Гимн армии Александра Васильевича, адмирала Колчака!
Он подобрал мелодию, инструмент под его руками играл грубо, визгливо – словно просил пощады и хотел вырваться.
– Вовеки славься Господь в Сионе! – прокричал Андрей первую строчку гимна и снова замолк. Помедлив, закрыл крышку. – Не поется мне и не плачется, – выговорил он, глядя в лицо Юлии. – Вы устали от меня… Хорошо, я иду на место. Где мое место? У двери? – Направился было в переднюю, однако спохватился, заговорил тихо, доверительно: – На хозяйской кровати хочу! Пока хозяина нет! Где его спальня?
– Андрей Николаевич, милый! – взмолилась Юлия. – Я вам постелю в гостевой комнате. Идемте!
– Нет, хочу на хозяйской! – закуражился он и пошел сквозь анфиладу. Заблудился, попал в тупик, но узнал дверь ванной.
Юлия попыталась увести его, однако Андрей засмеялся и, указывая на ванную, проговорил восхищенно:
– Я здесь воду украл! На четвереньках ползал…
Он побежал по лестнице наверх, Юлия не отставала, уговаривала, молила его; Андрей лишь пьяно смеялся и дергал двери комнат.
– Знаю! Знаю… Завтра будет порка. Но – хочу! На хозяйской!
И Юлия сама открыла перед ним маленькую дверцу, ввела в узкую, почти пустую комнату с одним окошком. Андрей увидел солдатскую кровать, заправленную солдатским же одеялом; рядом были тумбочка, табуретка и расшлепанные домашние туфли.
– Что это? – спросил он, словно напугавшись голых стен и аскетической обстановки. – Одиночка? Камера?
– Дядюшкина спальня, – виновато ответила Юлия. – Он не любит, чтоб сюда заходили… И убирает сам.
Андрей вышел из комнаты и послушно направился за Юлией. В глазах почему-то стояла перетертая, вылущенная телами солома, в которой лежал Шиловский в «эшелоне смерти», и земля – тяжелая, каменистая земля у железнодорожной насыпи, серо-синеватая, напоминающая цвет солдатского одеяла.
В гостевой было темно – черные шторы не пропускали даже хилого, сумеречного света. Будто сонный, с закрытыми глазами – все равно ничего не увидеть – Андрей разделся, ощупью нашел кровать, уже кем-то приготовленную и неимоверно широкую, так что не достать краев. Шелковисто зашуршала простыня на тяжелой перине, пуховое же одеяло, наоборот, показалось легким и отчего-то колючим. «Это солома, – подумал он. – Или нет, сено, на сенокосе…»
– Я принесла вина, – услышал он шепот. – У вас пересохли губы…
Каким-то образом в руке оказался бокал. Андрей привстал и выпил его до дна. Вино пахло лугом – солнцем, подсыхающей скошенной травой – и свежими огурцами. Потом он вспомнил, что это вовсе не огуречный запах. Так пахнет папоротник, если его сорвать и растереть в ладонях.
– Спите спокойно, – у самого уха прошептал знакомый голос, и Андрей ощутил на своем лице маленькие, шершавые руки. – Вы сильный, вы не боитесь смерти. А человек, который не боится смерти, победит всех своих врагов.
Пахло сеном, летним покосным зноем, и вдруг откуда-то из темноты посыпалась мелкая, колкая труха.
– Аленька? – позвал он. – Где ты, Аленька? Я тебя не вижу…
– Я здесь, здесь, с тобой, – отозвался чужой голос. – Вот мои руки…
«Это не Аленька», – подумал Андрей, однако узнал руки, шершавые и колючие от заноз.
– Аленька, – проговорил он. – Вино летом пахнет… А где мой конь? Где конь? Его расседлать нужно… Заподпружится…
– Все спокойно, милый, – серебрился шепот, и рука обласкивала шрам. – Конь здесь, все хорошо…
«Так не бывает, – словно кто-то сторонний подсказывал ему, и кололись эти слова, будто сенная труха. – Ты же сам знаешь, и быть не может. Обман, чувствуешь, обман…»
Он уже ничего не чувствовал, не видел, да и не слышал тоже…
Сон был глубоким и таким далеким, что доставал детство. И пробуждение скорее напоминало возвращение из прошлого. Чудилось, будто он идет по бесконечной анфиладе комнат: вот комната детства, вот комнаты юности, почти сливающиеся в единую, но все равно разные. И – последние, замыкающие, похожие то на «эшелон смерти», то на камеру-одиночку в Бутырской тюрьме. Прежде чем проснуться и ощутить явь, прежде чем выпутаться из бесконечной вереницы снов, он вдруг вспомнил, где находится и что произошло. Вспомнил, и захотелось, чтобы и это оказалось сном. Однако, открыв глаза, Андрей увидел темную гостевую спальню, серые квадраты рассветных окон, проступающие сквозь черные шторы, и в этом неясном сумраке – каштановые, словно подсвеченные, разбросанные по высоким подушкам волосы. Лицо Юлии и во сне было напряженным, а в уголках губ и глаз таилось что-то неуловимое, какая-то готовность к испугу. Казалось, сделай неосторожное движение – и по лицу ее скользнет страх, а потом уже все другие чувства.