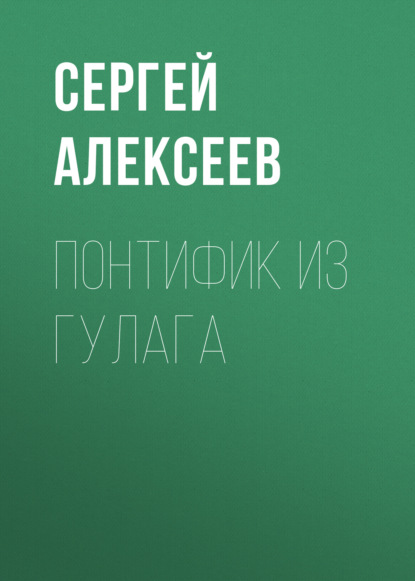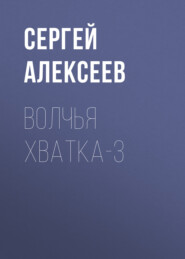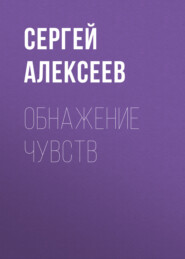По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Понтифик из Гулага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он так любил свой инструмент, что готов был немедля лететь к тётушке и устроить спрос, но жизнь опередила и наказала: у Гути оказался сифилис в опасной стадии, и, не зная о том, она заразила богатого хозяина, в доме которого трудилась и считалась не домработницей, а содержанкой. По его доносу тётю арестовали и хотели судить, но скоро отпустили. Тогда вообще открыли все тюрьмы и каталажки, поскольку на Белосток уже наступала Красная армия, и власть Пилсудского бежала из города.
Станислав тоже вышел из своего укрытия, как волк с вынужденной лёжки – пустой, оборванный и с голодным блеском в яростных глазах…
4
Лабаз оказался действительно сооружением знакомым и хитроумным, только вот о существовании таковых он забыл напрочь. На трёх высоких столбах стоял невеликий, сажень на сажень, плотно рубленный амбарчик венцов в шесть, с крышей из толстенных плах и такой же дверью. По всем приметам, здесь был когда-то широченный двор богатой крестьянской усадьбы, теперь заросший молодым лесом, кустарником и высокой травой. И сохранилось в целости всего два сооружения – тесовые ворота под крышей и этот лабаз, которым, вероятно, ещё пользовались. Строили их чаще в лесных районах, где опасались не только проворного дикого зверя, мелких грызунов и моли, но скорее воровитых, пришлых людей, дабы спрятать на видном месте самое ценное – добро, меховую зимнюю одежду, пушнину и провиант. Забраться без лестницы мудрено, тем паче, проникнуть тайно: всякое движение видать за версту, а народ здесь и впрямь жил лихой, редко кто не возил с собой заряженную фроловку, а чаще трёхлинейку или обрез. И вообще, оружия у местного населения было несчётное количество и самых разных эпох. Только в бытность Станкевича его выгребали из разбойничьих закромов дважды, изымали всё, вплоть до старинных фузей и мушкетов, а стволов ничуть не убывало. При этом на территории не было ни войн, ни бунтов, если не считать нашествия поляков и знаменитую историю с Сусаниным.
Так что подумаешь, откуда прилетит, прежде чем штурмовать эту крепостицу на трёх высоченных столбах.
Но более чем пули и сами местные, и пришлые опасались заклятий и оберегов, поставленных на каждый лабаз. На иных даже лестницы были, приставные или в виде поперечных перекладин по одному из столбов, словно приглашающие к ограблению – забирайся, ищи поживу! И добро, если, поднявшись до середины, ощущаешь, как охватывает безотчётный страх или начинает казаться, будто лабаз рушится на тебя. Чаще ни с того ни с сего смельчак срывался с последних ступеней, падал с высоты пяти-восьми метров и ломал себе спину, шею, или от удара отрывалось сердце. Что его столкнуло, почему сорвался, уже и не спросишь.
Возле таких лабазов Команда Станкевича потеряла трёх человек, это не считая ранения его самого и увечья ещё одного местного милиционера. И только после этого пришлось отдать приказание жечь лабазы, не делая попыток проникнуть внутрь: огонь был единственным бойцом, которого не держали человеческие заклятья. А прятали там оружие, ценности, подлежащие реквизиции, в основном – награбленное на больших дорогах, и ещё лиц, подлежащих аресту и препровождению в центр.
Бабушку лесничего, Василису Ворожею, он помнил точно так же, как свою тётю Августу. Обе эти женщины, а точнее, память о них, преследовали его много лет, пока он не искупил вину, оказавшись в мостостроительном лагере Гулага, куда угодил за эту же девицу.
По крайней мере, там и Гутя, и Василиса перестали сниться, а потом и вовсе будто бы убрались из его вольных и невольных воспоминаний.
Василиса хоть и была причастна к местным колдунам и чародеям, однако на допросе выяснилось, ничего зловредного не совершала, даже стыдилась своего родства с ними, и, где-то наслушавшись агитации, мечтала вступить в комсомол, поехать на стройку или выучиться и потом учительствовать на севере, у туземцев. Вести о новой жизни долетали и в такую глухомань, а в Замараево открыли даже избу-читальню и провели радио. Исправлять что-либо в выданном центром ордере на аресты ему было запрещено, однако в особых случаях Станкевич имел право поставить прочерк, означавший, что подозреваемый физически отсутствует в этом мире. Иными словами, погиб при попытке задержания, для чего следовало написать и приложить рапорт о случившемся. Он так бы и сделал, отписавшись, что означенная девица сама бросилась в реку и утонула, но среди бойцов его Команды были доверенные люди Комиссии, писавшие свои секретные отчёты, и Станкевич знал, что его документы могут быть проверены. Поэтому пришлось договориться с Василисой, чтоб разыграть утопление.
А эта своенравная девица на глазах у бойцов и местных жителей прыгнула в омут с камнем на шее. И в самом деле, утопилась! Односельчане выловили её неводом через несколько часов, безропотно завернули в холстину и понесли родителю, Анкудину Ворожею, который в списках тогда не значился. Зловредный Анкудин чуть бунт не поднял. Пришлось Команде стрелять поверх голов пришедших разбираться вдохновлённых им жителей. Утопленницу схоронили на кладбище, поскольку местные церковных обычаев не чтили, а священников тут не бывало полвека, шарахались с тех пор, как последний монашествующий поп расстригся, взял замуж местную ведьму и ушёл в леса.
Станислав видел сам, как несли Василису на кладбище, уже распухшую от жары и смердящую, видел, как заколачивали гроб и опускали в могилу, а своим глазам он верил безоглядно. На похоронах он не присутствовал, чтобы не дразнить местное население, наблюдал издалека, незаметно, и если бы ещё были слёзы, то бы, наверное, плакал. А так лишь непроизвольно стискивал кулаки и гонял тяжёлый, царапающий кадык по горлу, который ему когда-то мешал играть на скрипке.
В эту же ночь она приснилась ему мёртвая, сине-голубая, как русалка, и простоволосая.
– Хочешь, приду к тебе живая? – спросила вкрадчиво голосом тётушки Гути. – Ты же меня хочешь? Я это видела, когда пытал. И когда сговаривал утопиться понарошку… Ты же влюбился в меня, товарищ Станкевич! Как в тётушку Гутю… Ну, хочешь или нет?
– Не хочу! – крикнул Станкевич и проснулся, разбудив товарищей по Команде.
Невзирая на специальный подбор бойцов, верных делу революции и психологически выдержанных, во сне многие кричали и разговаривали, так что на это никто внимания не обратил. Да и сам Станислав помнил сон до полудня, а потом в делах замотался и напрочь забыл. И вечером, когда Латуха, председатель комбеда, сказал, дескать, у него баня протоплена, не желает ли попариться – не вспомнил, однако согласился. У всех тут бани были по-чёрному, первобытные, дикие, даже заглядывать приходилось с опаской, чтоб сажей не перемазаться, а у Латухи – по-белому и совсем новая. Отправился без задней мысли, в предбаннике разделся, взял керосиновый фонарь и вошёл в парную. А Василиса сидит на полке, веником играет и говорит:
– Ну, иди ко мне, попарю!
Не такая, как во сне – живая, розовая, уже разогретая жаром и улыбчивая. Станкевич не страдал набожностью и суеверием, но тут слегка оторопел в первый момент, больше от неожиданности. А девица засмеялась и говорит:
– Да не бойся меня! Мы же уговорились понарошку в омут. Вот я и притворилась утопленницей. Не веришь, так пощупай.
Он и в самом деле приблизился, потрогал руками, даже понюхал – горячая, живая, пахнущая терпкими травами!
– Тебе нужно не в комсомол, – сказал однако же натянуто, – в театральную студию Станиславского.
– Отблагодарить тебя хочу, – обняла его за шею и прижалась. – От смерти спас… Примешь от меня награду? Ты мне тоже приглянулся, товарищ Станкевич. Ты сильный!
И всё это обволакивающим голосом тётушки Гути. А тут ещё запахи в парной особенные, будоражащая трава запарена, вот Станислав и потерял контроль над собой и ситуацией.
Парились они так часа полтора, до изнеможения, и когда Станкевич повалился на пол, Василиса зачерпнула ковшом из кадки и поднесла к губам.
– Пей!
Он подумал, холодная вода, напился и только тогда понял – это самогон! Не поверил, сам зачерпнул из той же кадки, попробовал – натуральная горилка, которой хохлы торговали в Белостоке. Крепкая, бодрящая, хоть в пляс пускайся! Станислав плеснул на каменку – синее пламя взметнулось, и откуда силы взялись – ещё целый час парились, а может и больше: в хмельной голове всё затуманилось, заволоклось паром.
Потом Станкевич вышел в предбанник, чтобы охолонуться, облился холодной водой, отдышался, заходит в парную, а там никого! Всё говорит о том, что была Василиса: кругом ещё не высохли следы её мокрых босых ног на полу, на потолке, ярко-жёлтые, золотистые волосы в сумраке светятся, даже отпечаток ягодиц на полке! Спрятаться негде, хотя он и за каменку заглянул, и даже в кадку с самогоном. Должно быть, мимо прошмыгнула, пока он водой обливался, или привиделась Василиса…
Ошеломлённый, он даже попил из кадки – вода!
Тут у него и возникло подозрение, что наваждение это Латуха устроил, но впрямую не спросишь. Местный председатель комбеда считался единственным доверенным человеком, поддерживающим власть, милиции помогал. Но все они здесь были с причудами, а многие и вовсе приспособленцами, себе на уме. Станислав к Латухе в избу заглянул, за баню поблагодарить, а тот вроде стоит, улыбается, квасу ковш поднёс и спрашивает, показалось, будто с намёком:
– Как парок-то? И на каменку подбрасывать не пришлось? Баня у меня знатная, революционная. Натопишь раз, дак хоть сутки парься. Не то, что у этих старорежимных балдуев! Как пожелаешь ещё, так скажи. Я мигом спроворю!
Жителей местных деревень все остальные называли балдуями. Что это означало, никто толком не знал, прилипло прозвище и всё. Только одна старуха по секрету сообщила, дескать, именовали так с незапамятных времён двенадцать белых чародеев, живших в местных лесах. Каждый из них сам по себе только лечить мог, но когда они собирались вместе, то могли творить чудеса, например, мёртвых оживлять, если тело человека не нарушено, бури останавливать, таёжные пожары тушить, в засуху дожди навлекать. Дескать, истинные балдуи и доныне есть, только меньшим числом, потому, де-мол, давно не собирались. Старуха из ума выживала, не понимала, с кем говорит, поэтому и сказала:
– Собрались бы, дак этой советской власти давно не было! Поганой метлой бы вымели лиходеев, всю державу очистили!
Арестовывать бабку Станкевич не стал, всё равно до Москвы живой не довезут, отпустил с миром, но на ус себе намотал.
От председателя Станислав прямиком отправился на кладбище могилу утопленницы посмотреть – на месте, крест стоит и никаких особых следов. Как мужики землю лопатами прихлопали на могильном холмике, так и есть. А в ушах до сих пор стоит шёпот Василисы:
– Знаю, тебя всё ещё тётушка мучает, не отпускает. Так я пробку эту вышибу. Теперь меня будешь помнить, искать по ночам. Я дева, как бражка сладкая, долго хмелить буду!
На следующий день надо было собирать подводы по деревням и переезжать в Чурилки за семнадцать вёрст, в самый глухой куст деревень всей округи. По оперативной информации там и собрался весь сброд, прячущийся от власти: местные разбойные люди, недобитые беляки, колдуны и ведьмы. Предстояло разыскать и арестовать шестнадцать человек, означенных в ордере Комиссии. Однако Станкевич перенёс поездку, ибо на утро и вовсе сделался зачумлённым. Проснулся от того, что Василиса его окликнула, а потом почудилось, не дежурный по Команде плошку с кашей ему ставит на стол, а она! Вокруг же не бойцы сидят и стучат ложками – будто их дети, и сколько – не сосчитать. Едят весело, жадно, с аппетитом и на него посматривают. Но сморгнул, и исчезло видение…
Пятый месяц Команда рыскала по костромским лесам, исполняя поручение Особой Комиссии, местным чекистам передали уже три партии арестованных, дабы тех препроводили в центр, и ничего подобного не случалось. Конечно, чувствовалась усталость, и у бойцов в том числе: форма поистрепалась в лесах, за внешним видом не следили, коней давно не перековывали, не чесали. Иные спали плохо, во сне маму звали, а самый бывалый и по годам старший, боец Эдгар Веберс, из латышских стрелков, после штурма очередного лабаза в Мухме вдруг замолчал и перестал есть. У Станислава на этот счёт были особые инструкции, но он исполнять их не спешил, думал, пройдёт, но соглядатаи, бывшие в Команде, донесли, и пришла шифровка передать латышского стрелка в ведение местного ОГПУ.
Ему было жалко расставаться с мудрым и обстоятельным Эдгаром, который был с ним вместе ещё в Отряде Особого Назначения при ВЧК. И ещё их сближало то, что оба плохо, с сильным акцентом говорили по-русски, хотя Станкевич всё время пытался исправить своё произношение и благодаря тонкому музыкальному слуху довольно быстро овладел языком. Но для Веберса русский оказался непосильным, хотя он до революции ещё изучал этот язык в Рижской гимназии. Другие бойцы особым интеллектом и образованием не были отягощены, представляя собой бывших кавалеристов Первой конной, матросов и рабочих-железнодорожников.
Пришлось исполнить приказание, Веберса отвезли в Чухлому и передали, Станислав почуял одиночество и с тех пор стал таить всё, что творится в голове и душе. Он быстро отыскал причину остаться ещё на сутки, проверил в Команде оружие, амуницию, лошадей, внешний вид и устроил разнос, приказал привести всё в идеальный порядок, непременно всем постирать форму, а сам отправился к Анкудину Ворожею.
После попытки бунта они не виделись. У Станислава были особые инструкции на этот счёт: в подобных ситуациях он имел право или передать местным чекистам бунтаря, или самому ликвидировать его, не привлекая к себе внимания: то есть, шлёпнуть тихо и желательно самому, без свидетелей и из оружия, традиционного для местности. Например, выставить огнестрельный самострел в его угодьях, застрелить из лука или, на худой случай, грохнуть из маузера, а дом поджечь. Но у Анкудина не было врагов среди местных, тем паче, расправляться с родителем Василисы он не собирался, зная при этом, что о его поведении непременно донесут Комиссии. На этот случай он отправил шифровку, что взял Ворожея в оперативную разработку, с целью через него выйти на некую Памфилу, чуть ли ни главную ведьму, значащуюся в ордере под номером один.
Анкудин в округе был известен тем, что считался самым удачливым охотником-промысловиком и держал у себя на цепи огромного, старого медведя. Говорили, будто он имеет власть над дикими животными, а на звере по ночам катается, запрягая его в телегу. Станкевич подозревал, что он один из двенадцати настоящих балдуев, однако выяснилось, что про него много брехали: ему не повиновался даже домашний медведь и кусал его, когда хозяин терял бдительность.
Родитель был в горе по утопившейся единственной дочери и встретил соответственно; никаких примет пребывания живой Василисы Станислав не заметил, всюду виделись знаки скорби. Она любила полевые цветы, и вот теперь отец нарвал и положил их всюду, чего касалась её рука, в том числе, даже на печной загнеток. У Анкудина, по слухам, и жена была, но будто бы ещё давно ушла в лес и жила так, как местные ведьмы. Василиса была в ордерном списке на арест, но о её принадлежности к миру нечистой силы отец мог и не знать, поскольку у балдуев все тайны колдовства передавались по женской линии. По мужской это было лишь в двенадцати родах настоящих балдуев, которые уже порядочно захирели, а то и вовсе свелись на нет. Но женщины продолжали передавать ведьмачество и строго его хранить. Иные мужья и отцы даже не подозревали, с кем живут и каких дочерей плодят. Поэтому в списке значились в большей степени женские имена и лишь несколько мужских. И то их чародейство было сомнительным: некоторые мужики, видя лёгкость, с которой можно облапошивать доверчивых односельчан и пришлых, объявляли себя знахарями и колдунами. Но по природе ничего делать не умели, разве что обладали стихийным прозренческим талантом, иногда точно могли предсказывать грядущие события за несколько лет вперёд.