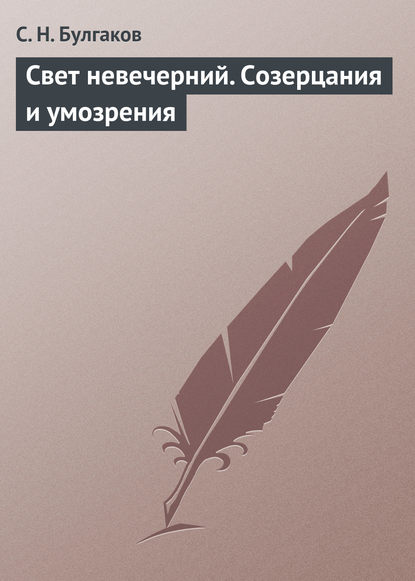По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет невечерний. Созерцания и умозрения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свет невечерний. Созерцания и умозрения
Сергей Николаевич Булгаков
Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.
С. Н. Булгаков
Свет Невечерний. Созерцания и умозрения
Памяти отшедших:
отца моего, г. Ливен протоиерея, о. Николая Васильевича Булгакова и матери моей Александры Косминичны урожд. Азбукиной
с чувством духовной верности посвящается
От автора
В этом «собранье пестрых глав»[1 - Цитата из Посвящения к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.] мне хотелось выявить в философствовании или воплотить в умозрении религиозные созерцания, связанные с жизнью в Православии. Такая задача хотя и подавляет непомерностью, но и овладевает душой с неотступностью. И подобный замысел не ограничивается литературой, им предполагается и творческий акт духовной жизни: книга, но уже и не книга, не только книга! Лишь краем души касаемся мы жизни Церкви, отягченные грехом, затемненные «психологизмом», но даже и из таких касаний почерпаем силу, которая живит и оплодотворяет творчество. В свете религиозного опыта, как ни скудна его мера, зрится и оценивается «мир сей» с его тревогами и вопрошаниями.
Господи!
Путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке.
Ты, Свет Невечерний, Нас осияй!
(А. С. Хомяков. Вечерняя песня[2 - Стихотворение А. С. Хомякова «Вечерняя песня» (1853), по словам С. Н. Булгакова стало для всей его книги «своего рода музыкальным императивом. Стихотворение пронизано чувством просветленной скорби по умершей в начале 1852 г. жене А. С. Хомякова и, может быть, поэтому оказалось особенно созвучным настроению Булгакова, пережившего в 1909 г. смерть сына. По этой причине здесь уместно привести стихотворение Хомякова полностью:Солнце скрылось; дымятся долины;Медленно сходят к ночлегу стада;Чуть шевелятся лесные вершины,Чуть шевелится вода.Ветер приносит прохладу ночную;Тихою славой горят небеса…Братья, оставим работу дневную,В песни сольем голоса…Ночь на востоке с вечерней звездою;Тихо сияет струей золотоюЗападный край.Господи, путь наш меж камней и терний,Путь наш во мраке… Ты, свет невечерний,Нас осияй!В мгле полунощной, в полуденном зное,В скорби и радости, в сладком покое,В тяжкой борьбе –Всюду сияние солнца святого,Божия мудрость и слава и слово,(Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. М., 1969. С. 132)«Не правда ли, что эти стихи поют? – писал Хомяков в нисьме к П. М. и П. А. Бестужевым. – Я ими очень доволен. Они не переложение церковной песни, но отчасти напоминают чувство, которое выражено в песне «Свете тихий». Впрочем, они грустные и не так торжественны; но вечер и молитва, кажется, выражены» (там же, с. 568).])
Скудно взыскуется и слабо брезжит в душе этот свет через темное облако греха и смятенности, труден путь чрез современность к Православию и обратно. Однако от всякой ли можно освободиться трудности и должно освобождаться? Сколь ни страстно жажду я великой простоты, белого ее луча, но отрицаюсь столь же лживого, самообманного упрощения, этого бегства от духовной судьбы, от своего исторического креста. И лишь как искатель религиозного единства жизни, взыскуемого, но не обретенного, выступаю я в этой книге. Пусть духовное существо современности изъязвлено проблемами и источено сомнениями, но и в ее сердце не оскудевает вера, светит надежда. И мнится, что в мучительной сложности этой таится своя религиозная возможность, дана особая задача, свойственная историческому возрасту, и вся наша проблематика с ее предчувствиями и предвестиями есть тень, отбрасываемая Грядущим[3 - Ср. с высказыванием Т. Моммзена, которое любил повторять В. И. Иванов: «Мировые события, идя на землю, бросают вперед свои тени» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 84).]. Осознать себя со своей исторической плотью в Православии и чрез Православие, постигнуть его вековечную истину чрез призму современности, а эту последнюю увидать в его свете – такова жгучая, неустранимая потребность, которая ощутилась явно с 19 века, и чем дальше, тем становится острее[4 - Ср. с мыслью В. И. Иванова, которую он впервые высказал 10 февраля 1911 г. на торжественном заседании московского Религиозно-философского общества, посвященном памяти В. С. Соловьева (статья «Религиозное дело Владимира Соловьева»): «Труднейшее постижение для русской интеллигенции (и в этом, по-видимому, может, трагическая вина ее так называемой «оторванности» от народной души) – есть ясное уразумение идеи Церкви» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 298).].
Руководящие идеи этого философствования объединяются не в «системе», но в некоторой сизигии[5 - «Сизигия» в переводе с древнегреч. буквально означает «соединение», «сопряжение».], органической сочлененности, симфонической связанности. От такого философско-художественного замысла требуется, с одной стороны, верность и точность саморефлексии в характеристике религиозного опыта, при выявлении «мифа», а с другой – нахождение соответственной формы, достаточно гибкой и емкой для его раскрытия. Но и при наличии этих условий остаются нелегко уловимы внутренние ритмы мысли, ее мелодический рисунок и контрапункт, характер отдельных частей композиции: философское искусство принадлежит к числу наименее доступных. Это приходится сказать даже о Платоне, явившем недосягаемые образцы философской поэзии в своих диалогах, где не столько доказуется истина, сколько показуется ее рождение. Конечно, такое искусство не есть лишь неотъемлемая принадлежность одной философской музы Платона, оно вообще связано с определенным стилем философствования. Такого стиля инстинктивно и сознательно ищет и русская религиозная философия, и для нее это искание диктуется не притязательностью, но внутреннею необходимостью, своего рода музыкальным императивом.
В связи с общим замыслом чисто исследовательская часть в изложении сведена к минимуму: автор сознательно отказывается от стремления к исчерпывающей полноте библиографического и ученого аппарата. Внимание читателя привлекается лишь к таким страницам истории мысли, которые имеют прямое значение для более отчетливого выявления собственных идей автора (хотя, конечно, при этом и прилагается забота, чтобы при эпизодическом изложении не было существенных пробелов). В интересах четкости и стройности изложения в книге введено два шрифта, причем историко-литературные экскурсы и сопоставления напечатаны более мелко и могут быть даже опускаемы при чтении без разрыва целостной ткани мысли.
Книга эта писалась медленно и с большими перерывами (в течение 1911–1916 годов), а заканчивалась она уже под громы мировой войны. Для гуманистического мировоззрения, победно утвердившегося в «новое время», война эта поистине явилась духовной катастрофой, неожиданной и опустошительной. Она разбила обветшавшие скрижали и опрокинула общечтимые идолы. Напротив, в религиозном мироощущении катастрофа эта внутренне предугадывалась, как надвигающаяся вместе с созреванием исторической жатвы. Во всяком случае, последние события нас не заставили ни в чем существенном пересмотреть или изменить основные линии мировоззрения, верований, устремлений, отразившихся в этой книге, они даже придали им еще большую определенность и трагический пафос. Грандиозность происходящего не вмешается в непосредственное сознание участников, а катастрофическому чувству жизни упрямо (и по-своему даже правомерно) противится обыденное, «дневное» сознание с его привязанностью к «месту»[6 - «Любовь к месту» (amor loci) как синоним мещанства С. Н. Булгаков подробно анализирует и критикует в брошюре «Война и русское самосознание» (М., 1915).]. Лишь насколько нам удается в религиозном созерцании подняться выше своей эмпирической ограниченности и слабости, мы ощущаем наступление великих канунов, приближение исторических свершений. «Когда ветви смоковницы становятся мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» (Мф. 24:32). Историческое время оплотнилось, и темп событий становится все стремительнее. Не по внешним знамениям, но по звездам, восходящим на небе духовном, внутренним зрением нужно ориентироваться в этой сгущающейся тьме, прорезаемой зловещими молниями. И если может показаться иным, что неуместно во время всеобщего землетрясения такими «отвлеченностями», то нам, наоборот, представляется обострение предельных вопросов религиозного сознания как бы духовной мобилизацией для войны в высшей, духовной области, где подготовляются, а в значительной мере и предрешаются внешние события. В частности, давно уже назревало и то столкновение германства с православно-русским миром, которое внешне проявилось ныне, не теперь только началась война духовная. С германского запада к нам давно тянет суховей, принося иссушающий песок, затягивая пепельной пеленою русскую душу, повреждая ее нормальный рост. Эта тяга, став ощутительной с тех пор, как Петр прорубил свое окно в Германию[7 - Замечание С. Н. Булгакова о том, что «Петр прорубил свое окно в Германию», а не в Европу, является не случайной оговоркой. Незадолго до смерти зимой 1941/42 г. в статье «Расизм и христианство» он писал: «Есть особая предустановленность во взаимоотношении Германии и России, род эроса, поработительного со стороны германской и пассивно-притягательного с русской…» (Подробнее см.: Булгаков С. Н. «Христианство и еврейский вопрос». Paris, 1991.C. 110–112)], к началу этого века сделалась угрожающей. И, конечно, существеннее было здесь не внешнее «засилие» Германии, но духовное ее влияние, для которого определяющим стало своеобразное преломление христианства через призму германского духа. Это – арианское монофизитство[8 - Арианство – ересь, возникшая в IV в, н. э.; основатель ереси Арий, александрийский протопресвитер, учил, что Иисус Христос является творением Бога, но не Богом.Монофизитство – христианское религиозно-философское учение, отрицающее возможность смешения в Иисусе Христе двух природ: божественной и человеческой. Согласно этому учению, Иисус Христос был не богочеловеком, а Богом. Говоря об «арианском монофизитстве», С. Н. Булгаков употребляет последний термин в его этимологическом, а не историческом значении.], все утончающееся и принимающее разные формы: «имманентизма»[9 - Под «имманентизмом» С. Н. Булгаков подразумевает здесь не только так называемую имманентную школу (В. Шуппе, Р. Шуберт-Зольдерн, М. Кауфман и др.), но и неокантианство; сторонники «имманентизма» в духе учения И. Канта считали, что предметный мир не объективно дан, а конструируется сознанием (т. е. «имманентен», внутренне присущ сознанию), отрицая вместе с тем существование «вещи в себе».] и «монизма» – от протестантства до социалистического человекобожия[10 - Критике «социалистического человекобожия» посвящен ряд статей С. Н. Булгакова в книге «Два града» (в 2 т. М., 1911): «Религия человекобожия у Л. Фейербаха», «К. Маркс как религиозный тип» (т. 1); «Героизм и подвижничество» (т. 2).]. И для сознательного противления нужно прежде всего познать и понять угрожающую стихию, столь многоликую и творчески могучую. Лютер, Бауэр, А. Ричль, Гарнак, Эккегарт, Я. Беме, Р. Штейнер; Кант с эпигонами[11 - Под «эпигонами Канта» С. Н. Булгаков имеет в виду неокантианцев. Неокантианство как направление в немецкой идеологической философии сформировалось в конце XIX в. после выхода в свет книги О. Либмана «Кант и эпигоны» (1865). Наибольшую известность получили в дальнейшем Баденская (В. Вин-дельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк и др.) и Марбургская (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер и др.) школы неокантианства. В России идеи неокантианства активно пропагандировала и развивала группа философов, издателей журнала «Логос» (Б. В. Яковенко, Ф. А. Степун, С. И. Гессен и др.).], Фихте, Гегель, Гартман; Геккель, Фейербах, К. Маркс, Чемберлен – все эти столь далеко расходящиеся между собою струи германства в «имманентизме», однако, имеют общую религиозную основу. Столь слабо ощущается в нем расстояние между Творцом и творением, что он роковым образом приближается к миро-и человекобожию разных оттенков и проявлений. Но все это в то же время есть не что иное, как многоликое хлыстовство[12 - Хлыстовство – религиозное мистическое сектантство, возникшее в России в конце XVII – начале XVIII в. Хлысты (искаж. «христы») считают возможным прямое общение со Св. Духом и воплощение Духа в наиболее праведных людей, которые таким образом становятся «христами». Собрания хлыстов имеют форму радений т. е. молений, сопровождающихся коллективными плясками, доводящими до иступления и «пророчеств». До революции 1917 г. хлыстовство существовало в 30 губерниях России. О хлыстовстве в понимании Булгакова см. в его статьях: «Человечность против человекобожия» // Русская мысль. 1916. № 5/6. С. 24–25; «На пиру богов» // В сборнике «Из глубины». М., 1991. С 307; «Агония» // Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 306–309.] западного типа, религиозно-соотносительное, а до известной степени и эквивалентное в тоносе[13 - Тонос – букв.: напряжение, в переносном смысле «сила»; понятие стоической философии, означающее напряжение, интенсивность космического духа (пневмы).] своем нашему русскому хлыстовству. Последнее же представляет собой всегда подстерегающий соблазн православия и в этом смысле как бы нормальный от него уклон в сторону мистического человекобожия, «христовства», т. е. тоже монофизитства. Если западное, германское хлыстовство зарождается и культивируется в дневном сознании и потому вообще страждет интеллектуализмом, то русское хлыстовство гнездится в ночном подсознании, его стихия враждебна рассудочности, – чужда интеллектуализма: в нем открывается глубина хаоса, первобездна, издревле ведомая Востоку. И таинственно перекликаются столь несходные и, однако, религиозно созвучные голоса: тезис и антитезис хлыстовства.
Хлыстовство соблазняется божественностью мира и человека: антропология подменяется антрополатрией[14 - Т. е. обожествление человека (от греч. antropos – человек и latreia – почитание, служение).], молитва – радением или медитацией, око веры – интеллектом, таинство – экстазом, религия мистикой. И однако здесь есть диалектически оправданная ступень религиозного самознания, хотя задерживаться и утверждаться только на ней – значит впадать в религиозную реакцию, в которой сгущаются мистические сумерки. В них же подготовляется и назревает предельное явление хлыста-человекобога, имеющего вступить в открытое соперничество с Богочеловеком: уже слышится понемногу эта «музыка будущею»[15 - Название статьи Р. Вагнера (1860) (см.: Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978. С. 494–539).]. Но тем с большей решительностью притязаниям «гнозиса»[16 - Гнозис – в пер. с греч. означает «знание», «познание», здесь: вообще наука.], нисколько он хочет заместить собой триединство веры, надежды и любви, должно противопоставляться смирение верующей любви, которая одна «никогда не престанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:8).
И однако пантеистическая правда «имманентизма» не должна быть просто отринута. Православие не в том, чтобы отрицать мир в его подлинности, но в том, чтобы делать центром человечности обращенное к Богу, молитвенно пламенеющее сердце, а не автономное мышление и не самоутверждающуюся волю: вне этого центра и мир перестает быть космосом, творением и откровением Божиим, но становится орудием для искусителя, обольщающим кумиром. Мироотрицание, с которым связано нечувствие истории, к сожалению, вообще легко вкрадывается в православное сознание, образуя в нем тоже свой уклон к монофизитству («трансцендентизму»[17 - Термин «трансцендентизм» С. Н. Булгаков образует от термина «трансцендентный» и употребляет не в строго философском значении. У Канта понятие «трансцендентного» (выходящего за пределы возможного опыта) противоположно понятию «имманентного» (целиком находящегося в пределах опыта) (см.: Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 3. С. 338). Кроме того, понятие «трансцендентное» соотносится у Канта с понятием «трансцендентальное»; к последнему он относит все формальные предпосылки познания (априорные формы чувственности: пространство и время; категории рассудка: субстанция, причинность и т. д.), хотя сам Кант иногда допускал смешение понятий «трансцендентное» и «трансцендентальное». Об употреблении этих терминов С. Н. Булгаковым см. наст. изд. С. 24 (прим.).]) или приближая его к дуализму манихейства (богумильство[18 - Богумильство – болгарско-византийская ересь, возникшая в X в. и в дальнейшем под разными названиями (манихеи, павликиане, катары, альбигойцы, стригольники), получившая значительное распространение в Европе. Богумилы отрицают христианский догмат троичности Бога, допускают дуализм добра и зла, материи и духа, презирают телесную природу человека, требуют строгого соблюдения безбрачия.]). Именно наличностью такого уклона диалектически и оправдывается его антитезис – «имманентизм». Соединить же правду того и другого, Найти не «синтез», но жизненное единство, в живом опыте познать Бога в мире, а мир в Боге – это предельная задача религиозного сознания, поставленная его историей. Но ранее нового откровения рождается взыскующий его новый человек, его творчество есть воля к этому откровению. Не должны быть закрываемы пути этого творчества, и, однако, должно быть аскетически блюдомо послушание веры, святоотеческое православие. Возможно ли? не раскалывается ли этим наш дух? не обрекается ли на безысходную хилость, раздвоенность, гамлетизм? не есть ли это просто нерешительность, стояние на перепутье? У нас нет своего ответа на эти укоры, он и не может быть дан человеческими силами, но невозможное человеку возможно для Бога. Вера и надежда говорят нам о чуде, т. е. о новом откровении, о творческом акте Бога в человеке. И напряженные вперяем взоры в обставшую мглу. Все чернее ложатся тени, обуевая сирые, немощные души; глубже бороздят трещины иссыхающую землю; все явнее уходит Церковь с исторического горизонта в пески пустыни. Но тем исступленнее рвется из сердца стенающий вопль: ей, гряди! повели волнению, помоги утопающим! Не нам, не нам, но Имени Твоему дай славу! И ответно слышатся сердцу обеты неложные, и «восклоняются» главы склоненные. Пусть же и эти страницы, тусклая запись о великих предвестиях, подобно письму в засмоленной бутылке, брошены будут в свирепеющую пучину истории. Лично для автора эта книга представляет собой род духовной автобиографии или исповеди. Она является обобщающим постижением, как бы итогом всего мною пройденного, столь ломаного и сложного – слишком сложного! – духовного пути, я в ней благодарно его озираю. В жизни час вечереющий на небосклоне духовном тихо восходит «звезда светлая и утренняя», и дальний доносится благовест из храма Света Незаходимого. Но зноем палящим томит еще день, круто подъемлется в гору кремнистая стезя, трудный видится путь впереди…
В декабре 1916 года. Москва
Введение
Природа религиозного сознания
1. Как возможна религия?
Современному философу, изощренному в «трансцендентальном методе», должен быть понятен смысл этого вопроса, который, как ни странно, доселе, однако, почти не ставился в трансцендентализме. Его постановка первоначально имеет в виду исключительно критический анализ религиозного сознания, вскрытие предпосылок, суждений, категорий – словом, всего того, что дано в этом сознании, в нем как бы подразумевается и не может быть из него удалено. Поэтому речь идет здесь о формальной или, так сказать, «трансцендентальной» природе религии, а не о том либо ином содержании религиозных представлений; далее, не о психологической стороне религии, но об условиях объективной значимости ее содержания, по отношению к которому психология представляет собой только среду, обстановку, фактическую наличность.
Проблема религии, поставленная «трансцендентально», быть может, всего удобнее вводит в философию религии, причем она представляет собой полную аналогию основным проблемам, исследованным в трех критиках: Канта. Вопрос, который ставится в «Критике чистого разума», таков: как возможна наука в качестве объективного, общезначимого знания, если, конечно, оно возможно? Само ее существование установляется при этом единственно силою факта, именно наличностью математического естествознания, на котором, как известно, «ориентировался» Кант. Фактической предпосылкой для наукоучения Канта явился, несомненно, Ньютон, и общий вопрос о возможности науки для Канта конкретно формулировался так: как возможен Ньютон, если и поскольку он возможен? Отвечая на этот чисто аналитический и критический вопрос, Кант установил, как ему это казалось (а многим кажется и до сих пор), основу общезначимых суждений для науки и в своем учении об опыте попытался выковать броню, предохраняющую от скептицизма, причем фактические условия познания были возведены им в ранг основоположных, категориальных синтезов.
Самый факт науки предшествует анализу и дает для него материал (критика приходит всегда post factum[19 - После свершившегося факта, задним числом (лат.).]), но она стремится удалить из этого факта то, что в нем есть фактичного, генетического, психологического, и выделить из него то, что образует в нем познавательную схему, значимость, смысл; другими словами, критика рассматривает факт лишь как место категорий или частный случай категориального синтеза. Установление категорий и их исследование, расценка, систематизация и составляют дело критики, но она никоим образом не в силах породить из себя какого бы то ни было факта, возникая лишь по поводу факта. И, строго говоря, вне отношения к этому факту ее выводы теряют приложимость и общезначимость: схемы Канта годны, чтобы характеризовать не человека вообще со всей неисчерпаемой полнотой его духа, но только «научного Человека», т. е. всего одну сторону этого духа и его деятельности.
Еще более аналогичным представляется наш вопрос содержанию «Критики практического разума», которая стремится нащупать рациональный скелет этического переживания или установить логику этики. Фактическая обусловленность и второй критики Канта еще более очевидна, чем даже в первом случае, ибо речь идет здесь уже не о познании, логика которого кажется для всех более или менее принудительной, но о направлении воли, природа которой состоит в свободе. Этика существует только для того, кто хочет быть этичным, но она совершенно не писана для insanitas moralis[20 - Морально невменяемые (лат.).], также как и для святости, т. е. для всех тех, кто находится по ту сторону добра и зла, выше или ниже этики. Следовательно, трансцендентальная характеристика этического суждения неразрывно связана с фактом этики, который может рассматриваться и по своей объективной значимости или смыслу, но может трактоваться и как простой психологизм, допускающий для себя лишь причинное или генетическое истолкование. Если этические суждения не имеют фактической принудительности науки или логической принудительности математики, то и все те гносеологические, метафизические и религиозные выводы, которые делает Кант на основании анализа этического переживания («практического разума»), лишены самостоятельной основы и держатся на этической интуиции. Свобода просачивается и подмывает твердый грунт логической необходимости, на котором стремился воздвигнуть плотину против скептицизма и интуитивизма Кант в своей «Критике практического разума».
Наибольшую близость наша проблема имеет к содержанию третьей критики Канта, именно к анализу эстетического суждения, облеченному в чрезмерно схоластическую и не соответствующую своему предмету форму. Как возможно опознание красоты и суждение о ней, «Geschmacksurtheil»[21 - Суждение вкуса (нем.) – термин И. Канта.], конечно, насколько оно возможно, и насколько красота нам доступна? Каковы неустранимые свойства эстетического суждения? Очевидно, что если возможно, с известной логической правомерностью, отрицать принудительность этики, как коренящейся в свободной воле, то уже совершенно естественно подвергать сомнению общезначимую эстетику и объективный характер красоты. Огромное количество людей остается как бы слепорожденными или непробужденными в области красоты, другие отрицают объективный смысл красоты, сводя ее к прихоти вкуса, к чистому субъективизму или «психологизму»; огромное количество людей способно скучать перед «Сикстиной»[22 - Подобное отношение к любимому творению Достоевского продемонстрировал Л. Н. Толстой. Вспоминая свою встречу с ним в Гаспре в 1902 г., С. Н. Булгаков писал: «Я имел неосторожность выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. «Да, привели меня туда, посадили на Forterbank (скамью для пыток), я тер ее, тер ж…, ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила малого, только всего, что же особенного?» И он искал еще новых кощунственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа» (Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 109). Правда, когда в 20?х годах у Булгакова состоялась его «вторая встреча» с «Сикстинской Мадонной», он, по его словам, «увидел и почувствовал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность» (там же).] и за Бетховеном и услаждаться дешевой олеографией и слащавым вальсом. Если это и не умаляет царственной природы красоты и не должно влиять на ее оценку для тех, кому она ведома, то этим, конечно, вносится элемент фактической обусловленности, интуитивности в трансцендентальный анализ чувства прекрасного. Страницы, посвященные Кантом анализу эстетического чувства, в этом смысле принадлежат симптоматически к числу наиболее у него интересных, ибо здесь с полной ясностью обнаруживается недостаточность его рационализма. Эстетическое чувство признается Кантом «совершенно неопределимым путем логических доказательств (Beweisgr?nde), как будто бы оно было только субъективным» (Kritik der Urtheilskraft, Reclam, 145)[23 - «Суждение вкуса вовсе не определимо доводами, как если бы оно было чисто субъективным» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 296).], и в то же время оно притязает на объективность и общезначимость своих оценок, что и приводит Канта к постановке вопроса: «как возможны синтетические суждения a priori в области эстетики?» Художественный вкус поэтому становится у Канта «Verm?gen»[24 - Способность, возможность, сила (нем.).] и рассматривается как аналогичная разуму способность a priori оценивать сообщаемость (Muttheilbarkeit) чувств, которые связаны с данным представлением (без посредства понятия) (160)[25 - «Вкус можно было бы даже определить как способность суждения о том, чему наше чувство придает всеобщую сообщаемостъ без посредства понятия» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 309).].
Нас здесь, однако, не интересует собственно эстетическая теория Канта и вообще принципы «Критики силы суждения»[26 - Современный перевод названия трактата И. Канта – «Критика способности суждения». Перевод С. Н. Булгакова, тем не менее, вполне правомерен. «У Канта в его третьей «Критике», – писал А. В. Гулыга, – в первую очередь речь идет о способности (или даже точнее о силе) оценки, приговора, который прямо или косвенно человек выносит окружающей действительности и самому себе» (Философия Канта и современность. М., 1974. С. 268–269).]. Мы отмечаем лишь то своеобразное употребление трансцендентально-аналитического метода, которое он получает здесь в руках своего творца, и особенно то расширенное его понимание, при котором ему ставится задача вскрыть условия не только научной и этической, но и эстетической значимости, причем анализ этих сторон сознания ведется не в субъективно-психологической, а в трансцендентальной плоскости. Трансцендентальное априори есть то, что присутствует во всяком отправлении данной деятельности сознания, без чего она вообще невозможна, именно не со стороны материи или содержания, но формы или категорий. С таким же правом, как относительно науки, этики и эстетики, может быть поставлена и трансцендентальная проблема религии. Раскрыть трансцендентальную природу религии, выявив категории религиозного сознания, установив здесь «синтетические суждения a priori» (как выразился бы Кант), и должен анализ религиозного сознания. К этому и сводится вопрос: как возможна религия? Для того чтобы правомерно поставить этот вопрос в трансцендентальном смысле, не нужно еще предрешать вопроса о характере религии и данном ее содержании; достаточно лишь того, чтобы можно было и относительно религии поставить то же самое если, какое подразумевается относительно науки, этики, эстетики: если. она есть. Для трансцендентального анализа религии довольно лишь условного предположения или допущения ее существования; наперед и a priori отвергнуть это скромное допущение вряд ли возможно даже в наш скептический век. Религия представляет собой настолько универсальный факт человеческой жизни, что просто его отрицать никому невозможно; если и скажут, что религия не может в настоящее время считаться свойственной в одинаковой мере всему человечеству, то ведь не надо забывать, что этот же аргумент еще в большей степени применим к эстетике, этике, даже науке.
Скепсис в отношении к постановке трансцендентальной проблемы религии, к возможности особой, еще четвертой, «критики» может, однако, с большей правдоподобностью основываться на другом соображении. Возможно оспаривать автономность, первообразность религиозного сознания, признавая за религией только гетерономное существование в качестве производного атрибута или же видя в ней лишь преходящую ступень развития сознания. Пример подобного отношения являет тот же Кант, который в число своих систематически распланированных критик, по мысли его, имеющих обследовать все основные направления и исчерпать все содержание сознания, не включил, однако, особой «критики силы религиозного суждения», между тем как известно, что трансцендентальная характеристика религии запрятана у него во все три его критики[27 - Нам могут возразить, что таковая четвертая критика у Канта в действительности имеется, это именно трактат «Die Religion innerhalb der blossen Vernunft» (написанный в 1793 году, т. е. уже после всех критик), в наибольшей степени дающий ему право на титул «философа протестантизма». Это сочинение в наших глазах является самым важным для понимания духа кантовской философии, ее интимного религиозного мотива, но оно задумано им не как особая «критика», что для Канта и характерно, но лишь как систематическое применение выводов трех критик к христианской догматике.]. И это потому, что он не видел в религии самостоятельной области духа, и не считал религиозного сознания совершенно особой, самобытной стихией сознания вообще, но рассматривал религию исключительно в плоскости этики, считая ее как бы музыкой морали и, пожалуй, ее восполнением. Вне же этики религия, по Канту, не имеет и не должна иметь особого бытия: независимая от морали религиозность, непосредственное почитание Бога, связанное с положительной религией, неизменно клеймится Кантом как «Abg?tterei, Fetischmachen, Afterdienst»[28 - Идолопоклонство, фетишизм, пережиток (нем.).] и под. (см., напр., в Die Religion innerhalb der blossen Vernunft, Reclam, 193 и passim), и лишь ограничение понимания религии рамками чистой морали предохраняет, по его мнению, теологию от превращения в «теософию или демонологию», а «религию – в теургию или идололатрию» (Kritik der Urtheilskraft, Reclam, 358)[29 - Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 496–497]. Религия вне морального ее трактования кажется ему идолопоклонством – Abg?tterei[30 - «Идолопоклонство в практическом смысле – это все еще та религия, которая мыслит высшее существо со свойствами, по которым и нечто другое, а не моральность сама по себе может быть подходящим условием для того, чтобы сообразоваться с его волей во всем, что в состоянии делать человек» (там же С. 497).]. Такое доктринальное предубеждение против самостоятельного трактования сущности религии и эта догматическая нетерпимость в отношении к религии, конечно, составляют личную особенность Канта и не имеют под собой твердой опоры даже в его собственном философствовании. В своем отношении к общей проблеме религии Кант был ослеплен и загипнотизирован собственной религиозной доктриной и потому не мог посвятить трансцендентальному исследованию этой проблемы того внимания, которого именно от нею требовала бы логика трансцендентализма и простая последовательность. Кант является, конечно, не единственным, кому доктринальная предубежденность закрывает глаза на самостоятельную проблему религии. Не говоря уже о многочисленных представителях слепого, фанатического атеизма, у которых практическое отношение к религии выражается в ненависти к ней (ecrasez Finfame)[31 - «Раздавите гадину!» (фр.) – слова Вольтера по поводу католической церкви.], здесь в первую очередь следует назвать представителей немецкого идеализма Фихте (периода Atheismusstreit)[32 - «Спор об атеизме» (нем.) – так называется литературный скандал, разразившийся в Иене в 1799 г. по поводу статьи И. Г. Фихте «Об основании нашей веры в божественное управление миром», опубликованной в 1798 г. в редактируемом Фихте «Философском журнале». В итоге Фихте вынужден был уйти в отставку с поста редактора журнала и переселиться в Берлин. «Спором об атеизме» завершается ранний, так называемый «иенский период» философского творчества Фихте.] и Гегеля, которые одинаково низводят религию с принадлежащего ей места и отдают в подчинение этике[33 - Мораль и религия образуют абсолютное единство: обе устремлены к сверхъестественному, первая – через образ действий, вторая – через образ мыслей… Религия без морали является суеверием, достойным сожаления, как ложная надежда, не способная увенчаться успехом. Мнимая мораль без религии, может быть, помогает вести добропорядочный образ жизни, поступать правильно, уклоняться от зла, но только из страха перед наказанием в чувственном мире, а совсем не из любви к добру, и существует из самой себя (нем.). В дальнейшем, однако, Фихте значительно изменил свою точку зрения. В «Наставлении к блаженной жизни» религиозная точка зрения противопоставляется им моральной как мистическая – дуалистической (см.: Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М., 1979. С. 215–222).] либо философии. Особенно показателен в этом отношении Гегель, для коего религия обозначает лишь ступень, и не самую высшую, в самосознании духа, и потому она преодолевается в философии.
Для того чтобы поставить трансцендентальную проблему религии, нужно только не иметь никакой предубежденности, ни метафизической или спекулятивной, ни догматической, ни эмпирической: нужно смотреть на жизнь открытыми, простыми глазами и уделить всемирно-историческому факту религии то внимание, которое ему естественно принадлежит, даже хотя бы в силу ее распространенности.
И прежде всего, что такое религия? в чем выражается своеобразие религиозного переживания? в чем состоит качество религиозного вообще? При ответе на этот вопрос в тех многочисленных определениях религии, которые делаются в религиозно-философской литературе, в большинстве случаев делается попытка установить те или иные черты (или задачи) истинной религиозности, иначе говоря, высказывается нормативное суждение о том, чем должна или может быть религия в наиболее совершенной форме. Напротив, данная нами постановка вопроса преследует пока чисто формальные цели, так сказать, трансцендентального анализа религии. Мы хотим установить те черты, без которых невозможна религия, гаснет религиозное сознание, которые его, следовательно, конституируют. Мы стремимся обнаружить – sit venia verbo[34 - С позволения сказать (лат.).] – основные категории религиозного суждения. Направление, в котором следует искать такое определение, дано уже в самом слове, выражающем основное существо религии и содержащем поэтому суммарную мысль о ней: religio – religare – связь, связывать, соединять. В религии устанавливается и переживается связь, связь человека с тем, что выше человека. В основе религиозного отношения лежит поэтому основной и неустранимый дуализм: в религии, какова бы она ни была в своей конкретной форме, есть всегда два начала, два полюса. Религия (как это справедливо заметил Фейербах) всегда есть раздвоение человека с самим собой, отношение его к себе как к другому, второму, не-одному, не-единствен-ному, но связанному, соединенному, соотносящемуся[35 - Эту мысль Л. Фейербах неоднократно высказывает в «Сущности христианства» и в «Лекциях о сущности религии». Например, в третьей «Лекции о сущности религии» он пишет: «Существо, которое человек противопоставляет себе в религии и теологии как совершенно иное, от него отличное, есть его собственное существо» (Фейербах Л. Избранные философские произведения/ М., 1955 Т. 2. С. 517).]. В религии человек ощущает, что его видят и знают, прежде чем он сам себя узнал, но вместе с тем он сознает себя удаленным, отторгнутым от этого благого источника жизни, с которым стремится восстановить связь, установить религию. Итак, в самой общей форме можно дать такое определение религии: религия есть опознание Бога и переживание связи с Богом. Если эту религиозную формулу перевести на язык философский, она получит такое выражение: религия есть переживание трансцендентного, становящегося постольку имманентным, однако при сохранении своей трансцендентности, переживание трансцендентно-имманентного. Не следует бояться логической противоположности этих признаков, ибо то, что ими выражается, в своем живом процессе гибче и пластичнее, нежели угловатые, неподвижные логические определения. Впрочем, на пути точного трансцендентального анализа здесь и нет выбора – в религии неизбежно приходится иметь дело с этой сопряженностью противоположных логических полюсов, их взаимоотталкиванием и постоянным притяжением: в категориях религии трансиендентно-имманентное есть основное формальное понятие, в котором осознается связь с божеством. Таково общечеловеческое понимание религии, communis opinio gentium[36 - Общечеловеческое мнение (лат.).], таково же и ее «трансцендентальное» определение, которое нам надлежит далее анализировать.
Для того чтобы утверждать своеобразную свою природу (а не быть только музыкой этики, или же незрелым, несовершенным философствованием), религия должна обладать своим особым органом. Религиозное переживание должно качественно отличаться от смежных и соприкасающихся с ним областей жизни духа. Религия должна иметь как бы свою особую логику, установлять свою собственную достоверность (как имеет ее хотя бы чувство прекрасного, орган эстетического восприятия), она должна иметь око умного видения, проникающего к действительности высшей, куда не досягает ни умственное, ни физическое око. Религиозное переживание удостоверяет человека в реальности иного, божественного мира не тем, что доказывает его существование или разными доводами убеждает в необходимости последнего, но тем, что приводит его в живую, непосредственную связь с религиозной действительностью, ему ее показывает. На подлинно религиозный путь вступил лишь тот человек, кто реально на своей жизненной дороге встретился с божеством, кого настигло оно, на кого излилось превозмогающей своей силой[37 - «Дважды рожденные» у Джемса. Точнее было бы сказать «у Френсиса Ньюмена», у которого У. Джемс заимствовал термин «дважды рожденные» (см.: Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 71). «Тип «один раз рожденного» сознания… развивается прямолинейно и естественно – без всяких душевных кризисов, без болезненного отчаяния…» (там же. С. 73). «Дважды рожденный» (напр., ап. Павел) обращается к Богу под влиянием сильного душевного потрясения, в одно мгновение ока совершается полный разрыв между старой жизнью и новой» (там же. С. 205).]. Религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни философский, ни эстетический, ни этический, и, подобно тому как умом нельзя познать красоту (а можно о ней только подумать), так лишь бледное представление о опаляющем огне религиозного переживания дается мыслью. Чтобы постигнуть религию, познать specificum религиозного в его своеобразии, нужно изучать жизнь тех, кто является гением в религии (как и для эстетики, законы красоты установляются ведь не курсами профессоров эстетики, но творческими созданиями художественного гения). Жизнь святых, подвижников, пророков, основателей религий и живые памятники религии: письменность, культ, обычай, словом, то, что можно назвать феноменологией религии, – вот что, наряду с личным опытом каждого, вернее вводит в познание в области религии, нежели отвлеченное о ней философствование.
Зовы и встречи[38 - Из истории одного обращения. «История одного обращения» носит автобиографический характер. Подробнее см.: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 36–37. Свой переход «от марксизма к идеализму» С. Н. Булгаков объясняет двумя причинами: любовью к Иисусу Христу, привитой ему с детства, и духовным влиянием Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева. К числу этих причин следует, разумеется, отнести и его «чудесную» встречу с «Сикстинской Мадонной», о которой он рассказывает в «Истории одного обращения».]. «Мне шел 24?й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и, после бурных кризисов и сомнений, в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу, погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки, по мере того как все более потухал свет детства. И тогда неожиданно пришло то… Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу…
Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы. Впервые видел я их. И вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь… Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость… А если… если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь? Но разве это возможно? разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет, разве вообще об этом может быть разговор? могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха пред «научностью» и ее синедрионом?[39 - Верховный суд иудеев, приговоривший Иисуса Христа к распятию. Здесь употребляется в ироническом смысле как собрание ученых, обладающих истиной.] О, я был, как в тисках, в плену у «научности», этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков! Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей! И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу… Закат догорел. Стемнело. И то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, – от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось… И Бог отошел. Я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера. И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни.
Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаевала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное днесь. Ныне отпущаеши[40 - «Ныне отпускаешь раба Твоего» – слова Симеона (Лк. 2:29), которому было предсказано Св. Духом, что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа.], звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе: победы над смертью! Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красой первоздания. Но не было слов, не было Имени, не было «Христос воскресе», воспетого миру и горным высям. Царило безмерное и властное Оно, и это «Оно» фактом бытия своего, откровением своим, испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики моей «научности». И не умер в душе этот миг свидания, этот ее апокалипсис, брачный пир, первая встреча с Софией[41 - Для понимания «первой встречи с Софией» С. Н. Булгакова важное значение имеет поэма В. С. Соловьева «Три свидания», в которой он поэтически описывает свои, аналогичные булгаковской, три «встречи» с Софией (см.: Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви…» Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990. С. 118–124).]. Я не знал и не понимал тогда, что сулила мне эта встреча. Жизнь дала новый поворот, апокалипсис стал превращаться во впечатления туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое. Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я в робком и тихом девичьем взоре, у иных берегов, под иными горами. Тот же свет светился в доверчивых, испуганных и кротких, полудетских глазах, полных святыни страдания. Откровение любви говорило об ином мире, мною утраченном[42 - Имеется в виду Елена Ивановна Токмакова, ставшая 14 января 1898 г. женой С. Н. Булгакова. «Настоящим письмом, – писал Булгаков своему другу М. О. Гершензону 9 января 1898 г., – имею известить Вас, что свадьба моя окончательно назначена на вечер 14?го января. Утром пятнадцатого мы едем, заедем в Ливны и 21?го в Москве (22?го у меня лекция). О своей жизни здесь не распишешься: такие моменты или дни не выражаются словами» (ОР РГБ. Ф. 746. К. 29. Ед. хр. 22. Л. 23). Свадьба состоялась в Кореизе (в Крыму), где в последующие годы С. Н. Булгаков проводил летние месяцы в имении своего тестя, крымского винодела И. Ф. Токмакова. Из Крыма же в канун Нового, 1923 г. Булгаков вместе с семьей был выселен за пределы России по решению советского правительства.].
* * *
Пришла новая волна упоения миром. Вместе с «личным счастьем» первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия… И вдруг нежданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова.
Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger[43 - Цвингер – название барочного архитектурного ансамбля, в котором размещается Дрезденская галерея.] с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, – знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце»[44 - Неточная цитата из Евангелия от Луки: «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его: се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (2:24).], Он Голгофу… Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо… Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез…
Я возвратился на родину из-за границы потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. Земля ползла подо мной неудержимо. Я упорно работал головой, ставя «проблему» за «проблемой», но внутренне мне становилось уже нечем верить, нечем жить, нечем любить. Мною владела мрачная герценовская резиньяция:.. Но чем больше изменяли мне все новые боги, тем явственнее подымались в душе как будто забытые чувства: словно небесные звуки только и ждали, когда даст трещину духовная темница, мною самим себе созданная, чтобы ворваться к задыхающемуся узнику с вестью об освобождении. Во всех моих теоретических исканиях и сомнениях теперь все явственнее звучал мне один мотив, одна затаенная надежда – вопрос: а если? И то, что загорелось в душе впервые со дней Кавказа, все становилось властнее и ярче, а главное – определеннее: мне нужна была не «философская» идея Божества, а живая вера в Бога, во Христа и Церковь. Если правда, что есть Бог, то, значит, правда все то, что было мне дано в детстве, но что я оставил. Таков был полусознательный религиозный силлогизм, который делала душа: ничего или… все, все до последней свечечки, до последнего образка… И безостановочно шла работа души, незримая миру и неясная мне самому. Памятно, как бывало на зимней московской улице, на людной площади, – вдруг загорался в душе чудесный пламень веры, сердце билось, глаза застилали слезы радости. В душе зрела «воля к вере», решимость совершить наконец безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, «от марксизма» и всяких следовавших за ним измов к… православию[45 - Об идейной эволюции С. Н. Булгакова «от марксизма к… православию» см.: Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896–1903). СПб., 1903; Его же. From marxism to sophiology // Revue of Religion. 1937. Vol. 1. № 4. P. 361–368.]. О, да, это конечно, скачок к счастью и радости, между обоими берегами лежит пропасть, надо прыгать. Если придется потом для себя и для других «теоретически» оправдывать и осмысливать этот прыжок, потребуется много лет упорного труда в разных областях мысли и знания, и всего этого будет мало, недостаточно. А для того чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в православие, вернуться к его «практике», нужно было совершить еще долгий, долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту. И тем не менее в сущности вопрос был уже решен: с того берега смотрел я на предстоящий мне путь, и радостно было сознавать это. Как это совершилось и когда, – кто скажет? Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свои прозрения? Но с некоторого времени я со всею достоверностью узнал, что это уже совершилось. И от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг – приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм, увидел я (тогда «депутат»[46 - С. Н. Булгаков был избран депутатом II Государственной Думы от Орловской губернии как беспартийный «христианский социалист». Он девять раз поднимался на ораторскую трибуну: 24 февраля, 5 марта, 7 марта, 12 марта, 15 марта, 27 марта, 7 мая, 15 мая и 17 мая 1907 г. (см.: Государственная Дума. Второй созыв. Стенографический отчет. СПб., 1909. Т. 1. Стб. 27–28, 84–85, 210–212, 397–401, 546–548, 1245–1249; Т. 2. Стб. 281–284, 577–580, 749–759). II Думе посвящены две статьи С. Н. Булгакова: «Церковный вопрос в Гос. Думе», «Из думских впечатлений. Прения о военно-полевых судах» // Век. 1910. № 10, 12. Об участии С. Н. Булгакова в работе II Государственной Думы и о его встрече (вместе со Струве, Челноковым и Маклаковым) с П. А. Столыпиным накануне ее закрытия см.: Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. London, 1991. С. 246–247.]) причащающихся под волнующие звуки: «Вечери Твоея тайныя»… Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука…
Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила… Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы «для готовящихся к исповеди», я почти выбежал из церкви, «изшед вон, плакася горько». В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился… в келье у старца. Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности – я знал это тогда достоверно – со мной случилось чудо… Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие как капля пред океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня, в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», – умиленно говорил он потом…
И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы и длинными рядами белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят грядами леса. Вдруг среди этой тишины, откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола, затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили ко всенощной. Словно впервые, как новорожденный, слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую: и для меня, и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую Кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это чтение Евангелия, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить святейшего Тела и Крови Господа моего»[47 - См.: Мф. 26: 6-13.]
* * *
Итак, в основе религии лежит пережитая в личном опыте встреча с Божеством, и в этом заключается единственный источник ее автономии. Как бы ни кичилась мудрость века сего; бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о религии, знают ее сущность. Связь же между религией и другими сторонами жизни духа, которая несомненно существует, имеет не первообразный, но производный, не онтологический, но психологический характер.
Религия зарождается в переживании Бога (под каким бы обликом ни совершилось это богооткровение). Но, чувствуя Бога, человек тем самым ощущает себя в «мире», другими словами, для него открывается основная религиозная антитеза, неизменно сопровождающая религиозную жизнь, – противоположность Бога и мира. Как будто от луча света, упавшего с высоты и свыше озарившего собою мир, загорается в душе сознание мира божественного, а вместе и установляется грань между. горним и дольним, их разделяющая, но вместе и соединяющая. И в этом свете по-иному является этот мир, получается совершенно другой вкус, новое ощущение бытия – чувствование мира как удаленного от Бога, но вместе с тем от Него зависящего. В душе человеческой появляется сознание неабсолютности и внебожественности, а следовательно, относительности и греховности своего бытия, но одновременно зарождается и стремление освободиться от «мира», преодолеть его в Боге; другими словами, вместе с религиозным самосознанием в человеке родится и чувство зла, вины, греха, отторженности от Бога, а равно и потребность спасения и искупления. Подняться из плена мира к Богу, из порабощенности в царство свободы – такую жажду пробуждает в душе всякая религия, и тем глубже, чем выше и совершеннее она сама. Поэтому религиозное мироощущение неизменно сопровождается известным разочарованием в этом мире, пессимизмом в отношении к данному его состоянию, тем, что иногда зовется «мировой скорбью», но в то же время пессимизм этот есть только тень, которую бросает свет радостной веры, сулящей победу над миром, подающей надежду на освобождение и спасение. Мир утрачивает свою безусловность и свою единственность: над миром и в мире есть Бог, такова радостная весть всякой религии. Потому вообще религия – конечно, живая религия – есть радость всех радостей, хотя она и связывается с относительным пессимизмом, пробуждением от сна самодовольства и миродовольства.
Впрочем, если осознанная потребность искупления и спасения, как и мировая скорбь, психологически располагает к религии, однако сама по себе она еще не является ею, как поставленный вопрос, хотя уже предполагает возможность разрешения, все же сам не становится еще ответом. Для религиозного самоощущения решающим остается одно: прикосновение Божества, вера, «яко есть»[48 - На значение пессимизма и потребности искупления указывают с особой настойчивостью философы пессимизма Гартман и Древе. В глазах последнего «alle Religion ihrem Wesen nach ist Erl?sungsreligion», и для религиозно-философского исследования ставится поэтому задача показать, «wie das religi?se Verh?ltniss gedacht werden muss, um dem Erlosungswillen ohne Widerspruch mit sich selbst die erstrebte Befriedigung zu verschaffen» (Drews A. Die Religion als Selbstbewusstsein Gottes. 1906. S. 62). Всякая религия есть по сути религия спасения… как следует мыслить религиозное отношение, чтобы через спасение добиться желаемого удовлетворения без противоречия с самим собой (нем.). Чрезмерная подчеркнутость этого мотива в их построениях всецело связана с их общей и религиозной метафизикой.].
Основное переживание религии, встреча с Богом, обладает (по крайней мере на вершинных своих точках) такой победной силой, такой пламенной убедительностью, которая далеко позади оставляет всякую иную очевидность. Его можно позабыть или утратить, но не опровергнуть. Вся история человечества, что касается религиозного его самосознания, превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку или просто нелепость, если не признать, что она опирается на живой религиозный опыт, т. е. если не принять, что все народы как-то видели и знали свои божества, знали о них не из одного «катехизиса». У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова: и сказал мне Бог. Приходилось ли нам когда-нибудь задумываться над этими словами? Пытались ли мы понять их, хотя отдаленно переведя эти слова на свой религиозный опыт? «И сказал мне Бог»! Что это: неужели же только галлюцинация, самообман, шарлатанство, литературный прием, или?.. А если правда… если правда, что написано в этих книгах: Бог говорил, а человек слушал, слышал… Бога, конечно, не физическим органом слуха, но слышал сердцем, всем существом своим, и слово Божие звучало громче, чем все громы мира, убедительнее и достовернее, чем все его разумение.,
Из интимного письма[49 - Отрывок «Из интимного письма» также носит автобиографический характер: 27 августа 1909 г. умер от нефрита сын С. Н. Булгакова. «Как изобразить Вам пережитое? – писал он 27 сентября 1909 г. Г. А. Рачинскому. – Скажу одно: я еще никогда не переживал такой муки в своей в общем благополучной, хотя и не свободной от утрат жизни. Мальчик этот наш (Ивашек, 3 л. 7 мес.) был особенный, необыкновенный, с небесным светом в очах и улыбке. Всегда вспоминаю, что родился он в Христову ночь, когда к заутрене звонили колокола. Вестник неба и ушел на небо» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2689. Л. 2).]. «Я не хочу прощать небу его страданий, его распятия. Как я могу простить то, чего я не умею понять! Я и не должен прощать, ибо Бог осудил ведь своих «адвокатов» около Иова, которые все объяснили и обо всем рассудили[50 - Иов. 42:7.]. Мне казалось, – кажется и теперь, через много лет спустя, – что Бог и не хотел от меня легкого примирения, ибо я должен был принять орудие в сердце. Нелегка ты, жертва Авраама», не из благополучной, но из растерзанной души исторгался пред лицом невинной жертвы вопль мой: прав Ты, Господи, и правы суды Твои! А я это говорил всем сердцем своим! О, я не бунтовал и не роптал, ибо жалок и малодушен был бы бунт, но я не хотел мириться, ибо постыдно было бы и примирение. Отец молча ответил мне: у изголовья его тела стало Распятие Единородного Сына. И я услышал этот ответ и склонился пред ним, но неповинные страдания и чей-то сарказм густым, непроницаемым облаком легли между Распятием и его телом, и – я твердо знаю это – здесь, в этом облаке, тайна и моей собственной жизни. Знал я и тогда, что очень легко, соблазнительно легко постараться забыть об этом облаке, обойти его как-нибудь, – ведь неприятно же носить в душе нечто совсем непонятное, да и пристойнее жить в мире с важными особами… Иначе же – только подвигом, крестом целой жизни могу я рассеять это облако, – оно может рассеяться, это я тоже знал достоверно, оно есть тень моего собственного греха, ибо ведь я сам распял его своими грехами. И об этом говорил он мне в ту голгофскую ночь: «Неси меня, папа, кверху, – пойдем с тобою кверху!» О, пойдем, пойдем, дитя мое, мой вождь, учитель, ангел-хранитель мой!
Но здесь начинается невыразимое словом….
Святой мой, у святыни мощей твоих, у чистого твоего тела, белый мой, светлый мальчик, узнал я, как говорит Бог, понял, что значит: Бог сказал! В новом, никогда доселе неведомом ясновидении сердца – вместе с крестной мукой сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе воцарялся Бог. Сердце мое отверзлось на боль и муку людей, – пред ним раскрывались доселе чуждые и потому закрытые сердца с их болью и горем. Единственный раз в жизни понимал я, что значит любить не человеческой, себялюбивой и корыстной любовью, но божескою, какою Христос нас любит. Как будто завеса, отделявшая меня от других, спала, и мне открылся в сердцах их весь мрак, горечь, обида, озлобление, страдание. И в несказанном восторге, исступлении, самозабвении говорил я тогда, – ты помнишь это, мой белый! – говорил я: мне Бог сказал, я так же просто, и тебя слыша, прибавлял, что и ты мне сказал. И Бог говорил мне тогда, и ты говорил! О, теперь я живу опять во мраке и холоде и лишь по памяти могу говорить об этом, но я уразумел, что это значит: Бог сказал. Тогда раз навсегда я узнал, что Бог действительно говорит, а человек слышит и – не испепеляется. Я знаю теперь, как Бог говорит пророкам. О, ангел мой светлый! Это может показаться безумием и самоослеплением, хулой и кощунством, но ведь ты же знаешь, что это не так, тебе я не могу сказать неправды. Я знал тогда с последней достоверностью, что Бог говорил мне, и так говорил Он и пророкам. О, иное и иначе говорил пророкам, и они были иные, – неизмеримую бездну между мною и ими знал и ощущал я тогда, не меньше знаю и теперь. Но Бог – один, и Его безмерное к нам снисхождение одинаково, и пусть между моей темной, греховной душой и святою душою пророка лежит великая бездна, но ведь еще неизмеримее та бездна, которая лежит между Богом и всякою тварью, – и, как тварь, ведь и я, и пророки – одно, и Он говорит твари… Забыть это и усомниться после этого значит для меня умереть духовно. Можно потерять свое сокровище, испугаться пред его защитой, но и недостойно брошенное и утраченное, оно есть все-таки сокровище…
«Вем человека о Христе, который вознесен был на третье небо»[51 - 2 Кор. 12:2.]… Читали ли эти слова? задумывались ли, что они означают? Если это не бред или самообман, если правда то, что здесь написано, и было, как написано, то что же это значит для видавшего? каким взором должен был он смотреть на мир после виденного, когда небо открылось!..
Сергей Николаевич Булгаков
Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.
С. Н. Булгаков
Свет Невечерний. Созерцания и умозрения
Памяти отшедших:
отца моего, г. Ливен протоиерея, о. Николая Васильевича Булгакова и матери моей Александры Косминичны урожд. Азбукиной
с чувством духовной верности посвящается
От автора
В этом «собранье пестрых глав»[1 - Цитата из Посвящения к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.] мне хотелось выявить в философствовании или воплотить в умозрении религиозные созерцания, связанные с жизнью в Православии. Такая задача хотя и подавляет непомерностью, но и овладевает душой с неотступностью. И подобный замысел не ограничивается литературой, им предполагается и творческий акт духовной жизни: книга, но уже и не книга, не только книга! Лишь краем души касаемся мы жизни Церкви, отягченные грехом, затемненные «психологизмом», но даже и из таких касаний почерпаем силу, которая живит и оплодотворяет творчество. В свете религиозного опыта, как ни скудна его мера, зрится и оценивается «мир сей» с его тревогами и вопрошаниями.
Господи!
Путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке.
Ты, Свет Невечерний, Нас осияй!
(А. С. Хомяков. Вечерняя песня[2 - Стихотворение А. С. Хомякова «Вечерняя песня» (1853), по словам С. Н. Булгакова стало для всей его книги «своего рода музыкальным императивом. Стихотворение пронизано чувством просветленной скорби по умершей в начале 1852 г. жене А. С. Хомякова и, может быть, поэтому оказалось особенно созвучным настроению Булгакова, пережившего в 1909 г. смерть сына. По этой причине здесь уместно привести стихотворение Хомякова полностью:Солнце скрылось; дымятся долины;Медленно сходят к ночлегу стада;Чуть шевелятся лесные вершины,Чуть шевелится вода.Ветер приносит прохладу ночную;Тихою славой горят небеса…Братья, оставим работу дневную,В песни сольем голоса…Ночь на востоке с вечерней звездою;Тихо сияет струей золотоюЗападный край.Господи, путь наш меж камней и терний,Путь наш во мраке… Ты, свет невечерний,Нас осияй!В мгле полунощной, в полуденном зное,В скорби и радости, в сладком покое,В тяжкой борьбе –Всюду сияние солнца святого,Божия мудрость и слава и слово,(Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. М., 1969. С. 132)«Не правда ли, что эти стихи поют? – писал Хомяков в нисьме к П. М. и П. А. Бестужевым. – Я ими очень доволен. Они не переложение церковной песни, но отчасти напоминают чувство, которое выражено в песне «Свете тихий». Впрочем, они грустные и не так торжественны; но вечер и молитва, кажется, выражены» (там же, с. 568).])
Скудно взыскуется и слабо брезжит в душе этот свет через темное облако греха и смятенности, труден путь чрез современность к Православию и обратно. Однако от всякой ли можно освободиться трудности и должно освобождаться? Сколь ни страстно жажду я великой простоты, белого ее луча, но отрицаюсь столь же лживого, самообманного упрощения, этого бегства от духовной судьбы, от своего исторического креста. И лишь как искатель религиозного единства жизни, взыскуемого, но не обретенного, выступаю я в этой книге. Пусть духовное существо современности изъязвлено проблемами и источено сомнениями, но и в ее сердце не оскудевает вера, светит надежда. И мнится, что в мучительной сложности этой таится своя религиозная возможность, дана особая задача, свойственная историческому возрасту, и вся наша проблематика с ее предчувствиями и предвестиями есть тень, отбрасываемая Грядущим[3 - Ср. с высказыванием Т. Моммзена, которое любил повторять В. И. Иванов: «Мировые события, идя на землю, бросают вперед свои тени» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 84).]. Осознать себя со своей исторической плотью в Православии и чрез Православие, постигнуть его вековечную истину чрез призму современности, а эту последнюю увидать в его свете – такова жгучая, неустранимая потребность, которая ощутилась явно с 19 века, и чем дальше, тем становится острее[4 - Ср. с мыслью В. И. Иванова, которую он впервые высказал 10 февраля 1911 г. на торжественном заседании московского Религиозно-философского общества, посвященном памяти В. С. Соловьева (статья «Религиозное дело Владимира Соловьева»): «Труднейшее постижение для русской интеллигенции (и в этом, по-видимому, может, трагическая вина ее так называемой «оторванности» от народной души) – есть ясное уразумение идеи Церкви» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 298).].
Руководящие идеи этого философствования объединяются не в «системе», но в некоторой сизигии[5 - «Сизигия» в переводе с древнегреч. буквально означает «соединение», «сопряжение».], органической сочлененности, симфонической связанности. От такого философско-художественного замысла требуется, с одной стороны, верность и точность саморефлексии в характеристике религиозного опыта, при выявлении «мифа», а с другой – нахождение соответственной формы, достаточно гибкой и емкой для его раскрытия. Но и при наличии этих условий остаются нелегко уловимы внутренние ритмы мысли, ее мелодический рисунок и контрапункт, характер отдельных частей композиции: философское искусство принадлежит к числу наименее доступных. Это приходится сказать даже о Платоне, явившем недосягаемые образцы философской поэзии в своих диалогах, где не столько доказуется истина, сколько показуется ее рождение. Конечно, такое искусство не есть лишь неотъемлемая принадлежность одной философской музы Платона, оно вообще связано с определенным стилем философствования. Такого стиля инстинктивно и сознательно ищет и русская религиозная философия, и для нее это искание диктуется не притязательностью, но внутреннею необходимостью, своего рода музыкальным императивом.
В связи с общим замыслом чисто исследовательская часть в изложении сведена к минимуму: автор сознательно отказывается от стремления к исчерпывающей полноте библиографического и ученого аппарата. Внимание читателя привлекается лишь к таким страницам истории мысли, которые имеют прямое значение для более отчетливого выявления собственных идей автора (хотя, конечно, при этом и прилагается забота, чтобы при эпизодическом изложении не было существенных пробелов). В интересах четкости и стройности изложения в книге введено два шрифта, причем историко-литературные экскурсы и сопоставления напечатаны более мелко и могут быть даже опускаемы при чтении без разрыва целостной ткани мысли.
Книга эта писалась медленно и с большими перерывами (в течение 1911–1916 годов), а заканчивалась она уже под громы мировой войны. Для гуманистического мировоззрения, победно утвердившегося в «новое время», война эта поистине явилась духовной катастрофой, неожиданной и опустошительной. Она разбила обветшавшие скрижали и опрокинула общечтимые идолы. Напротив, в религиозном мироощущении катастрофа эта внутренне предугадывалась, как надвигающаяся вместе с созреванием исторической жатвы. Во всяком случае, последние события нас не заставили ни в чем существенном пересмотреть или изменить основные линии мировоззрения, верований, устремлений, отразившихся в этой книге, они даже придали им еще большую определенность и трагический пафос. Грандиозность происходящего не вмешается в непосредственное сознание участников, а катастрофическому чувству жизни упрямо (и по-своему даже правомерно) противится обыденное, «дневное» сознание с его привязанностью к «месту»[6 - «Любовь к месту» (amor loci) как синоним мещанства С. Н. Булгаков подробно анализирует и критикует в брошюре «Война и русское самосознание» (М., 1915).]. Лишь насколько нам удается в религиозном созерцании подняться выше своей эмпирической ограниченности и слабости, мы ощущаем наступление великих канунов, приближение исторических свершений. «Когда ветви смоковницы становятся мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» (Мф. 24:32). Историческое время оплотнилось, и темп событий становится все стремительнее. Не по внешним знамениям, но по звездам, восходящим на небе духовном, внутренним зрением нужно ориентироваться в этой сгущающейся тьме, прорезаемой зловещими молниями. И если может показаться иным, что неуместно во время всеобщего землетрясения такими «отвлеченностями», то нам, наоборот, представляется обострение предельных вопросов религиозного сознания как бы духовной мобилизацией для войны в высшей, духовной области, где подготовляются, а в значительной мере и предрешаются внешние события. В частности, давно уже назревало и то столкновение германства с православно-русским миром, которое внешне проявилось ныне, не теперь только началась война духовная. С германского запада к нам давно тянет суховей, принося иссушающий песок, затягивая пепельной пеленою русскую душу, повреждая ее нормальный рост. Эта тяга, став ощутительной с тех пор, как Петр прорубил свое окно в Германию[7 - Замечание С. Н. Булгакова о том, что «Петр прорубил свое окно в Германию», а не в Европу, является не случайной оговоркой. Незадолго до смерти зимой 1941/42 г. в статье «Расизм и христианство» он писал: «Есть особая предустановленность во взаимоотношении Германии и России, род эроса, поработительного со стороны германской и пассивно-притягательного с русской…» (Подробнее см.: Булгаков С. Н. «Христианство и еврейский вопрос». Paris, 1991.C. 110–112)], к началу этого века сделалась угрожающей. И, конечно, существеннее было здесь не внешнее «засилие» Германии, но духовное ее влияние, для которого определяющим стало своеобразное преломление христианства через призму германского духа. Это – арианское монофизитство[8 - Арианство – ересь, возникшая в IV в, н. э.; основатель ереси Арий, александрийский протопресвитер, учил, что Иисус Христос является творением Бога, но не Богом.Монофизитство – христианское религиозно-философское учение, отрицающее возможность смешения в Иисусе Христе двух природ: божественной и человеческой. Согласно этому учению, Иисус Христос был не богочеловеком, а Богом. Говоря об «арианском монофизитстве», С. Н. Булгаков употребляет последний термин в его этимологическом, а не историческом значении.], все утончающееся и принимающее разные формы: «имманентизма»[9 - Под «имманентизмом» С. Н. Булгаков подразумевает здесь не только так называемую имманентную школу (В. Шуппе, Р. Шуберт-Зольдерн, М. Кауфман и др.), но и неокантианство; сторонники «имманентизма» в духе учения И. Канта считали, что предметный мир не объективно дан, а конструируется сознанием (т. е. «имманентен», внутренне присущ сознанию), отрицая вместе с тем существование «вещи в себе».] и «монизма» – от протестантства до социалистического человекобожия[10 - Критике «социалистического человекобожия» посвящен ряд статей С. Н. Булгакова в книге «Два града» (в 2 т. М., 1911): «Религия человекобожия у Л. Фейербаха», «К. Маркс как религиозный тип» (т. 1); «Героизм и подвижничество» (т. 2).]. И для сознательного противления нужно прежде всего познать и понять угрожающую стихию, столь многоликую и творчески могучую. Лютер, Бауэр, А. Ричль, Гарнак, Эккегарт, Я. Беме, Р. Штейнер; Кант с эпигонами[11 - Под «эпигонами Канта» С. Н. Булгаков имеет в виду неокантианцев. Неокантианство как направление в немецкой идеологической философии сформировалось в конце XIX в. после выхода в свет книги О. Либмана «Кант и эпигоны» (1865). Наибольшую известность получили в дальнейшем Баденская (В. Вин-дельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк и др.) и Марбургская (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер и др.) школы неокантианства. В России идеи неокантианства активно пропагандировала и развивала группа философов, издателей журнала «Логос» (Б. В. Яковенко, Ф. А. Степун, С. И. Гессен и др.).], Фихте, Гегель, Гартман; Геккель, Фейербах, К. Маркс, Чемберлен – все эти столь далеко расходящиеся между собою струи германства в «имманентизме», однако, имеют общую религиозную основу. Столь слабо ощущается в нем расстояние между Творцом и творением, что он роковым образом приближается к миро-и человекобожию разных оттенков и проявлений. Но все это в то же время есть не что иное, как многоликое хлыстовство[12 - Хлыстовство – религиозное мистическое сектантство, возникшее в России в конце XVII – начале XVIII в. Хлысты (искаж. «христы») считают возможным прямое общение со Св. Духом и воплощение Духа в наиболее праведных людей, которые таким образом становятся «христами». Собрания хлыстов имеют форму радений т. е. молений, сопровождающихся коллективными плясками, доводящими до иступления и «пророчеств». До революции 1917 г. хлыстовство существовало в 30 губерниях России. О хлыстовстве в понимании Булгакова см. в его статьях: «Человечность против человекобожия» // Русская мысль. 1916. № 5/6. С. 24–25; «На пиру богов» // В сборнике «Из глубины». М., 1991. С 307; «Агония» // Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 306–309.] западного типа, религиозно-соотносительное, а до известной степени и эквивалентное в тоносе[13 - Тонос – букв.: напряжение, в переносном смысле «сила»; понятие стоической философии, означающее напряжение, интенсивность космического духа (пневмы).] своем нашему русскому хлыстовству. Последнее же представляет собой всегда подстерегающий соблазн православия и в этом смысле как бы нормальный от него уклон в сторону мистического человекобожия, «христовства», т. е. тоже монофизитства. Если западное, германское хлыстовство зарождается и культивируется в дневном сознании и потому вообще страждет интеллектуализмом, то русское хлыстовство гнездится в ночном подсознании, его стихия враждебна рассудочности, – чужда интеллектуализма: в нем открывается глубина хаоса, первобездна, издревле ведомая Востоку. И таинственно перекликаются столь несходные и, однако, религиозно созвучные голоса: тезис и антитезис хлыстовства.
Хлыстовство соблазняется божественностью мира и человека: антропология подменяется антрополатрией[14 - Т. е. обожествление человека (от греч. antropos – человек и latreia – почитание, служение).], молитва – радением или медитацией, око веры – интеллектом, таинство – экстазом, религия мистикой. И однако здесь есть диалектически оправданная ступень религиозного самознания, хотя задерживаться и утверждаться только на ней – значит впадать в религиозную реакцию, в которой сгущаются мистические сумерки. В них же подготовляется и назревает предельное явление хлыста-человекобога, имеющего вступить в открытое соперничество с Богочеловеком: уже слышится понемногу эта «музыка будущею»[15 - Название статьи Р. Вагнера (1860) (см.: Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978. С. 494–539).]. Но тем с большей решительностью притязаниям «гнозиса»[16 - Гнозис – в пер. с греч. означает «знание», «познание», здесь: вообще наука.], нисколько он хочет заместить собой триединство веры, надежды и любви, должно противопоставляться смирение верующей любви, которая одна «никогда не престанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:8).
И однако пантеистическая правда «имманентизма» не должна быть просто отринута. Православие не в том, чтобы отрицать мир в его подлинности, но в том, чтобы делать центром человечности обращенное к Богу, молитвенно пламенеющее сердце, а не автономное мышление и не самоутверждающуюся волю: вне этого центра и мир перестает быть космосом, творением и откровением Божиим, но становится орудием для искусителя, обольщающим кумиром. Мироотрицание, с которым связано нечувствие истории, к сожалению, вообще легко вкрадывается в православное сознание, образуя в нем тоже свой уклон к монофизитству («трансцендентизму»[17 - Термин «трансцендентизм» С. Н. Булгаков образует от термина «трансцендентный» и употребляет не в строго философском значении. У Канта понятие «трансцендентного» (выходящего за пределы возможного опыта) противоположно понятию «имманентного» (целиком находящегося в пределах опыта) (см.: Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 3. С. 338). Кроме того, понятие «трансцендентное» соотносится у Канта с понятием «трансцендентальное»; к последнему он относит все формальные предпосылки познания (априорные формы чувственности: пространство и время; категории рассудка: субстанция, причинность и т. д.), хотя сам Кант иногда допускал смешение понятий «трансцендентное» и «трансцендентальное». Об употреблении этих терминов С. Н. Булгаковым см. наст. изд. С. 24 (прим.).]) или приближая его к дуализму манихейства (богумильство[18 - Богумильство – болгарско-византийская ересь, возникшая в X в. и в дальнейшем под разными названиями (манихеи, павликиане, катары, альбигойцы, стригольники), получившая значительное распространение в Европе. Богумилы отрицают христианский догмат троичности Бога, допускают дуализм добра и зла, материи и духа, презирают телесную природу человека, требуют строгого соблюдения безбрачия.]). Именно наличностью такого уклона диалектически и оправдывается его антитезис – «имманентизм». Соединить же правду того и другого, Найти не «синтез», но жизненное единство, в живом опыте познать Бога в мире, а мир в Боге – это предельная задача религиозного сознания, поставленная его историей. Но ранее нового откровения рождается взыскующий его новый человек, его творчество есть воля к этому откровению. Не должны быть закрываемы пути этого творчества, и, однако, должно быть аскетически блюдомо послушание веры, святоотеческое православие. Возможно ли? не раскалывается ли этим наш дух? не обрекается ли на безысходную хилость, раздвоенность, гамлетизм? не есть ли это просто нерешительность, стояние на перепутье? У нас нет своего ответа на эти укоры, он и не может быть дан человеческими силами, но невозможное человеку возможно для Бога. Вера и надежда говорят нам о чуде, т. е. о новом откровении, о творческом акте Бога в человеке. И напряженные вперяем взоры в обставшую мглу. Все чернее ложатся тени, обуевая сирые, немощные души; глубже бороздят трещины иссыхающую землю; все явнее уходит Церковь с исторического горизонта в пески пустыни. Но тем исступленнее рвется из сердца стенающий вопль: ей, гряди! повели волнению, помоги утопающим! Не нам, не нам, но Имени Твоему дай славу! И ответно слышатся сердцу обеты неложные, и «восклоняются» главы склоненные. Пусть же и эти страницы, тусклая запись о великих предвестиях, подобно письму в засмоленной бутылке, брошены будут в свирепеющую пучину истории. Лично для автора эта книга представляет собой род духовной автобиографии или исповеди. Она является обобщающим постижением, как бы итогом всего мною пройденного, столь ломаного и сложного – слишком сложного! – духовного пути, я в ней благодарно его озираю. В жизни час вечереющий на небосклоне духовном тихо восходит «звезда светлая и утренняя», и дальний доносится благовест из храма Света Незаходимого. Но зноем палящим томит еще день, круто подъемлется в гору кремнистая стезя, трудный видится путь впереди…
В декабре 1916 года. Москва
Введение
Природа религиозного сознания
1. Как возможна религия?
Современному философу, изощренному в «трансцендентальном методе», должен быть понятен смысл этого вопроса, который, как ни странно, доселе, однако, почти не ставился в трансцендентализме. Его постановка первоначально имеет в виду исключительно критический анализ религиозного сознания, вскрытие предпосылок, суждений, категорий – словом, всего того, что дано в этом сознании, в нем как бы подразумевается и не может быть из него удалено. Поэтому речь идет здесь о формальной или, так сказать, «трансцендентальной» природе религии, а не о том либо ином содержании религиозных представлений; далее, не о психологической стороне религии, но об условиях объективной значимости ее содержания, по отношению к которому психология представляет собой только среду, обстановку, фактическую наличность.
Проблема религии, поставленная «трансцендентально», быть может, всего удобнее вводит в философию религии, причем она представляет собой полную аналогию основным проблемам, исследованным в трех критиках: Канта. Вопрос, который ставится в «Критике чистого разума», таков: как возможна наука в качестве объективного, общезначимого знания, если, конечно, оно возможно? Само ее существование установляется при этом единственно силою факта, именно наличностью математического естествознания, на котором, как известно, «ориентировался» Кант. Фактической предпосылкой для наукоучения Канта явился, несомненно, Ньютон, и общий вопрос о возможности науки для Канта конкретно формулировался так: как возможен Ньютон, если и поскольку он возможен? Отвечая на этот чисто аналитический и критический вопрос, Кант установил, как ему это казалось (а многим кажется и до сих пор), основу общезначимых суждений для науки и в своем учении об опыте попытался выковать броню, предохраняющую от скептицизма, причем фактические условия познания были возведены им в ранг основоположных, категориальных синтезов.
Самый факт науки предшествует анализу и дает для него материал (критика приходит всегда post factum[19 - После свершившегося факта, задним числом (лат.).]), но она стремится удалить из этого факта то, что в нем есть фактичного, генетического, психологического, и выделить из него то, что образует в нем познавательную схему, значимость, смысл; другими словами, критика рассматривает факт лишь как место категорий или частный случай категориального синтеза. Установление категорий и их исследование, расценка, систематизация и составляют дело критики, но она никоим образом не в силах породить из себя какого бы то ни было факта, возникая лишь по поводу факта. И, строго говоря, вне отношения к этому факту ее выводы теряют приложимость и общезначимость: схемы Канта годны, чтобы характеризовать не человека вообще со всей неисчерпаемой полнотой его духа, но только «научного Человека», т. е. всего одну сторону этого духа и его деятельности.
Еще более аналогичным представляется наш вопрос содержанию «Критики практического разума», которая стремится нащупать рациональный скелет этического переживания или установить логику этики. Фактическая обусловленность и второй критики Канта еще более очевидна, чем даже в первом случае, ибо речь идет здесь уже не о познании, логика которого кажется для всех более или менее принудительной, но о направлении воли, природа которой состоит в свободе. Этика существует только для того, кто хочет быть этичным, но она совершенно не писана для insanitas moralis[20 - Морально невменяемые (лат.).], также как и для святости, т. е. для всех тех, кто находится по ту сторону добра и зла, выше или ниже этики. Следовательно, трансцендентальная характеристика этического суждения неразрывно связана с фактом этики, который может рассматриваться и по своей объективной значимости или смыслу, но может трактоваться и как простой психологизм, допускающий для себя лишь причинное или генетическое истолкование. Если этические суждения не имеют фактической принудительности науки или логической принудительности математики, то и все те гносеологические, метафизические и религиозные выводы, которые делает Кант на основании анализа этического переживания («практического разума»), лишены самостоятельной основы и держатся на этической интуиции. Свобода просачивается и подмывает твердый грунт логической необходимости, на котором стремился воздвигнуть плотину против скептицизма и интуитивизма Кант в своей «Критике практического разума».
Наибольшую близость наша проблема имеет к содержанию третьей критики Канта, именно к анализу эстетического суждения, облеченному в чрезмерно схоластическую и не соответствующую своему предмету форму. Как возможно опознание красоты и суждение о ней, «Geschmacksurtheil»[21 - Суждение вкуса (нем.) – термин И. Канта.], конечно, насколько оно возможно, и насколько красота нам доступна? Каковы неустранимые свойства эстетического суждения? Очевидно, что если возможно, с известной логической правомерностью, отрицать принудительность этики, как коренящейся в свободной воле, то уже совершенно естественно подвергать сомнению общезначимую эстетику и объективный характер красоты. Огромное количество людей остается как бы слепорожденными или непробужденными в области красоты, другие отрицают объективный смысл красоты, сводя ее к прихоти вкуса, к чистому субъективизму или «психологизму»; огромное количество людей способно скучать перед «Сикстиной»[22 - Подобное отношение к любимому творению Достоевского продемонстрировал Л. Н. Толстой. Вспоминая свою встречу с ним в Гаспре в 1902 г., С. Н. Булгаков писал: «Я имел неосторожность выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. «Да, привели меня туда, посадили на Forterbank (скамью для пыток), я тер ее, тер ж…, ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила малого, только всего, что же особенного?» И он искал еще новых кощунственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа» (Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 109). Правда, когда в 20?х годах у Булгакова состоялась его «вторая встреча» с «Сикстинской Мадонной», он, по его словам, «увидел и почувствовал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность» (там же).] и за Бетховеном и услаждаться дешевой олеографией и слащавым вальсом. Если это и не умаляет царственной природы красоты и не должно влиять на ее оценку для тех, кому она ведома, то этим, конечно, вносится элемент фактической обусловленности, интуитивности в трансцендентальный анализ чувства прекрасного. Страницы, посвященные Кантом анализу эстетического чувства, в этом смысле принадлежат симптоматически к числу наиболее у него интересных, ибо здесь с полной ясностью обнаруживается недостаточность его рационализма. Эстетическое чувство признается Кантом «совершенно неопределимым путем логических доказательств (Beweisgr?nde), как будто бы оно было только субъективным» (Kritik der Urtheilskraft, Reclam, 145)[23 - «Суждение вкуса вовсе не определимо доводами, как если бы оно было чисто субъективным» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 296).], и в то же время оно притязает на объективность и общезначимость своих оценок, что и приводит Канта к постановке вопроса: «как возможны синтетические суждения a priori в области эстетики?» Художественный вкус поэтому становится у Канта «Verm?gen»[24 - Способность, возможность, сила (нем.).] и рассматривается как аналогичная разуму способность a priori оценивать сообщаемость (Muttheilbarkeit) чувств, которые связаны с данным представлением (без посредства понятия) (160)[25 - «Вкус можно было бы даже определить как способность суждения о том, чему наше чувство придает всеобщую сообщаемостъ без посредства понятия» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 309).].
Нас здесь, однако, не интересует собственно эстетическая теория Канта и вообще принципы «Критики силы суждения»[26 - Современный перевод названия трактата И. Канта – «Критика способности суждения». Перевод С. Н. Булгакова, тем не менее, вполне правомерен. «У Канта в его третьей «Критике», – писал А. В. Гулыга, – в первую очередь речь идет о способности (или даже точнее о силе) оценки, приговора, который прямо или косвенно человек выносит окружающей действительности и самому себе» (Философия Канта и современность. М., 1974. С. 268–269).]. Мы отмечаем лишь то своеобразное употребление трансцендентально-аналитического метода, которое он получает здесь в руках своего творца, и особенно то расширенное его понимание, при котором ему ставится задача вскрыть условия не только научной и этической, но и эстетической значимости, причем анализ этих сторон сознания ведется не в субъективно-психологической, а в трансцендентальной плоскости. Трансцендентальное априори есть то, что присутствует во всяком отправлении данной деятельности сознания, без чего она вообще невозможна, именно не со стороны материи или содержания, но формы или категорий. С таким же правом, как относительно науки, этики и эстетики, может быть поставлена и трансцендентальная проблема религии. Раскрыть трансцендентальную природу религии, выявив категории религиозного сознания, установив здесь «синтетические суждения a priori» (как выразился бы Кант), и должен анализ религиозного сознания. К этому и сводится вопрос: как возможна религия? Для того чтобы правомерно поставить этот вопрос в трансцендентальном смысле, не нужно еще предрешать вопроса о характере религии и данном ее содержании; достаточно лишь того, чтобы можно было и относительно религии поставить то же самое если, какое подразумевается относительно науки, этики, эстетики: если. она есть. Для трансцендентального анализа религии довольно лишь условного предположения или допущения ее существования; наперед и a priori отвергнуть это скромное допущение вряд ли возможно даже в наш скептический век. Религия представляет собой настолько универсальный факт человеческой жизни, что просто его отрицать никому невозможно; если и скажут, что религия не может в настоящее время считаться свойственной в одинаковой мере всему человечеству, то ведь не надо забывать, что этот же аргумент еще в большей степени применим к эстетике, этике, даже науке.
Скепсис в отношении к постановке трансцендентальной проблемы религии, к возможности особой, еще четвертой, «критики» может, однако, с большей правдоподобностью основываться на другом соображении. Возможно оспаривать автономность, первообразность религиозного сознания, признавая за религией только гетерономное существование в качестве производного атрибута или же видя в ней лишь преходящую ступень развития сознания. Пример подобного отношения являет тот же Кант, который в число своих систематически распланированных критик, по мысли его, имеющих обследовать все основные направления и исчерпать все содержание сознания, не включил, однако, особой «критики силы религиозного суждения», между тем как известно, что трансцендентальная характеристика религии запрятана у него во все три его критики[27 - Нам могут возразить, что таковая четвертая критика у Канта в действительности имеется, это именно трактат «Die Religion innerhalb der blossen Vernunft» (написанный в 1793 году, т. е. уже после всех критик), в наибольшей степени дающий ему право на титул «философа протестантизма». Это сочинение в наших глазах является самым важным для понимания духа кантовской философии, ее интимного религиозного мотива, но оно задумано им не как особая «критика», что для Канта и характерно, но лишь как систематическое применение выводов трех критик к христианской догматике.]. И это потому, что он не видел в религии самостоятельной области духа, и не считал религиозного сознания совершенно особой, самобытной стихией сознания вообще, но рассматривал религию исключительно в плоскости этики, считая ее как бы музыкой морали и, пожалуй, ее восполнением. Вне же этики религия, по Канту, не имеет и не должна иметь особого бытия: независимая от морали религиозность, непосредственное почитание Бога, связанное с положительной религией, неизменно клеймится Кантом как «Abg?tterei, Fetischmachen, Afterdienst»[28 - Идолопоклонство, фетишизм, пережиток (нем.).] и под. (см., напр., в Die Religion innerhalb der blossen Vernunft, Reclam, 193 и passim), и лишь ограничение понимания религии рамками чистой морали предохраняет, по его мнению, теологию от превращения в «теософию или демонологию», а «религию – в теургию или идололатрию» (Kritik der Urtheilskraft, Reclam, 358)[29 - Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 496–497]. Религия вне морального ее трактования кажется ему идолопоклонством – Abg?tterei[30 - «Идолопоклонство в практическом смысле – это все еще та религия, которая мыслит высшее существо со свойствами, по которым и нечто другое, а не моральность сама по себе может быть подходящим условием для того, чтобы сообразоваться с его волей во всем, что в состоянии делать человек» (там же С. 497).]. Такое доктринальное предубеждение против самостоятельного трактования сущности религии и эта догматическая нетерпимость в отношении к религии, конечно, составляют личную особенность Канта и не имеют под собой твердой опоры даже в его собственном философствовании. В своем отношении к общей проблеме религии Кант был ослеплен и загипнотизирован собственной религиозной доктриной и потому не мог посвятить трансцендентальному исследованию этой проблемы того внимания, которого именно от нею требовала бы логика трансцендентализма и простая последовательность. Кант является, конечно, не единственным, кому доктринальная предубежденность закрывает глаза на самостоятельную проблему религии. Не говоря уже о многочисленных представителях слепого, фанатического атеизма, у которых практическое отношение к религии выражается в ненависти к ней (ecrasez Finfame)[31 - «Раздавите гадину!» (фр.) – слова Вольтера по поводу католической церкви.], здесь в первую очередь следует назвать представителей немецкого идеализма Фихте (периода Atheismusstreit)[32 - «Спор об атеизме» (нем.) – так называется литературный скандал, разразившийся в Иене в 1799 г. по поводу статьи И. Г. Фихте «Об основании нашей веры в божественное управление миром», опубликованной в 1798 г. в редактируемом Фихте «Философском журнале». В итоге Фихте вынужден был уйти в отставку с поста редактора журнала и переселиться в Берлин. «Спором об атеизме» завершается ранний, так называемый «иенский период» философского творчества Фихте.] и Гегеля, которые одинаково низводят религию с принадлежащего ей места и отдают в подчинение этике[33 - Мораль и религия образуют абсолютное единство: обе устремлены к сверхъестественному, первая – через образ действий, вторая – через образ мыслей… Религия без морали является суеверием, достойным сожаления, как ложная надежда, не способная увенчаться успехом. Мнимая мораль без религии, может быть, помогает вести добропорядочный образ жизни, поступать правильно, уклоняться от зла, но только из страха перед наказанием в чувственном мире, а совсем не из любви к добру, и существует из самой себя (нем.). В дальнейшем, однако, Фихте значительно изменил свою точку зрения. В «Наставлении к блаженной жизни» религиозная точка зрения противопоставляется им моральной как мистическая – дуалистической (см.: Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М., 1979. С. 215–222).] либо философии. Особенно показателен в этом отношении Гегель, для коего религия обозначает лишь ступень, и не самую высшую, в самосознании духа, и потому она преодолевается в философии.
Для того чтобы поставить трансцендентальную проблему религии, нужно только не иметь никакой предубежденности, ни метафизической или спекулятивной, ни догматической, ни эмпирической: нужно смотреть на жизнь открытыми, простыми глазами и уделить всемирно-историческому факту религии то внимание, которое ему естественно принадлежит, даже хотя бы в силу ее распространенности.
И прежде всего, что такое религия? в чем выражается своеобразие религиозного переживания? в чем состоит качество религиозного вообще? При ответе на этот вопрос в тех многочисленных определениях религии, которые делаются в религиозно-философской литературе, в большинстве случаев делается попытка установить те или иные черты (или задачи) истинной религиозности, иначе говоря, высказывается нормативное суждение о том, чем должна или может быть религия в наиболее совершенной форме. Напротив, данная нами постановка вопроса преследует пока чисто формальные цели, так сказать, трансцендентального анализа религии. Мы хотим установить те черты, без которых невозможна религия, гаснет религиозное сознание, которые его, следовательно, конституируют. Мы стремимся обнаружить – sit venia verbo[34 - С позволения сказать (лат.).] – основные категории религиозного суждения. Направление, в котором следует искать такое определение, дано уже в самом слове, выражающем основное существо религии и содержащем поэтому суммарную мысль о ней: religio – religare – связь, связывать, соединять. В религии устанавливается и переживается связь, связь человека с тем, что выше человека. В основе религиозного отношения лежит поэтому основной и неустранимый дуализм: в религии, какова бы она ни была в своей конкретной форме, есть всегда два начала, два полюса. Религия (как это справедливо заметил Фейербах) всегда есть раздвоение человека с самим собой, отношение его к себе как к другому, второму, не-одному, не-единствен-ному, но связанному, соединенному, соотносящемуся[35 - Эту мысль Л. Фейербах неоднократно высказывает в «Сущности христианства» и в «Лекциях о сущности религии». Например, в третьей «Лекции о сущности религии» он пишет: «Существо, которое человек противопоставляет себе в религии и теологии как совершенно иное, от него отличное, есть его собственное существо» (Фейербах Л. Избранные философские произведения/ М., 1955 Т. 2. С. 517).]. В религии человек ощущает, что его видят и знают, прежде чем он сам себя узнал, но вместе с тем он сознает себя удаленным, отторгнутым от этого благого источника жизни, с которым стремится восстановить связь, установить религию. Итак, в самой общей форме можно дать такое определение религии: религия есть опознание Бога и переживание связи с Богом. Если эту религиозную формулу перевести на язык философский, она получит такое выражение: религия есть переживание трансцендентного, становящегося постольку имманентным, однако при сохранении своей трансцендентности, переживание трансцендентно-имманентного. Не следует бояться логической противоположности этих признаков, ибо то, что ими выражается, в своем живом процессе гибче и пластичнее, нежели угловатые, неподвижные логические определения. Впрочем, на пути точного трансцендентального анализа здесь и нет выбора – в религии неизбежно приходится иметь дело с этой сопряженностью противоположных логических полюсов, их взаимоотталкиванием и постоянным притяжением: в категориях религии трансиендентно-имманентное есть основное формальное понятие, в котором осознается связь с божеством. Таково общечеловеческое понимание религии, communis opinio gentium[36 - Общечеловеческое мнение (лат.).], таково же и ее «трансцендентальное» определение, которое нам надлежит далее анализировать.
Для того чтобы утверждать своеобразную свою природу (а не быть только музыкой этики, или же незрелым, несовершенным философствованием), религия должна обладать своим особым органом. Религиозное переживание должно качественно отличаться от смежных и соприкасающихся с ним областей жизни духа. Религия должна иметь как бы свою особую логику, установлять свою собственную достоверность (как имеет ее хотя бы чувство прекрасного, орган эстетического восприятия), она должна иметь око умного видения, проникающего к действительности высшей, куда не досягает ни умственное, ни физическое око. Религиозное переживание удостоверяет человека в реальности иного, божественного мира не тем, что доказывает его существование или разными доводами убеждает в необходимости последнего, но тем, что приводит его в живую, непосредственную связь с религиозной действительностью, ему ее показывает. На подлинно религиозный путь вступил лишь тот человек, кто реально на своей жизненной дороге встретился с божеством, кого настигло оно, на кого излилось превозмогающей своей силой[37 - «Дважды рожденные» у Джемса. Точнее было бы сказать «у Френсиса Ньюмена», у которого У. Джемс заимствовал термин «дважды рожденные» (см.: Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 71). «Тип «один раз рожденного» сознания… развивается прямолинейно и естественно – без всяких душевных кризисов, без болезненного отчаяния…» (там же. С. 73). «Дважды рожденный» (напр., ап. Павел) обращается к Богу под влиянием сильного душевного потрясения, в одно мгновение ока совершается полный разрыв между старой жизнью и новой» (там же. С. 205).]. Религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни философский, ни эстетический, ни этический, и, подобно тому как умом нельзя познать красоту (а можно о ней только подумать), так лишь бледное представление о опаляющем огне религиозного переживания дается мыслью. Чтобы постигнуть религию, познать specificum религиозного в его своеобразии, нужно изучать жизнь тех, кто является гением в религии (как и для эстетики, законы красоты установляются ведь не курсами профессоров эстетики, но творческими созданиями художественного гения). Жизнь святых, подвижников, пророков, основателей религий и живые памятники религии: письменность, культ, обычай, словом, то, что можно назвать феноменологией религии, – вот что, наряду с личным опытом каждого, вернее вводит в познание в области религии, нежели отвлеченное о ней философствование.
Зовы и встречи[38 - Из истории одного обращения. «История одного обращения» носит автобиографический характер. Подробнее см.: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 36–37. Свой переход «от марксизма к идеализму» С. Н. Булгаков объясняет двумя причинами: любовью к Иисусу Христу, привитой ему с детства, и духовным влиянием Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева. К числу этих причин следует, разумеется, отнести и его «чудесную» встречу с «Сикстинской Мадонной», о которой он рассказывает в «Истории одного обращения».]. «Мне шел 24?й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и, после бурных кризисов и сомнений, в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу, погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки, по мере того как все более потухал свет детства. И тогда неожиданно пришло то… Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу…
Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы. Впервые видел я их. И вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь… Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость… А если… если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь? Но разве это возможно? разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет, разве вообще об этом может быть разговор? могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха пред «научностью» и ее синедрионом?[39 - Верховный суд иудеев, приговоривший Иисуса Христа к распятию. Здесь употребляется в ироническом смысле как собрание ученых, обладающих истиной.] О, я был, как в тисках, в плену у «научности», этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков! Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей! И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу… Закат догорел. Стемнело. И то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, – от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось… И Бог отошел. Я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера. И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни.
Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаевала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное днесь. Ныне отпущаеши[40 - «Ныне отпускаешь раба Твоего» – слова Симеона (Лк. 2:29), которому было предсказано Св. Духом, что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа.], звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе: победы над смертью! Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красой первоздания. Но не было слов, не было Имени, не было «Христос воскресе», воспетого миру и горным высям. Царило безмерное и властное Оно, и это «Оно» фактом бытия своего, откровением своим, испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики моей «научности». И не умер в душе этот миг свидания, этот ее апокалипсис, брачный пир, первая встреча с Софией[41 - Для понимания «первой встречи с Софией» С. Н. Булгакова важное значение имеет поэма В. С. Соловьева «Три свидания», в которой он поэтически описывает свои, аналогичные булгаковской, три «встречи» с Софией (см.: Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви…» Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990. С. 118–124).]. Я не знал и не понимал тогда, что сулила мне эта встреча. Жизнь дала новый поворот, апокалипсис стал превращаться во впечатления туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое. Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я в робком и тихом девичьем взоре, у иных берегов, под иными горами. Тот же свет светился в доверчивых, испуганных и кротких, полудетских глазах, полных святыни страдания. Откровение любви говорило об ином мире, мною утраченном[42 - Имеется в виду Елена Ивановна Токмакова, ставшая 14 января 1898 г. женой С. Н. Булгакова. «Настоящим письмом, – писал Булгаков своему другу М. О. Гершензону 9 января 1898 г., – имею известить Вас, что свадьба моя окончательно назначена на вечер 14?го января. Утром пятнадцатого мы едем, заедем в Ливны и 21?го в Москве (22?го у меня лекция). О своей жизни здесь не распишешься: такие моменты или дни не выражаются словами» (ОР РГБ. Ф. 746. К. 29. Ед. хр. 22. Л. 23). Свадьба состоялась в Кореизе (в Крыму), где в последующие годы С. Н. Булгаков проводил летние месяцы в имении своего тестя, крымского винодела И. Ф. Токмакова. Из Крыма же в канун Нового, 1923 г. Булгаков вместе с семьей был выселен за пределы России по решению советского правительства.].
* * *
Пришла новая волна упоения миром. Вместе с «личным счастьем» первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия… И вдруг нежданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова.
Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger[43 - Цвингер – название барочного архитектурного ансамбля, в котором размещается Дрезденская галерея.] с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, – знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце»[44 - Неточная цитата из Евангелия от Луки: «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его: се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (2:24).], Он Голгофу… Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо… Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез…
Я возвратился на родину из-за границы потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. Земля ползла подо мной неудержимо. Я упорно работал головой, ставя «проблему» за «проблемой», но внутренне мне становилось уже нечем верить, нечем жить, нечем любить. Мною владела мрачная герценовская резиньяция:.. Но чем больше изменяли мне все новые боги, тем явственнее подымались в душе как будто забытые чувства: словно небесные звуки только и ждали, когда даст трещину духовная темница, мною самим себе созданная, чтобы ворваться к задыхающемуся узнику с вестью об освобождении. Во всех моих теоретических исканиях и сомнениях теперь все явственнее звучал мне один мотив, одна затаенная надежда – вопрос: а если? И то, что загорелось в душе впервые со дней Кавказа, все становилось властнее и ярче, а главное – определеннее: мне нужна была не «философская» идея Божества, а живая вера в Бога, во Христа и Церковь. Если правда, что есть Бог, то, значит, правда все то, что было мне дано в детстве, но что я оставил. Таков был полусознательный религиозный силлогизм, который делала душа: ничего или… все, все до последней свечечки, до последнего образка… И безостановочно шла работа души, незримая миру и неясная мне самому. Памятно, как бывало на зимней московской улице, на людной площади, – вдруг загорался в душе чудесный пламень веры, сердце билось, глаза застилали слезы радости. В душе зрела «воля к вере», решимость совершить наконец безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, «от марксизма» и всяких следовавших за ним измов к… православию[45 - Об идейной эволюции С. Н. Булгакова «от марксизма к… православию» см.: Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896–1903). СПб., 1903; Его же. From marxism to sophiology // Revue of Religion. 1937. Vol. 1. № 4. P. 361–368.]. О, да, это конечно, скачок к счастью и радости, между обоими берегами лежит пропасть, надо прыгать. Если придется потом для себя и для других «теоретически» оправдывать и осмысливать этот прыжок, потребуется много лет упорного труда в разных областях мысли и знания, и всего этого будет мало, недостаточно. А для того чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в православие, вернуться к его «практике», нужно было совершить еще долгий, долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту. И тем не менее в сущности вопрос был уже решен: с того берега смотрел я на предстоящий мне путь, и радостно было сознавать это. Как это совершилось и когда, – кто скажет? Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свои прозрения? Но с некоторого времени я со всею достоверностью узнал, что это уже совершилось. И от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг – приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм, увидел я (тогда «депутат»[46 - С. Н. Булгаков был избран депутатом II Государственной Думы от Орловской губернии как беспартийный «христианский социалист». Он девять раз поднимался на ораторскую трибуну: 24 февраля, 5 марта, 7 марта, 12 марта, 15 марта, 27 марта, 7 мая, 15 мая и 17 мая 1907 г. (см.: Государственная Дума. Второй созыв. Стенографический отчет. СПб., 1909. Т. 1. Стб. 27–28, 84–85, 210–212, 397–401, 546–548, 1245–1249; Т. 2. Стб. 281–284, 577–580, 749–759). II Думе посвящены две статьи С. Н. Булгакова: «Церковный вопрос в Гос. Думе», «Из думских впечатлений. Прения о военно-полевых судах» // Век. 1910. № 10, 12. Об участии С. Н. Булгакова в работе II Государственной Думы и о его встрече (вместе со Струве, Челноковым и Маклаковым) с П. А. Столыпиным накануне ее закрытия см.: Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. London, 1991. С. 246–247.]) причащающихся под волнующие звуки: «Вечери Твоея тайныя»… Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука…
Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила… Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы «для готовящихся к исповеди», я почти выбежал из церкви, «изшед вон, плакася горько». В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился… в келье у старца. Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности – я знал это тогда достоверно – со мной случилось чудо… Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие как капля пред океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня, в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», – умиленно говорил он потом…
И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы и длинными рядами белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят грядами леса. Вдруг среди этой тишины, откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола, затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили ко всенощной. Словно впервые, как новорожденный, слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую: и для меня, и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую Кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это чтение Евангелия, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить святейшего Тела и Крови Господа моего»[47 - См.: Мф. 26: 6-13.]
* * *
Итак, в основе религии лежит пережитая в личном опыте встреча с Божеством, и в этом заключается единственный источник ее автономии. Как бы ни кичилась мудрость века сего; бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о религии, знают ее сущность. Связь же между религией и другими сторонами жизни духа, которая несомненно существует, имеет не первообразный, но производный, не онтологический, но психологический характер.
Религия зарождается в переживании Бога (под каким бы обликом ни совершилось это богооткровение). Но, чувствуя Бога, человек тем самым ощущает себя в «мире», другими словами, для него открывается основная религиозная антитеза, неизменно сопровождающая религиозную жизнь, – противоположность Бога и мира. Как будто от луча света, упавшего с высоты и свыше озарившего собою мир, загорается в душе сознание мира божественного, а вместе и установляется грань между. горним и дольним, их разделяющая, но вместе и соединяющая. И в этом свете по-иному является этот мир, получается совершенно другой вкус, новое ощущение бытия – чувствование мира как удаленного от Бога, но вместе с тем от Него зависящего. В душе человеческой появляется сознание неабсолютности и внебожественности, а следовательно, относительности и греховности своего бытия, но одновременно зарождается и стремление освободиться от «мира», преодолеть его в Боге; другими словами, вместе с религиозным самосознанием в человеке родится и чувство зла, вины, греха, отторженности от Бога, а равно и потребность спасения и искупления. Подняться из плена мира к Богу, из порабощенности в царство свободы – такую жажду пробуждает в душе всякая религия, и тем глубже, чем выше и совершеннее она сама. Поэтому религиозное мироощущение неизменно сопровождается известным разочарованием в этом мире, пессимизмом в отношении к данному его состоянию, тем, что иногда зовется «мировой скорбью», но в то же время пессимизм этот есть только тень, которую бросает свет радостной веры, сулящей победу над миром, подающей надежду на освобождение и спасение. Мир утрачивает свою безусловность и свою единственность: над миром и в мире есть Бог, такова радостная весть всякой религии. Потому вообще религия – конечно, живая религия – есть радость всех радостей, хотя она и связывается с относительным пессимизмом, пробуждением от сна самодовольства и миродовольства.
Впрочем, если осознанная потребность искупления и спасения, как и мировая скорбь, психологически располагает к религии, однако сама по себе она еще не является ею, как поставленный вопрос, хотя уже предполагает возможность разрешения, все же сам не становится еще ответом. Для религиозного самоощущения решающим остается одно: прикосновение Божества, вера, «яко есть»[48 - На значение пессимизма и потребности искупления указывают с особой настойчивостью философы пессимизма Гартман и Древе. В глазах последнего «alle Religion ihrem Wesen nach ist Erl?sungsreligion», и для религиозно-философского исследования ставится поэтому задача показать, «wie das religi?se Verh?ltniss gedacht werden muss, um dem Erlosungswillen ohne Widerspruch mit sich selbst die erstrebte Befriedigung zu verschaffen» (Drews A. Die Religion als Selbstbewusstsein Gottes. 1906. S. 62). Всякая религия есть по сути религия спасения… как следует мыслить религиозное отношение, чтобы через спасение добиться желаемого удовлетворения без противоречия с самим собой (нем.). Чрезмерная подчеркнутость этого мотива в их построениях всецело связана с их общей и религиозной метафизикой.].
Основное переживание религии, встреча с Богом, обладает (по крайней мере на вершинных своих точках) такой победной силой, такой пламенной убедительностью, которая далеко позади оставляет всякую иную очевидность. Его можно позабыть или утратить, но не опровергнуть. Вся история человечества, что касается религиозного его самосознания, превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку или просто нелепость, если не признать, что она опирается на живой религиозный опыт, т. е. если не принять, что все народы как-то видели и знали свои божества, знали о них не из одного «катехизиса». У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова: и сказал мне Бог. Приходилось ли нам когда-нибудь задумываться над этими словами? Пытались ли мы понять их, хотя отдаленно переведя эти слова на свой религиозный опыт? «И сказал мне Бог»! Что это: неужели же только галлюцинация, самообман, шарлатанство, литературный прием, или?.. А если правда… если правда, что написано в этих книгах: Бог говорил, а человек слушал, слышал… Бога, конечно, не физическим органом слуха, но слышал сердцем, всем существом своим, и слово Божие звучало громче, чем все громы мира, убедительнее и достовернее, чем все его разумение.,
Из интимного письма[49 - Отрывок «Из интимного письма» также носит автобиографический характер: 27 августа 1909 г. умер от нефрита сын С. Н. Булгакова. «Как изобразить Вам пережитое? – писал он 27 сентября 1909 г. Г. А. Рачинскому. – Скажу одно: я еще никогда не переживал такой муки в своей в общем благополучной, хотя и не свободной от утрат жизни. Мальчик этот наш (Ивашек, 3 л. 7 мес.) был особенный, необыкновенный, с небесным светом в очах и улыбке. Всегда вспоминаю, что родился он в Христову ночь, когда к заутрене звонили колокола. Вестник неба и ушел на небо» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2689. Л. 2).]. «Я не хочу прощать небу его страданий, его распятия. Как я могу простить то, чего я не умею понять! Я и не должен прощать, ибо Бог осудил ведь своих «адвокатов» около Иова, которые все объяснили и обо всем рассудили[50 - Иов. 42:7.]. Мне казалось, – кажется и теперь, через много лет спустя, – что Бог и не хотел от меня легкого примирения, ибо я должен был принять орудие в сердце. Нелегка ты, жертва Авраама», не из благополучной, но из растерзанной души исторгался пред лицом невинной жертвы вопль мой: прав Ты, Господи, и правы суды Твои! А я это говорил всем сердцем своим! О, я не бунтовал и не роптал, ибо жалок и малодушен был бы бунт, но я не хотел мириться, ибо постыдно было бы и примирение. Отец молча ответил мне: у изголовья его тела стало Распятие Единородного Сына. И я услышал этот ответ и склонился пред ним, но неповинные страдания и чей-то сарказм густым, непроницаемым облаком легли между Распятием и его телом, и – я твердо знаю это – здесь, в этом облаке, тайна и моей собственной жизни. Знал я и тогда, что очень легко, соблазнительно легко постараться забыть об этом облаке, обойти его как-нибудь, – ведь неприятно же носить в душе нечто совсем непонятное, да и пристойнее жить в мире с важными особами… Иначе же – только подвигом, крестом целой жизни могу я рассеять это облако, – оно может рассеяться, это я тоже знал достоверно, оно есть тень моего собственного греха, ибо ведь я сам распял его своими грехами. И об этом говорил он мне в ту голгофскую ночь: «Неси меня, папа, кверху, – пойдем с тобою кверху!» О, пойдем, пойдем, дитя мое, мой вождь, учитель, ангел-хранитель мой!
Но здесь начинается невыразимое словом….
Святой мой, у святыни мощей твоих, у чистого твоего тела, белый мой, светлый мальчик, узнал я, как говорит Бог, понял, что значит: Бог сказал! В новом, никогда доселе неведомом ясновидении сердца – вместе с крестной мукой сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе воцарялся Бог. Сердце мое отверзлось на боль и муку людей, – пред ним раскрывались доселе чуждые и потому закрытые сердца с их болью и горем. Единственный раз в жизни понимал я, что значит любить не человеческой, себялюбивой и корыстной любовью, но божескою, какою Христос нас любит. Как будто завеса, отделявшая меня от других, спала, и мне открылся в сердцах их весь мрак, горечь, обида, озлобление, страдание. И в несказанном восторге, исступлении, самозабвении говорил я тогда, – ты помнишь это, мой белый! – говорил я: мне Бог сказал, я так же просто, и тебя слыша, прибавлял, что и ты мне сказал. И Бог говорил мне тогда, и ты говорил! О, теперь я живу опять во мраке и холоде и лишь по памяти могу говорить об этом, но я уразумел, что это значит: Бог сказал. Тогда раз навсегда я узнал, что Бог действительно говорит, а человек слышит и – не испепеляется. Я знаю теперь, как Бог говорит пророкам. О, ангел мой светлый! Это может показаться безумием и самоослеплением, хулой и кощунством, но ведь ты же знаешь, что это не так, тебе я не могу сказать неправды. Я знал тогда с последней достоверностью, что Бог говорил мне, и так говорил Он и пророкам. О, иное и иначе говорил пророкам, и они были иные, – неизмеримую бездну между мною и ими знал и ощущал я тогда, не меньше знаю и теперь. Но Бог – один, и Его безмерное к нам снисхождение одинаково, и пусть между моей темной, греховной душой и святою душою пророка лежит великая бездна, но ведь еще неизмеримее та бездна, которая лежит между Богом и всякою тварью, – и, как тварь, ведь и я, и пророки – одно, и Он говорит твари… Забыть это и усомниться после этого значит для меня умереть духовно. Можно потерять свое сокровище, испугаться пред его защитой, но и недостойно брошенное и утраченное, оно есть все-таки сокровище…
«Вем человека о Христе, который вознесен был на третье небо»[51 - 2 Кор. 12:2.]… Читали ли эти слова? задумывались ли, что они означают? Если это не бред или самообман, если правда то, что здесь написано, и было, как написано, то что же это значит для видавшего? каким взором должен был он смотреть на мир после виденного, когда небо открылось!..