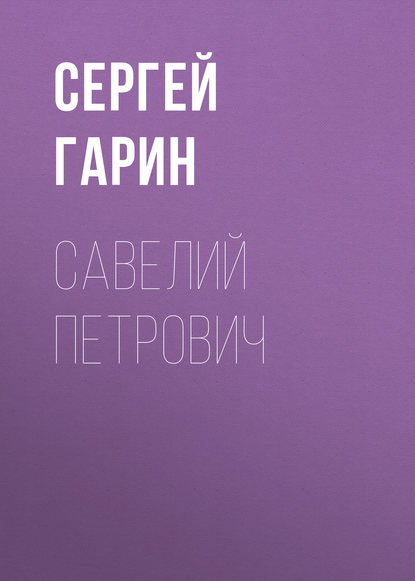По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Савелий Петрович
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Корка продолжал:
– Затем еще одно обстоятельство: новый наш гость – очень красивой и привлекательной наружности, так что алатуевскому дамскому и девичьему полу предстоят большие искушения!..
В буфетной было несколько ревнивых мужей и молодых людей. Услыша последнюю фразу Андрея Ивановича, они насторожились и сразу возненавидели приезжего корнета, будто приехал он с намерением ограбить и без того беспросветную жизнь их…
II.
Была поздняя ночь. За большим столом сидела компаний, состоявшая из Савелия Петровича, Луки Архиповича, исправника, директора местной гимназии, доктора из земской больницы, мирового судьи и Андрея Ивановича Корки.
В центре сидели Федор Александрович и виновник торжества – приезжий корнет. Вся компания была пьяна, но пьяней всех был корнет – белокурый мальчик с вздернутым немного носом и чуть заметным пушком над верхней губой. У него были хорошие, детские голубые глаза, но они теперь были подернуты пьяным флером, как-то неестественно маслились, порой слезились. Его синяя с золотыми шнурами куртка была расстегнута.
Федор Александрович, – управляющий государственным банком в Алатуеве – был тоже очень пьян, но пьян солидно, как и подобает чиновнику в чине статского советника… Он шевелил нависшими седыми бровями, подбирал нижнюю губу и все время встряхивал головой, будто желал сбросить с нее что-то постороннее, мешающее ему жить и думать. Порой он искоса поглядывал на племянника, и тогда в глазах его светилось умиление.
– Племянник!.. Понимаешь: племянник! – наклонялся он к сидевшему напротив исправнику, и слезы текли по его бурым щекам, – Кровь сестры моей покойной, единственной!..
Исправник пялил на корнета рачьи глаза и покровительственно качал круглой, как тыква, головой:
– Ма-аладец!.. – басил он, криво улыбаясь. – Видно сразу, что наш брат… военный!.. М-да!..
– Водку пьет па-аразительно!.. – пропищал Лука Архипович и захихикал.
Корнет поднял на него совершенно бессмысленные теперь глаза.
– Что-о?..
– Я говорю: водку пьете хорошо! – повторил Лука Архипович.
На лицо корнета легла дымка грусти. Будто напомнили ему о чем-то дорогом, давно ушедшем в прошлое…
– Водку?.. Да… это… могу!..
Он трясущейся рукой налил себе в стакан коньяку и выпил его в два приема.
– Петя! – укоризненно обернулся к нему Федор Александрович. – Ты… того…
Но затем сам налил себе того же коньяку и полез чокаться с судьей.
Савелий Петрович был трезвее всех. Он сидел на конце стола, выпил всего четыре рюмки водки, а в последующие разы, когда пили все и с ним чокались, тихонько выливал содержимое под стол. Делал он это с мастерством фокусника и так ловко, что никто этого не заметил. Он сидел и воспаленными глазами смотрел на корнета, и в душе его поднималась горечь какой-то, неизвестно откуда появившейся, обиды. Он ненавидел сейчас корнета так, что, если бы было можно, он ткнул бы ему в глаз вилкой, плеснул бы в его лицо остаткам чая, бросил бы в него огрызки колбасы.
Это была ненависть не Грибанова – алатуевского податного инспектора, а – маленького, ничтожного человечка, заброшенного судьбой в поганую и тусклую дыру, не видевшего ничего в прошлом и отчаявшегося в будущем.
– Щенок! Щенок!.. В петербургских гостиных!.. Среди министров! – кричало что-то внутри Грибанова, и он ежился от обиды, зависти, и трясся от безысходного горя. – Женщины!.. Красивые!.. Богатые!.. – проносилось дальше в мозгу податного инспектора, и вставал образ его жены-мещанки, оплывшей, некультурной бабы…
И податной инспектор не пил и не ел, обдумывая: какую бы гадость устроить этому опьяневшему мальчишке?..
В третьем часу ночи Федор Александрович поднялся и пошел играть с исправником на биллиарде. Поднялись из-за стола и другие – кто в биллиардную, кто – просто подремать на диванах в библиотечной. В комнате остались: корнет, упавший головой на стол, Савелий Петрович, сидевший все еще на своем месте, и дремавший за буфетом на стуле буфетчик.
Уходя, Федор Александрович пробовал было растолкать племянника, но тот что-то мычал и тыкался в стол ГОЛОВОЙ.
– Оставьте его… – сказал Савелий Петрович. – Пусть проспится!
Корнета оставили в покое. И когда все ушли, Грибанов тихо поднялся со стула, также тихо подошел к корнету, боязливо оглянулся на буфетную стойку и… смачно плюнул корнету в затылок… Затем схватил банку с горчицей, запустил в нее закорузлый указательный палец и, набрав горчицы, стал злорадно мазать корнету лицо и тужурку…
А потом, ступая по-кошачьему, вышел из буфетной, пробрался боком в переднюю, оделся и вышел…
Над городом ползли те же грязные, дождевые тучи… И, неуклюжий и длинный, как нахохлившийся ворон, мигал последним светом керосиновый фонарь над подъездом собрания…
А Савелий Петрович бежал домой мелкими, трусливыми шажками и ехидно улыбался…